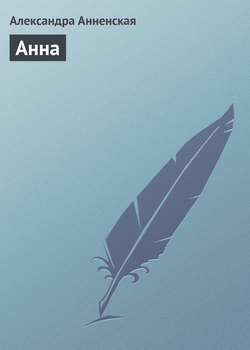Читать книгу Анна - Александра Анненская - Страница 2
Глава II
ОглавлениеАнна Федоровна Карпова была дочерью священника и очень молодая вышла замуж за небогатого чиновника соседнего уездного городка. У нее было несколько человек детей, но все умирали очень скоро после рождения. Одна только дочь, самая младшая, осталась жива и росла на утешение отца и матери. Впрочем, отцу недолго пришлось радоваться на свою маленькую девочку; Саше еще не исполнилось и семи лет, как он заболел и вскоре умер. После смерти его Анне Федоровне пришлось самой работать, чтобы добывать необходимые средства к жизни для себя и ребенка. Она бодро принялась за труды – и вскоре самые богатые барыни города не давали шить свои платья и шляпки никому, кроме нее. Маленькая Саша не нуждалась ни в чем необходимом. Мать и единственная прислуга в доме, Матрена, нянчившая всех детей Анны Федоровны, посвящали ей всю свою жизнь. Самая хорошенькая комнатка в небольшой квартире была отдана в ее распоряжение; одета она была не хуже богатых девочек ее лет; когда ей пришло время учиться, Анна Федоровна отдала ее не в школу для детей бедных горожан, а во французский пансион, где она сидела рядом с дочерьми тех барынь, на которых работала ее мать. Желание Саши было законом для обеих женщин; чтобы доставить ей удовольствие, они готовы были целые ночи просиживать за работой. И девочка ценила эти заботы, эту любовь. Немножко избалованная, она иногда была капризна и требовательна; но стоило ей заметить, что ее капризы огорчают мать, – и на глазах ее тотчас же появлялись слезы раскаяния, и она всеми силами старалась загладить свой необдуманный поступок. Анна Федоровна и Матрена считали ее чудом красоты, ума и доброты. Она и в самом деле была добрая и неглупая девочка, хотя не отличалась никакими необыкновенными способностями; зато красота ее действительно обращала на себя общее внимание. Когда она, ребенком, весело припрыгивая, возвращалась из пансиона домой в сопровождении Матрены и легкий румянец играл на ее нежных беленьких щечках, а глаза ее ярко блестели и светились, встречавшиеся на дороге барыни не могли удержаться от восклицания: «Какая прелестная девочка!». Когда она – высокая, стройная девушка, с удивительно нежным цветом лица, глубокими темно-синими глазами и длинными, густыми, золотистыми волосами – гуляла с матерью в общественном городском саду, прохожие заглядывались на нее, и не раз приходилось ей краснеть, слыша восклицание: «Какая красавица!».
Саше только что исполнилось семнадцать лет, и она, окончив курс в пансионе, искала уроков, чтобы облегчить матери ее трудовую жизнь, когда в город приехал из Петербурга один очень богатый барин, помещик села Опухтина. Он где-то случайно увидал Сашу, и она с первого же раза необыкновенно понравилась ему. Он познакомился с Анной Федоровной и через несколько недель знакомства стал просить у нее руки ее дочери. Грустно было Анне Федоровне выдавать замуж дочь, которую она считала еще почти ребенком, и выдавать за человека малознакомого, который должен был увезти ее далеко, в Петербург, но Саша объявила, что будет несчастна всю жизнь, если мать не согласится на ее брак, и Анна Федоровна скрепя сердце дала свое согласие. Матвей Ильич – так звали жениха – отпраздновал свадьбу великолепнейшим образом, осыпал молодую жену свою самыми богатыми подарками и через три дня после венчания увез ее в Петербург, где она должна была начать совершенно новую для себя жизнь, среди роскоши и богатства.
Саша уговаривала было мать переехать к ней, жить в Петербурге, в ее доме, но Анна Федоровна и слышать об этом не хотела.
– Нет, милая моя, – решительным голосом сказала она, – пока я имею силы работать, я ни за что не соглашусь жить за счет твоего мужа. Да и зачем я с тобой поеду? Ты счастлива, я тебе не нужна; у тебя будут богатые знакомые, важные родные – что я стану делать среди них? Ты знаешь, я женщина простая, малообразованная, к светскому обществу не привыкшая; еще тебе, пожалуй, пришлось бы краснеть за меня.
Саша в душе не могла не сознавать, что мать отчасти права, и не настаивала больше, тем более что и Матвей Ильич не выражал особенного желания жить вместе с тещей.
Пустыми и одинокими показались Анне Федоровне и Матрене комнатки их квартиры, когда они вернулись домой, проводив молодых. Вся жизнь их в течение десяти лет была посвящена Саше, трудам для нее, заботам об ее удобствах и удовольствиях – и вдруг теперь Саши нет… Для кого же жить? Для кого работать?
Несколько дней обе женщины были как потерянные: они не принимались ни за какое дело, не готовили для себя даже пищи. Анна Федоровна в сотый раз пересматривала все маленькие вещицы, принадлежавшие Саше и оставленные ею у матери; в сотый раз она и Матрена пересказывали друг другу разные мелкие происшествия из жизни их любимицы, хотя все эти происшествия давно были очень хорошо известны, обеим, им.
Но мало-помалу время сделало свое дело и несколько притупило их горе. Волосы Анны Федоровны поседели; она продолжала шить платья и шляпки для городских модниц, но работала менее усердно, чем прежде, отказывалась от спешных заказов и часто по целым часам сидела сложа руки, бесцельно глядя перед собой. Матрена исполняла по-прежнему должность кухарки, но она не придумывала каждый день какого-нибудь сладенького и в то же время дешевенького кушанья; она перестала весело смеяться, распивая кофе с соседней прислугой, – она заметно сгорбилась, постарела. От Саши часто приходили письма: веселые, нежные письма, в которых она описывала свою счастливую жизнь с любимым мужем и уверяла, что для полноты счастья ей недостает только одного: чтобы дорогая мама и милая няня жили с ней. Можно себе представить, как радовали эти письма Анну Федоровну и Матрену! Анна Федоровна обыкновенно перечитывала их до тех пор, пока и она, и Матрена не знали их наизусть; затем они пересказывали их всем, кто сколько-нибудь интересовался Сашей, и вели между собой длинные разговоры и споры о значении каждой фразы, чуть ли не каждого слова драгоценного послания.
Так прошло четыре года после свадьбы Саши. Вдруг Анне Федоровне принесли письмо, написанное не рукою дочери. Она распечатала пакет, не предчувствуя беды, и чуть не упала в обморок, читая письмо. Оно было от Матвея Ильича. Он писал, что у него родилась дочь, но что жена его очень больна и беспрестанно зовет к себе мать; он посылал теще деньги на дорогу и умолял ее не медлить ни минуты. Анна Федоровна тотчас же собралась и в тот же день уехала в Петербург. Она нашла Сашу при смерти. Все в доме хлопотали около нее, а на новорожденную малютку мало обращали внимания; она казалась совсем слабой, хилой, и все решили, что ей не пережить матери. Несмотря на все свое горе при виде болезни дочери, Анна Федоровна почувствовала сострадание к бедной малютке, обреченной на смерть через несколько дней после рождения. Она взяла на свое попечение крошку, названную в честь ее Анной, и делила свои заботы между нею и Сашей. Через десять дней бедная молодая женщина умерла. Матвей Ильич был в отчаянии. Он рвал на себе волосы, проклинал докторов, не сумевших спасти от смерти его дорогую жену, отказывался видеть ребенка, делать какие-нибудь распоряжения. Горесть Анны Федоровны была едва ли не менее сильна, хотя выражалась менее резко. Навряд ли хватило бы у нее даже сил перенести страшный удар, если бы судьба не послала ей в утешение малютку Аню. Благодаря ее заботам, девочка, видимо, поправлялась, и опытный детский доктор, осмотрев ее, нашел, что за ее жизнь нечего больше бояться. Известие об этом мало обрадовало Матвея Ильича.
– Я не могу любить эту девочку, я не могу даже видеть ее, – сказал он Анне Федоровне, пришедшей сообщить ему слова доктора, – она слишком напоминает мне покойницу. Умоляю вас, окажите мне великое благодеяние: возьмите ребенка на свое попечение, живите с ним в Опухтине, тамошний воздух будет полезен, а вы любите деревню; денег берите у меня сколько хотите, только не заставляйте меня самого заботиться о девочке, это свыше сил моих.
Взять на свое попечение Аню! Да это было такое счастье, о котором Анна Федоровна не смела и мечтать.
Как только девочка была в состоянии перенести путешествие, она отправилась с ней в Опухтино. Матвей Ильич отдал приказание управляющему имением не жалеть денег для доставления всевозможных удобств его теще и дочери; но Анна Федоровна не потребовала больших расходов – ни для себя, ни для ребенка. Она никогда не жила, в богатстве и не имела даже понятия о том, как устроить свою жизнь роскошно. Ей казалось нелепым заставлять отделывать для себя запустелые комнаты большого барского дома, отделенного огромным садом от остального мира; она не видела никакой надобности набирать для себя толпы прислуги. Она поселилась вместе с Аней в небольшом флигеле, служившем в прежние времена жилищем главного садовника; выписала из города Матрену – помогать ей нянчиться с ребенком, а для грубой домашней работы наняла себе смирную деревенскую девушку.
Воздух Опухтина действительно оказался здоровым для Ани. Она росла толстеньким, живым, веселым ребенком, почти не страдая от обыкновенных детских болезней. Анна Федорович мечтала сначала сделать из нее такую же беленькую, нежную барышню, какою была Саша, но вскоре убедилась, что это невозможно. В два года Аня плакала около калитки сада и просилась на улицу к босоногим деревенским ребятишкам; в три года она пролезала между двумя перекладинами забора и, очутившись на улице деревни, ни за что не соглашалась вернуться в свой сад. Встревоженная Анна Федоровна просила Матрену не оставлять ребенка и всюду следовать за ним. Матрена два-три лета заботливо ходила за своей питомицей, но потом увидела, что труд этот ей не по силам, да и совершенно бесполезен: ей было не угнаться за резвой девочкой, бегавшей, скакавшей и лазавшей без устали целые дни; Аня перезнакомилась и передружилась со всеми детьми деревни; старшие девочки слегка присматривали за ней; она участвовала во всех играх и шалостях младших и училась у них остерегаться больших опасностей и мужественно переносить мелкие невзгоды вроде заноз, царапин и синяков. В первое время Анна Федоровна беспокоилась, когда девочка уходила на несколько часов из дома и даже из деревни, забиралась в лес или вместе со своими маленькими приятелями и приятельницами отправлялась на дальний сенокос – снести работавшим там крестьянам обед; но мало-помалу она привыкла к этим отлучкам. Аня возвращалась домой такая веселая, довольная, с таким здоровым румянцем на щеках и с таким славным аппетитом, что бабушке приходилось только радоваться на нее. В девять лет Аня вместе с мальчишками лазала по деревьям за птичьими гнездами, не задумываясь, перепрыгивала через рвы и перелезала через заборы, помогала пастухам загонять домой коров и коз, ловко работала большими граблями и смело правила лошадью, стоя в пустой телеге или сидя на верхушке огромного воза сена. По наружности она очень мало чем отличалась от крестьянских девочек, разве тем, что благодаря заботам бабушки и няни, была поздоровее да почище их. Попытка Анны Федоровны одевать ее, как барышню, совершенно не удалась: она рвала в клочки свои кисейные платьица, изнашивала в неделю пару прюнелевых ботинок, портила шляпки, употребляя их то вместо корзинки, то вместо посуды для черпания воды.
– И зачем ты, бабушка, шьешь мне эти гадкие платья! – чуть не со слезами на глазах говорила девочка, примеривая хорошенький костюм, сшитый для нее Анной Федоровной. – Так в них тесно и неловко! Я, знаешь, лучше поменяюсь со Стешей: у нее болит ножка, она все равно сидит дома, я отдам ей это платье, а себе возьму ее сарафан – в нем лучше.
И, несмотря на возражения бабушки, мена совершалась: больная Стеша сидела у окна своей избы в нарядном костюме, а Аня, вполне довольная своей выдумкой, бегала по деревне в заплатанном сарафане.
Бабушка и няня добродушно смеялись над проказницей; хорошенький костюм прятался в сундук, а вместо него Ане шили простые сарафаны; ей позволяли бегать без шляпки и зонтика и даже в теплые дни снимать чулки и ботинки.
– Пусть себе резвится, только бы была здорова! – говорила няня, с любовью следя глазами за своей питомицей.
– А что, Матрена, – озабоченно спрашивала бабушка, – ведь ей далеко до покойницы Сашечки: та в ее годы была такая красавица, загляденье!
– А, полноте, сударыня, – сердилась Матрена, – красавица! Да чем наша Анюточка не хороша? Полненькая, красненькая! Какой вам еще красоты нужно; известно, ребенок, вырастет, и она будет загляденье!
Навряд ли кто-нибудь, посмотрев на девятилетнюю Аню, согласился бы с мнением Матрены. Еще зимою, когда загар и веснушки несколько сходили с лица ее, она становилась красивее, но летом трудно было назвать хорошеньким это толстенькое, краснощекое личико, смуглое от загара, вечно исцарапанное или кошками, или ветвями деревьев. Впрочем, Аня нисколько и не заботилась о своей наружности; едва ли ей когда-нибудь приходил в голову вопрос о красоте; только бы ей не мешали играть и бегать, а то не все ли равно – хороша она или нет? На другой, более важный вопрос: счастлива ли она – девочка также не сумела бы ответить.
– Как – счастлива ли? Не знаю! – сказала бы она, с недоумением вытаращив свои синие глазки, и, не привыкнув задумываться над трудными вопросами, тотчас занялась бы чем-нибудь другим.
А между тем она действительно была счастлива. Все лето было для нее одним длинным, веселым праздником. Почти каждый день приносил ей какое-нибудь новое удовольствие: то затевались шумные игры на улице, то отдаленные прогулки с деревенскими друзьями, то собирание ягод, грибов, орехов; то она помогала сгребать сено на громадном лугу, где конца не видно было копнам, и засыпала на душистой траве; то открывала в чаще гнездо с какими-нибудь удивительно красивыми яичками, которые показывались только любимым подругам; то она набирала целые пуки полевых цветов и плела из них самые разнообразные венки; то она работала в своем собственном садике, устроенном для нее няней под окнами домика; то кормила кур и уток, клевавших зерна из ее передника; то приручала белочку или ежа; то бегала смотреть, как доят коров и бьют масло; то упрашивала какого-нибудь мужика взять ее с собой на мельницу и восхищалась плеском воды у плотины, шумом мельничных колес, видом белой, мягкой муки. Все окружающее доставляло ей удовольствие. Ей весело было встать очень-очень рано утром, пока бабинька еще спала, неслышными шагами, в одной рубашоночке выйти из комнаты, взобраться на чердак и, просунув голову в слуховое окно, любоваться на утреннюю зарю и на первые лучи восходящего солнца; ей весело было в полуденный жар купаться и плескаться в речке или войти в лесную чащу, где все было так тихо и прохладно, где со всех сторон неслись такие чудные запахи. Ей весело было и играть с другими детьми, и тихонько идти одной среди полей, на которых волновалась спелая, высокая рожь, и сидеть на берегу речки, любуясь, как солнце серебрит одну струйку за другой. Ей не приходилось страдать ни от несправедливости старших, ни от ссор с детьми. Бабушка и няня души в ней не чаяли; прежде чем за что-нибудь, побранить ее, они долго совещались, как бы не слишком огорчить девочку, и всякий выговор их превращался в ласку. Подруги и товарищи любили Аню за ее веселость и смелость, за ее добрый, уступчивый нрав, за ее готовность всякому помочь, со всяким вместе и поплакать, вместе и посмеяться. Без ссор дело, конечно, не обходилось, но это были маленькие ссоры, начинавшиеся из-за пустяков, очень скоро кончавшиеся и не оставлявшие по себе никакого неприятного чувства.
Зимой в деревне было, конечно, не так весело, как летом. Но во-первых, игры на улице прекращались только в самые холодные, ненастные дни; во-вторых, бабушка всегда позволяла девочке приглашать к себе сколько она хотела гостей, и Аня с помощью тряпичных кукол, деревянных чашечек, столов и стульев, придумывала разные замысловатые игры, за которыми ни она, ни подруги ее не замечали, как летело время. А зимние вечера! Как любила их девочка! В эти вечера бабушка часто надевала очки и, придвинув к себе поближе две свечи, читала что-нибудь из больших книг, хранившихся в ее сундуке. Читала она или жития святых, или какое-то длинное, бесконечное путешествие. Аня сидела на маленькой скамеечке, прислонившись головкой к ее ногам, и слушала. Она мало понимала читаемое, но ей приятно было прислушиваться к тихому голосу старушки; из нескольких понятных ей слов и фраз она составляла свои собственные истории и обдумывала их, занималась ими, пока не засыпала, убаюканная тишиной и мерным чтением бабушки. Когда Анна Федоровна не бралась за книгу.
Аня влезала на лежанку, где каждый вечер сидела няня с чулком в руке, – и тут она опять слушала, но слушала рассказы вполне для себя понятные. Матрена видала много людей на своем веку, память у нее была отличная, и она всегда находила что порассказать из своей жизни или из жизни своих знакомых.
Девочка часто прерывала ее разными вопросами, и она ни один из них не оставляла без ответа. Ответы эти показались бы очень неудовлетворительными детям, учащимся в школах, привыкшим размышлять об окружающем их; но Аня была довольна ими. Она вполне верила, что отец Матрены свалился с лошади и сломал ногу оттого, что, когда он выезжал из деревни, заяц перебежал ему дорогу; что Матрена была долго больна оттого, что ее сглазила завистливая подруга; что никакого дела нельзя начинать в понедельник; что тот, кому не хочется заводить в доме ссор, не должен просыпать соль и тому подобное.
Аня очень любила и объяснения, и рассказы эти, но ей еще больше нравились сказки старухи Панкратьевны, жившей с кучею внучат на самом краю деревни, и пастуха Антона. Няня рассказывала про настоящих людей; конечно, интересно было узнавать, как они жили, чем зарабатывали себе пропитание, отчего делались счастливыми или несчастными, но в ее историях не было ничего особенно удивительного.
То ли дело сказки Антона или особенно Панкратьевны! Дети собирались толпой в ее избушку и, обступив ее со всех сторон, тесно прижавшись друг к другу, с жадностью слушали ее. Панкратьевна была длинная, сухая, седая, безобразная старуха, и самый вид ее придавал еще больше ужаса тем сценам, которые она описывала. Костлявые пальцы ее сжимались – точно когти Бабы Яги, глаза ее разгорались и дико сверкали из-под седых бровей; она то понижала голос до хриплого шепота, от которого мурашки пробегали по телу, то вдруг громко вскрикивала и заставляла вздрагивать своих слушателей. Дети дрожали, слушая ее, и после вечера, проведенного с нею, не только ни одна девочка, но даже ни один мальчик не решался возвращаться домой в одиночку. Аню всегда провожала Матрена, и девочка робко жалась к няне, пугаясь тени кустов, освещенных луною; добравшись до своей кроватки, она зарывалась с головой в подушки и ночью часто просыпалась от тревожных снов. Несмотря на этот страх, внушаемый рассказами Панкратьевны, Аня сильно любила их и горько плакала, если бабушка не соглашалась отпустить ее к старухе. А между тем, вероятно благодаря этим рассказам, Аня, как и большая часть ее подруг, боялась множества вовсе не страшных вещей.
Она ни за что не решилась бы пройти ночью по деревенскому кладбищу; она боялась войти в большие запустелые комнаты «господского дома», как она, по примеру деревенских детей, называла старый помещичий дом своего отца. Она была смела и находчива перед всякой действительной опасностью, но беспрестанно боялась появления чего-нибудь сверхъестественного какого-нибудь лешего, домового, живого мертвеца и тому подобное.
Не одни только сказки и рассказы занимали осенние и зимние вечера. Дети очень часто сходились в чьей-нибудь избе, пели песни, затевали игры, шумели и возились. На рождество они придумывали себе самые разнообразные костюмы и ходили друг к другу наряженные; на масляной у них в деревне всегда возвышалась большая снежная гора, и маленькие салазки целый день скользили по ней, и вокруг нее раздавался неумолкаемый говор и смех как детей, так и больших.
Среди всех этих удовольствий время быстро неслось для Ани, и она очень удивилась и даже огорчилась, когда в один августовский день бабушка объяснила ей, что она прожила на свете уже целых десять лет, что большая часть ее детства прошла.