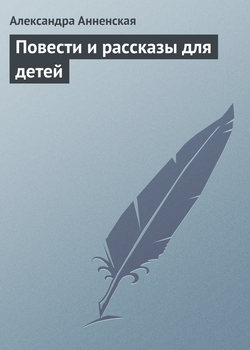Читать книгу Повести и рассказы для детей - Александра Анненская - Страница 23
Без роду, без племени
Глава XI
ОглавлениеАнна смутно сознавала, что с ней происходит: действительность мешалась у неё с горячечным бредом, так что она не в состоянии была отделить одно от другого; она не знала, наяву или во сне какое-то мохнатое чудовище тащит ее в лес, какие-то незнакомые женщины сажают ее в ванну с водой. Когда она очнулась через несколько дней, она увидела, что лежит в очень большой комнате, заставленной кроватями. Серые стены, тусклые стекла, однообразные ряды кроватей под серыми байковыми одеялами – это было что-то близкое, давно знакомое. Последние годы жизни как-то вдруг исчезли из памяти девушки, ей казалось, что она еще в приюте, что около неё опять товарки-девочки. Она старалась всмотреться в лежавших на кроватях, чтобы различить знакомых; но нет! Вместо молодых детских лиц – морщинистые, исхудалые, седые головы, – одни беспокойно мечутся, другие стонут и охают, третьи лежат неподвижно, вытянув все члены, точно мертвые… А между кроватей ходит какая-то совсем незнакомая женщина, она наклоняется к некоторым из лежащих, что-то им говорит… Анна с каким-то суеверным ужасом следила за всеми движениями незнакомки. «Смерть!» – почему-то мелькнуло в её ослабевшем от болезни мозгу. Но вот женщина подошла ближе, к кровати, стоявшей почти рядом с кроватью Анны. Она сказала несколько слов ласковым голосом, обернулась к близ стоявшему столику, взяла склянку с лекарством и влила ложку в рот стонавшей женщины. Весь ужас Анны вмиг исчез. «Больница!» – поняла она и совершенно успокоилась. Глаза её закрылись, и она снова заснула, но на этот раз крепким, живительным сном.
Целые сутки проспала она таким образом, и когда проснулась, память и понимание вполне вернулись к ней. Она живо представляла себе, как ей трудно было работать последние дни перед болезнью, как Иван Прохорович и Федосья Яковлевна хотя ласково, но постоянно понукали ее, и не могла понять, отчего ей хочется отдыхать, когда рабочий день еще далеко не кончился… «Они не знали, что это болезнь у меня начинается, – думала девушка. – Чай, теперь вспоминают меня, скучают обо мне»…
Сиделка рассказала ей, что, пока она была в беспамятстве, приходила какая-то женщина, побоялась войти в палату, где было много тифозных больных, расспрашивала про нее у сестры милосердия и оставила ей немного чаю и сахару на случай, если она оживет.
«Это наверное Федосья Яковлевна, – подумала Анна, – она и опять придет, тогда уже я попрошу, чтобы ее привели ко мне: она расскажет мне, что у нас дома делается».
Выздоровление Анны шло медленно. Беспрестанно являлись у неё новые болезненные припадки, так что она, несколько раз с нетерпением говорила доктору:
– Верно я умру. Скажите правду: я, должно быть, никогда не буду здорова.
Когда, наконец, болезнь совершенно оставила ее, явилась слабость, – такая слабость, что она лежала иногда целые часы, не имея сил ни открыть глаз, ни пошевелить рукой.
– Если бы можно было отправить ее в деревню, на свежем воздухе она скорешенько бы поправилась, а здесь она долго прохворает, – сказал о ней один из докторов при осмотре больных.
Анна слышала эти слова.
В деревню, – туда, на луг, где такие красивенькие колокольчики, в поле, где так славно колышется желтая рожь. Да, там хорошо, там она наверно скоро выздоровела бы. Там гораздо лучше, чем здесь: здесь, как отворят форточку, так слышен такой стук от езды экипажей, что голова болит, да вдруг влетит пыль с улицы или какой-нибудь гадкий запах. А в деревне тихо, и цветы и деревья так хорошо пахнут… Вот бы и вправду туда… В настоящую деревню ей не попасть, у неё там нет знакомых, никто не возьмет ее туда, но хоть бы вернуться к Ивану Прохоровичу: ведь у него на огороде почти все равно, как в деревне; она лежала бы на траве возле домика сторожа, оттуда видны и поля, и луга, и трава там такая густая, душистая…
Анне вдруг неудержимо захотелось вернуться в маленький домик Скороспеловых, увидеть спокойную, неповоротливую фигуру Ивана Прохоровича, ласковую, приветливую улыбку Федосьи Яковлевны, смеющиеся личики детей.
«Я там выздоровлю, очень скоро выздоровлю, – говорила она себе, – и буду опять работать, хорошо работать, не уставая…»
Ей вспомнилось, как заботилась Федосья Яковлевна: поила ее липовым цветом и укрыла полушубком в первый день болезни.
«Она добрая, хорошая, – думала девушка, – она меня любит, она наверно возьмет меня к себе, домой; только бы она пришла поскорей!»
Сто раз в день повторяла она всем – и сестрам милосердия, и сиделкам, и даже докторам – один и тот же вопрос: «Не приходил ли кто-нибудь ко мне? Не спрашивали ли меня?» И постоянно получала один и тот же ответ: «Кажется, никто. Если кто придет, вам скажут».
Наконец, одна из сестер милосердия, видя, как сильно волнуется девушка, предложила, что напишет под её диктовку письмо и пошлет, куда она укажет. Анна обрадовалась до того, что поцеловала руку этой сестры милосердия.
«Дорогая моя Федосья Яковлевна! – продиктовала она. Я теперь, слава Богу, почти что совсем выздоровела, только осталась слабость, да очень скучаю, что вы не придете ко мне. А доктор говорит, что кабы мне пожить в деревне, я бы скоро поправилась, и мне бы хотелось выйти из больницы, а у вас на огороде все то же, что в деревне. Возьмите меня к себе, голубушка Федосья Яковлевна, я вам буду благодарна по гроб жизни и почитать вас буду, как мать родную. Придите ко мне поскорей, очень я о вас соскучилась и очень мне хочется к вам. Прощайте, пожалуйста, приходите поскорее!»
После отправки этого письма Анна с нетерпением стала ждать ответа. Она волновалась до того, что к ночи с ней сделался лихорадочный припадок, и после него она целых два дня чувствовала себя дурно. А Федосья Яковлевна все не приходила и не давала о себе вестей. Наконец, в воскресенье, через неделю после отправки письма, когда молодая девушка с завистью посматривала на те кровати, возле которых сидели посетители, к ней подошла сестра милосердия и ласково сказала ей:
– Ну, радуйтесь, к вам пришла какая-то женщина, должно быть та, которую вы так ждали. Прибодритесь немножко, а то она испугается, как увидит вас…
Федосью Яковлевну трудно было испугать. Она вошла в палату своей обычной быстрой, решительной походкой и весьма мало понизила свой громкий звучный голос.
– Ну, здравствуй, Аннушка! – заговорила она, подходя к кровати молодой девушки. – Что, полегчало тебе?.. А я ведь была у тебя здесь, да мне сказали, что ты в беспамятстве, очень плоха, я так и думала, что ты не поправишься… Ишь ведь как тебя перевернуло, узнать нельзя!
Действительно, эта девушка с впалыми щеками, с ввалившимися глазами, коротко остриженными волосами и длинными белыми костлявыми руками мало походила на ту крепкую здоровую Анну, которая так охотно бралась помогать Федосье Яковлевне во всех её работах.
Первые минуты Анна, от волнения, не могла говорить. Оправившись немного, она сказала слабым голосом:
– Я теперь почти совсем здорова, доктор говорит, что в деревне я скоро поправлюсь. Вы возьмете меня к себе?
– Куда тебе к нам! Ты, вон, еще насилу говоришь! – отозвалась Федосья Яковлевна. – Мы уж заместо тебя взяли работницу, старуху: из-за теплого угла да из-за хлеба пошла, без жалованья. Известно, она немного может делать, ну, да все же и за ребятами посмотрит, и корову напоит, и в стряпне мне поможет: теперь, как Васенька подрост, так я, слава Богу, могу работать. А нам расчет. Тебе мы хоть немного платили, а все же в нашем хозяйстве и два-три рубля в месяц много значат.
– Я бы также у вас стала без денег жить, – жалобно проговорила Анна, – только возьмите меня отсюда.
Федосья Яковлевна засмеялась.
– Ишь ты, ловкая! Известно, пока больна кто же тебе будет платить деньги? Еще с тебя надо брать за харчи! А коли, даст Бог, выздоровеешь, так, небось, захочешь не хуже людей жить. Ты к нам поступала еще девчонкой, а теперь ты не маленькая, ты можешь на хорошем месте жить, с хорошим жалованьем…
– Не надо мне другого места, не надо мне хорошего жалованья! Вы добрая, я вас люблю, и Васю, и Ваню, и всех детей люблю, я хочу у вас жить, с вами!
От болезни нервы девушки ослабели. Она прижалась головой к руке Федосьи Яковлевны и расплакалась. Федосья Яковлевна перепугалась.
– Полно, Аннушка, полно, милая, – суетилась она, – чего это ты плачешь? Как можно? Пожалуй, опять хуже сделается. Смотри, как у вас здесь хорошо, – чисто, просторно, чего тебе тут не лежать? А поправишься совсем, приходи к нам в гости, мы завсегда тебе рады будем.
– А теперь, больную, не возьмете? – прерывающимся от слез голосом спросила девушка.
– Эх, ты, болезная! Да куда мне взять тебя! Сама знаешь, как мы живем. В тесноте, в труде… У нас больному человеку ни покою, ни уходу никакого быть не может. Опять же, больному лекарства нужны, пища особливая, а разве мы это можем предоставить? Из каких таких достатков? Ты знаешь, какая у нас семья. Сами еле-еле перебиваемся.
Анна не настаивала больше. Она вытерла слезы и лежала тихо, молча, покорно выслушивая рассказы Федосьи Яковлевны о разных домашних новостях, – о том, как белая курица пропадала три дня, да, слава Богу, нашлась у соседей в сарае, как Ванечка порезал себе ножом палец, а Сенечка подрался с сыном лавочника и тому подобное…
Федосья Яковлевна просидела с час, на прощанье оставила Анне немножко чаю да сахару и обещала опять побывать у неё.
Анна простилась с ней без особенной нежности, но очень-очень грустно. Долго после этого пролежала она молча, отвернувшись к стене, чтобы никто не видал слез, которые неудержимо капали на её подушку.
Она работала, насколько хватало сил, во всем угождала своим хозяевам, и они, правда, не обижали ее, напротив, хвалили, ласкали, дорожили ею, но все это, пока она могла работать. А чуть силы изменили ей, чуть пришла болезнь – и она им уж не нужна, они жалеют для неё угла, куска хлеба. Значит, они ее нисколько не любят, она и им такая же чужая, как была Нине Ивановне, Постниковым и всем, всем на свете. Она выздоровеет, выйдет из больницы и будет одна, опять совсем одна, как в ту ночь, когда она плакала у ворот Постниковых. К кому она пойдет? Никто ей не обрадуется. У Аксиньи Ивановны есть племянник, которого она на нее не променяет, Федосья Яковлевна взяла вместо неё какую-то старуху и совершенно довольна. Зачем же ей выздоравливать? Зачем жить? Не надо выходить из больницы: здесь и сестры, и сиделки такие добрые, лучше здесь и умереть, поскорее умереть…
Благодаря лекарствам и укрепляющей пище, которую Анну заставляли насильно проглатывать, слабость её понемногу проходила, но и доктора, и сиделки удивлялись постоянному унынию такой молодой девушки. Обыкновенно, выздоравливающие после тяжкой болезни чувствуют себя как-то особенно радостно: лишний кусочек пищи, разрешенный доктором, позволение не лежать, а сидеть в постели, возможность пройти несколько шагов – все это доставляет им величайшее удовольствие. Они забывают прежние неприятности, им представляется, что жизнь должна непременно пойти хорошо после того, как они так близко видели смерть и так счастливо избавились от неё. Ничего подобного не замечалось в Анне. Напрасно добродушный доктор ободрял ее надеждой на скорое выздоровление, напрасно и сиделки и выздоравливающие больные развлекали ее разговорами, – тусклые глаза её смотрели все так же грустно, бледные губы как будто совсем разучились улыбаться…
Один раз, после обеда, Анна только что заснула после бессонной ночи и целого утра самых тяжелых мыслей, как ее разбудил шум в комнате и плач ребенка.
– Что это такое? – спросила она, приподнимаясь.
– Да вот, – объяснила ей сестра милосердия, – сейчас из Сиротского дома принесли девочку. В детском-то отделении скарлатина и коклюш, так доктор велел пока положить ее здесь, благо у нас нет опасных больных.
Ребенок кричал и плакал, ему давали лекарства, утешали его; но Анна не обращала на это внимания, только досадовала немножко, что ее разбудили.
Ночью она проснулась и опять услышала голос ребенка, но теперь это был не крик, а жалобный стон, прерываемый словами: «Мама, мамочка, приди ко мне! Моя сладенькая мамочка, приди! Где ты? Дай мне ручку, мамочка, дай!» Анна оглянулась. Сиделка, провозившаяся весь день с малюткой и половину ночи с какой-то нетерпеливой больной, задремала в другом углу комнаты и не слышала бедной малютки, которая продолжала стонать и звать свою «мамочку». Анна не могла равнодушно слышать эти стоны. Она настолько окрепла, что уже могла ходить. Всунув ноги в туфли, она тихонько подошла к маленькой больной. Это была девочка лет четырех-пяти; она лежала, разметавшись по постели, на щеках её горел лихорадочный румянец, глаза были закрыты, из запекшихся губок вылетало короткое, прерывистое дыхание.
– Больно мне, мамочка! Больно! – жаловалась она. – Дай мне ручку! Ох, как больно…
Анна тихонько подложила свою руку под пылавшую щечку малютки, и девочка прильнула губами к этой руке, принимая ее за руку матери. Живя у Скороспеловых, Анна научилась обращаться с детьми; теперь она вспомнила все ласки, нежные слова, какими Федосья Яковлевна успокаивала своих птенцов во время их болезней, и попробовала утешить ими больную. Девочка не открывала глаз и в полубреду продолжала принимать Анну за мать.
– Я рада, что ты пришла, мамочка, – говорила она. – Не уходи от меня, не ложись в большой ящик, я боюсь без тебя. Погладь меня еще, мне не больно, когда ты тут…
Анна гладила, ласкала и успокаивала ребенка, пока бедная малютка не затихла и не уснула; но и тогда она не решалась вытянуть свою руку из-под её головки и отойти прочь.
– Боже мой, что вы делаете? – вскричала проснувшаяся сиделка, ужасаясь тому, что она могла так нарушить все больничные правила. – Сама еще не вполне выздоровевшая, ночью встала с постели и уселась на кровати другой больной.
Чтобы успокоить ее, Анна должна была лечь. Но она больше не засыпала: малютка часто стонала во сне и каждый её стон болезненно отзывался в сердце молодой девушки. Ее удивляло, с какой стати ребенок, принесенный из Сиротского дома, беспрестанно вспоминает и зовет к себе мать.
– Да у неё, говорят, только что умерла мать – объяснила сестра милосердия. – Какая-то соседка прямо с похорон принесла ее в Сиротский дом; у неё нет отца и никого родных. В Сиротском доме увидели, что она больна и прислали ее сюда; когда она выздоровеет, мы ее опять туда отправим.
«Бедная девочка! – думалось Анне. – Ей, пожалуй, будет в Сиротском доме еще тяжелее, чем было мне. Я ведь совсем не знала матери, да и то как скучала, а она помнит свою мать, ждет её ласки, и вместо того…»
Серые, неприветливые стены приюта, холодные, угрюмые лица надзирательниц, брань, побои – все это ясно представилось воображению Анны, и сердце её сжалось от жалости к бедной крошке, продолжавшей в бреду разговаривать со своей «сладенькой мамочкой».
– Положите ее поближе ко мне, – попросила она сестру милосердия, – я ведь теперь совсем здорова, мне хочется понянчиться с ней.
– Пожалуй, – согласилась сестра, – только что же вам за охота? Ведь у нее воспаление легких, доктор сказал, навряд ли выживет.
«Ну, что ж, – подумала Анна, – пусть себе. Она думает, что я её мать: пусть она так и умрет, не узнав, как горько быть сиротой».
Девочку положили на свободную постель, рядом с ней; сиделки с удовольствием передали весь уход за ней Анне. Двое суток металась бедная девочка в сильнейшем жару; она почти не приходила в себя, а когда сознание возвращалось к ней, громко стонала, жаловалась и звала мать. Ласки Анны немножко успокаивала ее; в полузабытьи она продолжала принимать молодую девушку за мать и называла ее самыми нежными именами. На третью ночь ей сделалось совсем худо; она перестала бредить и метаться, лежала тихо, изредка жалобно стонала, жаркое дыханье с видимым усилием вылетало из её запекшихся губок. Анна, несмотря на увещания сиделки, не легла спать, а осталась возле неё.
Вдруг она заметила, что дыханье ребенка слабеет, лихорадочный румянец исчез с лица её и сменился мертвенной бледностью; Анна дотронулась до её ручки – она была холодна. Анна испугалась.
– Посмотрите-ка, – позвала она сиделку, – девочка-то, кажется, умирает.
– Известное дело, умирает, – спокойно проговорила та. – Что ж? И слава Богу! Ангельская душенька…
Сердце Анны сжалось. Она знала, что болезнь ребенка опасна, что на выздоровление мало надежды, но все-таки не могла так равнодушно отнестись к смерти крошки.
Она наклонилась над девочкой, прижала её исхудалое от болезни тельце к груди своей и старалась дыханьем согреть ее похолодевшие ручки.
– Что это вы? – заворчала сиделка. – Разве так можно? Вы и скончаться ей не дадите спокойно… Оставьте ее, ложитесь спать.
Анна положила девочку, заботливо укрыла ее одеялом и продолжала сидеть над ней, не зная наверно, жива она или умерла. Дыханья её не было слышно; при тусклом свете лампы личико её казалось синеватым, и она не решалась больше трогать ее.
– Ну, что? Померла? – все тем же спокойным голосом спросила сиделка, подходя к маленькой больной через добрый час времени.
– Не знаю, – прошептала Анна.
Сиделка наклонилась.
– Какое померла? Оживет, надо быть! – проговорила она. – Разве не видите? Дышит ровно, жару нет. Вот уж, именно, кому что на роду написано. Вы ее теперь не троньте, не испугайте; пусть она спит!
Анна сама не понимала, что с ней делается. Что ей до этого чужого ребенка? А между тем сердце её радостно билось, она готова была и плакать, и смеяться, ей хотелось расцеловать невозмутимо спокойную сиделку, обнять девочку, заставить ее открыть глазки, заговорить, хотелось убедиться, что она в самом деле жива…
Сиделка заметила её волнение и опять разворчалась, угрожая позвать сестру и пожаловаться на Анну, если та не ляжет тотчас же в постель. Анна принуждена была лечь, и сиделка села возле малютки. Долго не спала Анна и все глядела на маленькую больную, но та продолжала лежать тихо и неподвижно, только дыхание её стало заметнее и лицо приняло менее мертвенный оттенок.
Сиделка была права: девочка ожила. Здоровая натура её справилась с болезнью, кризис миновал благополучно и, к удивлению всех, она стала быстро поправляться. Но тут явилась новая беда: когда она окончательно пришла в себя и могла сознательно оглядеться кругом, больничная обстановка перепугала ее. Она боялась и больших седых бакенбард доктора, и белого чепчика сестры милосердия, и морщинистого лица сиделки, и больных, и склянок с лекарством и всего, всего. Безутешно плакала она и все звала свою маму, свою милую мамочку… Одной Анне удалось успокоить ее. Она сказала, что пришла от её мамы, чтобы ласкать ее и ухаживать за ней, пока она нездорова.
– От мамочки? – переспросила девочка, доверчиво глядя на бледное молодое лицо, наклонявшееся над ней. – Ну, хорошо! Я поживу здесь с тобой, а потом мамочка придет и возьмет меня к себе…
С этих пор маленькая Лёля, – так звали девочку, – стала неразлучна с Анной: только от неё одной принимала она и лекарство, и пищу, только ей одной позволяла умывать себя, с ней одной вступала в разговоры, бессвязно рассказывая разные события своей недолгой жизни. Уход за ребенком не только не утомлял Анну, как сначала боялся доктор, а напротив, был ей очень полезен: это отвлекало ее от тяжелых мыслей о собственной судьбе, заставляло больше дорожить своими силами, своим здоровьем.
Через неделю Лёля оправилась настолько, что уже бегала между кроватями, и доктор решил дня через два отправить ее в Сиротский дом. Девочке об этом не говорили, чтобы не вызвать новых слез, но Анна знала, что ей предстоит скорая разлука с ребенком, к которому она успела привязаться.
– Видно, уж судьба моя – жить на свете одной, без любви! – с грустью думала молодая девушка. Вот, полюбила меня девочка, очень полюбила, даже мать свою реже стала вспоминать, а завтра ее увезут, и я, может быть, никогда в жизни не увижу ее…
Но еще больше собственного одиночества пугала ее судьба Лёли. Что станется с этой робкой, нежной, пугливой малюткой в Сиротском доме? Она там пропадет, совсем пропадет. Если бы хоть попросить кого-нибудь из тамошних, чтобы с ней получше обращались. Но кого же?.. А Нина Ивановна? – блеснуло светлым лучом в мыслях Анны. И вспомнилось ей то серое осеннее утро, когда она, упрямая, своевольная девочка, стояла с чулком в руках на коленях в углу класса, и вспомнилось ласковое слово, поцелуй Нины Ивановны, и живо представились все чувства, вызванные этим словом, этим поцелуем в её детском сердце…
– Да, она добрая, она пожалеет мою Лёлю, – решила девушка. – Она и меня пожалеет. Тогда я была мала, глупа, я хотела, чтобы она свою родную дочку променяла на меня; теперь я знаю, что этого нельзя… Пусть бы она только пришла, да хоть из жалости приласкала немножко нас, бедных сирот.
На следующий день Лёлю отправили в Сиротский дом, уверив, что там она найдет свою маму. Вместе с этим Анна послала письмо к Нине Ивановне, умоляя ее придти…
Не прошло и часа после отправки письма, как Нина Ивановна уже сидела у постели своей бывшей воспитанницы. Во время болезни Анна так похудела и побледнела, что опять стала напоминать бывшую худощавую, большеглазую приютскую девочку. Нина Ивановна мало изменилась за последние годы: только вокруг глаз её появились морщинки, которых прежде не было, да в темных волосах засеребрилась седина. Крепко расцеловалась она с бывшей беглянкой; она, конечно, и не подумала упрекать ее за детское своевольство, а напротив, с интересом стала расспрашивать, каково ей жилось все это время. Анна так взволновалась свиданием, что не могла произнести ничего, кроме бессвязных слов. Нина Ивановна должна была первая приняться за рассказы. И ей было о чем порассказать: дела в приюте шли теперь гораздо лучше, чем при Анне; девочки стали послушнее, прилежнее, разумнее относились к своим обязанностям. Марью Семеновну заменила другая помощница, которая умела справляться с детьми без всяких наказаний. Из девушек, считавшихся при Анне старшими, никого не было в приюте; все они получили места горничных, нянек или швей; из средних осталось только четверо; Саша Малова и Даша ходят в швейную мастерскую, чтобы усовершенствоваться в шитье и выучиться кройке, так как с будущего года при приюте откроется мастерская, в которой они могут быть закройщицами и учительницами; Катя выдержала экзамен в учительскую семинарию; если она будет там хорошо учиться, через год ее примут полной пансионеркой, а через три года дадут ей место сельской учительницы, о котором она день и ночь мечтает. Феню Нине Ивановне хочется оставить при приюте: она стала такая разумная, аккуратная и добрая девочка, что из неё может выработаться со временем отличная помощница. Бедная, болезненная Соня умерла два года тому назад, но это была, кажется, единственная покойница в старшем отделении Сиротского дома за все это время. Из бывших при Анне маленьких Таня и Феклуша оказались настолько способными к учению, что Нина Ивановна упросила нескольких богатых барынь платить за них в гимназию и давать им денег на книги и платье. Они очень хорошо выдержали экзамен во второй класс и с будущей недели сделаются гимназистками, вместе с Любочкой, которую Анна наверно не узнает: из худенькой, плаксивой крошки она превратилась в рослую девочку, очень любящую командовать, распоряжаться, предводительницу во всех играх и главную затейницу всех шалостей… Можно себе представить, с каким интересом слушала Анна все эти рассказы. Когда пришла ей очередь говорить, она откровенно передала Нине Ивановне все, что пережила и перечувствовала в последние четыре года. В заключение, она со слезами на глазах просила ее принять под свое покровительство маленькую Лёлю.
– Конечно, я постараюсь сделать для неё все, что могу, – отвечала Нина Ивановна, тронутая судьбой бедной сиротки. – Но, Анна, разве тебе не хотелось бы самой заботиться о ней, жить с ней вместе?
– Конечно, хотелось бы, – отвечала Анна с удивлением. – Только, как же это сделать?..
– Ты жалуешься, что все люди считают тебя чужой, что у всех есть свои родные, которых они любят больше, чем тебя?! А что, если бы ты попробовала пожить с такими же безродными сиротами, как ты сама, и полюбить их? – продолжала Нина Ивановна.
– Как же это?! Опять поступить в Сиротский дом? – недоумевала Анна.
– Да, опять, только уже не воспитанницей, а воспитательницей, – отвечала с улыбкой Нина Ивановна. – Я слышала, что из младшего отделения уходит одна няня, и если я попрошу главную надзирательницу, она даст это место тебе. Работы там много, – работы тяжелой и хлопотливой: на твоих руках будет семь-восемь детей, за которыми ты должна смотреть и день и ночь; тебе придется и мыть, и одевать, и кормить их, и учить их говорить и чинить их белье, и убирать их комнату. Жалованье за все это тебе будут платить маленькое, но если ты полюбишь своих питомцев, как полюбила Лёлю, тебе не будет с ними тяжело.
– А можно так устроить, чтобы мне поручили Лёлю? – спросила Анна.
– Я и об этом попрошу надзирательницу, – пообещала Нина Ивановна.
– Милая, голубушка, попросите! – вскричала девушка, и глаза её радостно заблистали. – Мне так было тяжело думать, что выйду я из больницы и опять буду совсем одна. А там я не буду одна, там все такие же сироты, как и я, их некому любить – и они меня полюбят…
Через неделю Анна выписалась из больницы и прямо отправилась в Сиротский дом, где Нина Ивановна выхлопотала для неё обещанное место. Опять очутилась она в давно знакомых комнатах с серыми стенами и тусклыми стеклами. Главная надзирательница младшего отделения приняла ее ласково, как девушку, рекомендованную Ниной Ивановной, и, подробно объяснив ей в чем будут состоять её обязанности, ввела ее в залу, где в этот час были собраны все дети под надзором своих няней. Анна очутилась среди полусотни мальчиков и девочек от двух до семилетнего возраста. Одни из них еще с трудом переступали на своих крошечных ножках, другие бойко бегали и задорно толкали друг друга; несколько девочек свертели себе из тряпок подобие кукол и тихонько баюкали их; один маленький мальчуган колотил ручонкой по скамье и выкрикивал при этом какое-то слово, понятное ему одному. Анна искала глазами Лёлю, но не находила ее среди всех этих малюток с однообразно остриженными головками в темных однообразных блузах.
– У вас здесь, кажется, есть знакомая? – спросила надзирательница. Лёля Томилина, приди-ка сюда.
Как, неужели эта девочка с робким взглядом, с унылым, безучастным личиком – Лёля?.. Но вдруг лицо девочки оживилось, в глазах её блеснул луч радости.
– Ты от моей мамы! – закричала она и повисла на шее Анны.
Анна крепко, нежно прижала ее к себе.
– Ты мне рада? Ты хочешь, чтобы я с тобой осталась? – тихонько спросила она.
– Хочу, хочу! Милая, голубушка, останься! – просила девочка, прерывая слова свои поцелуями.
Анна обняла ее, приласкала других девочек, которых надзирательница подвела к ней, как её будущих питомиц, и легко, радостно стало у неё на душе. Она почувствовала, что здесь, наконец, она не будет чужой, лишней, что все эти маленькие существа чахнут без любви, без ласки, как едва не зачахла она сама, и что в сердце её найдется достаточный запас нежности, чтобы согреть и оживить сердца сирот, вверяемых её попечениям.