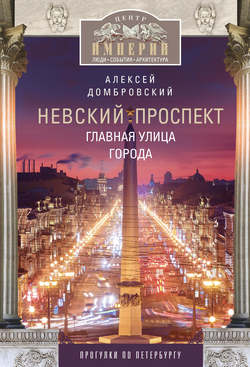Читать книгу Невский проспект. Главная улица города - Алексей Домбровский - Страница 12
Часть I
Нечетная сторона Невского проспекта
От Адмиралтейства до канала Грибоедова
Формирование облика проспекта и его обустройство в XIX в.
Появление омнибусов, извозчики
ОглавлениеВ конце 1840-х гг. по проекту архитектора К. А. Тона на Знаменской площади построен вокзал Николаевской железной дороги, что способствовало освоению этого района. В 1847 г. от Знаменской площади, от вокзала начала ходить первая в Петербурге общественная карета – омнибус. Она представляла собой запряженный лошадьми вагончик с расположенными поперек сиденьями. На них помещалось до 16 человек пассажиров. Боковые стенки вагончика были открыты и в плохую погоду закрывались специальными матерчатыми шторами, на стенках имелась надпись – «Карета Невского проспекта».
Организатором нового для Петербурга вида транспорта стал директор Первого кадетского корпуса Шлиппенбах. Справедливости ради надо сказать, что первая попытка пустить по Невскому проспекту общественные кареты состоялась за три года до этого, однако опыт оказался неудачным. А чуть позже Шлиппенбаха на улицы города выпустил общественные «Кареты Бассеиной и Садовой» некий полковник Кузнецов. Затем появились и другие кареты, окрашенные для каждой линии в свой цвет.
Омнибус ходил по Невскому проспекту сначала до Английской набережной, а затем до Тучкова моста. Стоимость поезда в один конец составляла 10 коп. Это, безусловно, было гораздо дешевле, нежели оплата извозчика, но, все-таки, слишком дорого для массового общественного пользования. Из-за тряски на булыжных мостовых, кидающей пассажиров друг на друга, городские остряки называли общественные кареты не «омнибус», а «обнимусь». В связи с тем, что в них часто набивалось гораздо более 16 человек, бытовало и еще одно название омнибусов – «40 мучеников».
Впрочем, начинание имело коммерческий успех, и в 1851 г. в городе имелось уже четыре маршрута, по которым ходили кареты разного цвета. Один из маршрутов, например, проходил по Гороховой улице к вокзалу Царско-Сельской железной дороги. Движение карет по этому маршруту было согласовано с графиком движения поездов. Другой маршрут проходил от Миллионной улицы до Калинкина моста (через Дворцовую и театральную площади, Большую Морскую улицу, Английский и Екатерингофский проспекты).
Но транспортными «королями» улицы продолжали, безусловно, оставаться извозчики. Интересные воспоминания о них имеются в книге Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга в 1890–1910 годах»:
«Стоянки извозчиков имелись у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках; в прочих местах они стояли по своему усмотрению. Определенной, обязательной таксы не было. Извозчик запрашивал сумму, учитывая общий облик седока, один он или с дамой, какая погода, какое время (день или ночь), торопится седок или нет, приезжий он или местный, много ли у него вещей, знает ли город и, конечно, главное – на какое расстояние везти. Седок, в свою очередь, оценивал ситуацию: много ли на стоянке извозчиков, удобна ли пролетка, хороша ли лошадь и т. д. Торговались, спорили, седок отходил, опять возвращался, наконец садился. При дамах обычно не торговались. В последние годы перед первой империалистической войной извозчикам вводили таксометры для измерения расстояния. Таксометр укреплялся у извозчичьего сиденья, на нем красовался красный флажок. Однако это нововведение не привилось.
Зимой извозчики ездили в санках, очень маленьких и неудобных. Спинка была очень низенькая, задняя лошадь, идущая следом, роняла пену прямо на голову седока; хотя и существовало правило – держать дистанцию не менее двух сажен, но оно не соблюдалось. Поздно вечером и ночью извозчики особенно разбирались.
Извозчики жили обычно на извозчичьих дворах, где была страшная теснота: стойла крошечные, над ними сеновалы. Тут же рядом сложенные одна на другую пролетки или сани, смотря по времени года.
Извозчики ездили обычно „от хозяина“. У каждого хозяина было по нескольку рабочих извозчиков, которых хозяин страшно эксплуатировал. Извозчик должен был сдавать хозяину ежедневно определенную сумму, например три рубля, заработал он их или нет. Это были обычно пожилые люди, нездоровые, которые не могли работать ни на фабрике, ни в деревне. За поломку экипажа или порчу сбруи хозяин вычитал из его заработка. Отвечал извозчик и за здоровье лошади. Он должен был проявлять расторопность в умении использовать разъезд публики из театров, найти удачное место стоянки. Среди обывателей извозчики часто именовались „желтоглазыми“, видимо, из-за частой болезни глаз. Жили они в общежитии, где санитарные условия были скверные – тесно, одежду получали одну на двоих или троих, которая являлась рассадником насекомых.
Были в столице лихачи – извозчики высшей категории. У лихача лошадь и экипаж были лучше, сам он был виднее и богаче. Он был похож не на извозчика, а скорее, на собственный выезд. Лихачи выжидали выгодный случай прокатить офицера с дамой, отвезти домой пьяного купчика, быстро умчать какого-нибудь вора или авантюриста, драли они безбожно, но мчали действительно лихо. Нанимали их люди, сорившие деньгами, и те, которые хотели пустить пыль в глаза. Стоянок их было немного – на Невском, на углу Троицкой, около Городской думы, на Исаакиевской площади.
Особой категорией извозчиков были тройки для катания веселящихся компаний. Зимой они стояли у цирка Чинизелли. Кучер в русском кафтане, шапке с павлиньими перьями; сбруя с серебряным набором, с бубенцами. Сани с высокой спинкой, расписанные цветами и петушками в сказочном русском стиле. Внутри все обито коврами, полость тоже ковровая, лошади – удалые рысаки. В сани садилось 6–8 человек на скамейки, лицом друг к другу. Мы застали уже последние такие тройки. Но изредка можно было на главных улицах видеть тройку, мчавшую веселую компанию с песнями к цыганам в Новую Деревню или в загородный ресторан. Такие катания и в наше время уже казались чем-то отживающим».