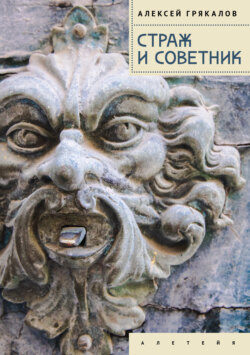Читать книгу Страж и Советник. Роман-свидетель - Алексей Грякалов - Страница 6
6. Других через себя
ОглавлениеНе надо много слушать других, не будет силы. И времени совсем не станет – не только апокалипсис нашего времени, как у Розанова, но смертный конец самой временности.
И где тогда жить?
Не быть в удержании. Не привыкнуть, не сдаться, не задохнуться.
Задержать третье дыхание, что спасет – змеем выкрутиться, зверем вызвериться… руками связать чужие руки – выбрать момент. Сверху захват за отворот дзюдоги правой рукой, а левый локоть в горло. Не смотреть, не слышать, не видеть – тело умней человека.
Даже если этот человек Президент?
Нет никакой территории вегетарианцев – нет больше советского народа, когда можно было в любой чайхане в любом ауле быть гостем. Теперь от тупого давления Домового-хохла не скрыться даже за кремлевской стеной. Невыносимый национализм тупой скуки! Эта гегелевская уверенность и удовлетворенность является подозрительной – Президент видел буйство на улицах Берлина, когда упала стена.
Президент никогда не переспрашивал – подчиненные, люди и боль должны занимать свое место.
– Откуда ты знаешь про боль? – Президент всем своим говорил ты.
– Я с ней живу…
И Президент, кажется мне, поверил, хотя никому до конца, думаю, не доверял.
Да в самом главном слова вовсе ничего не меняют. И только всеприсутствие боли придаст слову правдивость. А боль была до всего, хотел сказать, боль – это ничто. Темная материя и чистая тяжесть – неодолимое удержание, которое на миг прерывается переживанием болезни, отчаяния или депрессии. Только меланхолия приближается к боли – знаки рассечек и шрамы меланхолию прерывают, чтоб окоротить.
И потому, наверное, Президент слушал меня.
У Советника перед глазами опыт борозд, чепиги плуга только один раз сорвали кожу с ладоней, ревели племенные быки-бугаи, черную землю скребли копытами, кузнечный гвоздь-ухналь, неправильно вбитый, вынуждал захромать коня. И от природы хромой Ванька-санитар умело по-свойски брал ногу коня, чтоб выдернуть криво вбитый ухналь – устранить хромоту-огрех.
Советник умеет сострадать, умеют все слабые меланхолики.
Но этот – Президент лишь один раз подумал о нем, да и то в третьем лице, – будто бы мог давать всему голоса – вещи отвечали ему, толковали и он понимал: лемех блестел бессловесно, но был замечен, шкура убитого лиса мышкует на ветру, теряя рыжие остья, продолжает охоту, чучело надолго переживет смерть. И вздох домового наполнен смыслами, тяжесть напоминает об удержании и боли, где нет ни одного движенья свободы. Боль оттуда идет, где не виден источник. Роды есть, а родник невидим. Туда взгляд обращен – вот для чего нужен свидетель-советник Лис.
Все тело предутрия в памяти от тяжести Домового.
А наяву синяки-письмена расшифрует юрод-Советник – нет нигде ни чистого тела, ни чистого замысла.
Ты грязный, значит, ты живой.
И это последнее больше всего задело Президента – в конце концов то, что он узнавал, было свидетельством того, что он уже знал. В книге Юнгера германский милитаризм бросал вызов владычице морей и хозяйке колониального мира Англии, сами немцы захватили в Африке огромные земли, что больше самой Германии, зарождался европейский раздор. Казалось, война все-таки невозможна, ведь комфорт и блага цивилизации унеживали жизнь обывателя-европейца. Но хорошо устроенный быт вызывал странно безрадостные переживания. Сто два года прожил солдат-философ Эрнст Юнгер, участвовал в двух войнах, видел солнечные затмения, меж которыми почти девяносто лет, – считал, что самое главное заключено в свободе воинственной воли. Если бы еще знал слова русского романного персонажа: это – больше чем свобода, это – воля.
Свидетель-человечинка в мировом спектакле жалкий актер или всесильный автор? – присмотрись к мощи дракона. А вокруг почти нерасчленимая масса людей, цепочки и череда лиц – бесконечные удержания, муравьиные тропы, пчелиный рой, где матка спаривается раз в жизни с командой трутней. Ничем почти не отличается от человеческого роения, только спариванье человеческое чаще и проще. Им оглянуться бы, – осмотреться, – а они в одинаковой униформе лиц, богатые все в масках, а у бедных даже масок нет.
Книги Юнгера теперь по всему консервативному мутирующему свету.
И даже вслед – перенимание оружия давний и вечный прием ведения войны. Так Ленин в действии безудержный, безоглядный. Телеграфы, вокзалы… господствовать в мировой паутине, всегда непредсказуемо действовать на опережение! А для китайцев и индусов Ленин и Троцкий великие устроители! Перманентная революция без конца! А тут сон прерванный, симулякр-наколка, тяжесть неотступного теперь московского Домового.
Что Дракон-ходя еще нагонишь?
И выплывает навстречу… ёк-макарек! – якорек-задумка, намеченный химическим карандашиком – кололи в честь дружбы вечной питерские кореша. А кто добавлял сердечко, стрелой пронзенное. Еще в моде подпись: «Не забуду мать родную!». Не забуду, гадом буду, – завтра с дома убегу! Тюрьма – мать родна. А у одного видел номер из шести циферок: номер комсомольского билета. Если бы в плен попал – не отказаться бы, не предал.
Собирались почти все в мореходку.
А он хотел стать разведчиком.
Никому не говорил, уже тогда словно бы по инстинкту знал: не надо оставлять никаких особых примет. Из любой мужской компании уходил так, что никто почти ничего не мог о нем сказать. Был человек, сидел рядом, рюмку выпил в честь женского дня, анекдот рассказал, – совсем недавно рядом, а вспомнить нечего.
Нет ни особых, ни каких-то простых примет.
И никогда никуда не хотел бежать. Братцы… братцы! – Призывал кавказский пленник поручик Жилин. Если бы сейчас был такой, написал бы на наградном документе: «Вручу лично».
Эрнст Юнгер прав: героическое есть всегда.
Война страшна, но необходима?
И хотел помнить обо всех на евразийском пространстве – простирается от Китая до Польши. Пространство – не территория за забором, у всех евразийцев сходства есть в языке. Советник сказал, что не прав философ Дугов – удержанье словесное не подействует.
Индия евразийская? – нет.
Самолеты продать можно, кино о больном Ленине индийцы у себя запретили, вместе с Толстым англичан выгнали. Евразия превыше всего? – хорошо размахнулся Дугов, да ведь надо сохранять искусство быть незаметным.
И где сила, чтоб далеко пойти?
А в родном Питере появилось новое сообщество интеллектуалов. Европейский разлив, не свой трусоватый. Интеллигенту нашему, чтоб жить, не хватает силы, а чтоб думать, как интеллектуал, не хватает ума. То против башни на Охте интеллигент ополчится, то против совсем хворого Ленина кино снимет, то покажет трясущегося от болезни фюрера, и непонятно тогда, что случилось.
И кто духовку накалил – из какой силы жар?
А то выходит, что правит миром то бесноватый истерик, то полупарализованный сифилитик. Но правит только тот, у кого сила. И если бы сила у интеллигента была, он бы только про нее любимую толковал.
Что такое вопросительный знак? – состарившийся восклицательный! – Советник гонит какую-то филологическую волну. Как раз вчера о прозеваннном гении русской литературы говорил. Изобрел в словах желтый уголь – энергию злобы. Чем злей, тем энергии больше, тем лучше живут. А когда не злятся, энергии нет – спецслужбы надо крепить, чтоб всех добрых отслеживать. Даже не знают теперь, где могилка прозеванного гения.
Надо министру культуры сказать, пусть найдут.
Сигизмунд Доминикович Кржижановский?
И вернуться к гегелевской философии по немецким понятиям? – у нас и так понятия. Гегель был официальным философом во времена Рейха? А в университете всего-навсего простой источник марксизма – почти истопник. Президент странно не любил ни Маркса, ни Ленина, хотя не понравился фильм про больного вождя. Когда не могут напасть на мысль, нападут на мыслителя.
Мысль ленинская гениальная, простая: у кого сила, тот и прав.
И Сталина как-то семейно не любил. В обоих было что-то нечеловеческое, он сам не хотел таким быть. Маркс, правда, далеко. В городе его имени будущий Президент курировал центр культуры – спецслужбы тоже входят в символический универсум. Ленин и Сталин были невыносимо свои. Невыносимо… одного вынесли. Надо бы похоронить другого, тем более сам завещал.
Да коммунисты взвоют. А что им почти бессильным останется?
Вот случайные мысли настигали из прошлого дня – только утренние минуты до первого доклада были его собственными. И Домовой из сна – шлёп-шлёп через порог, через любой торжок. Приходил житейски – дохни своим теплым домашним?
Упреждающее существо, на кого теплым – радуется, живет. А на кого ледяным – притихает, омертвевает. От рожденья не было плоскостопия, а теперь появляется – долго не прошагать.
Что будет, когда состарюсь?
Домовой под крышу – под самые яркие в мире кремлевские звезды, а мне куда? В деревне жизнь от земли до неба, в городе – от подвала до чердака. Да ведь известно, что Господь райского сада божество сельское.
А в Кремле-столице жизнь от беспокойного сна до звезды.
Зачем пришел? – Домового успел спросить. И тот дохнул – не разобрать с одного раза: горячим – к добру или ледяным – к худу.