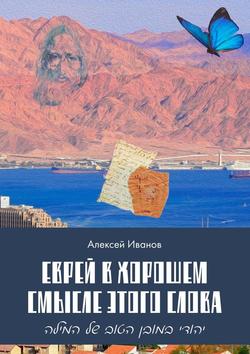Читать книгу Еврей в хорошем смысле этого слова. Биографическая повесть в трёх частях и двух приложениях о юности, дружбе, любви и многом другом - Алексей Иванов - Страница 7
Часть первая: «Школа»
Глава четвёртая: про школу и учителей
ОглавлениеПисать эту главу было неимоверно трудно, я не один раз переделывал текст. Очень не хотелось кого-то забыть или обидеть, в общем, что выросло, то выросло.
Надо сказать, что в целом со школой нам повезло. Номер у неё был – сорок два. Расположена она была в центре, здание старой довоенной постройки, школа открылась в сентябре 1936 года. В войну, кстати, в ней был госпиталь. А еще в то же примерно время в школе преподавала немецкий язык сестра писателя Булгакова, Варвара Афанасьевна. С неё был написан образ главной героини романа «Белая гвардия» Елены Тальберг.
Процент поступивших из неё в ВУЗы был традиционно высоким. За этим, собственно, Сёму родители и пристроили к нам, чтобы к его высокохудожественным способностям добавились бы и ещё какие-никакие знания, дабы он смог всё-таки поступить в институт. (Сёма, правда, утверждал, что он просто сам захотел к нам, поскольку из предыдущей школы его отчислили за то, что в 8 классе после экзаменов на выпускной дискотеке он в составе вокально-инструментального ансамбля сыграл Гершвина на электрооргане… носом. На мой взгляд, это вряд ли могло случиться даже «после трёх бутылок портвейна „Агдам“ на всех», как, опять же, говорил Сёма. Хотя вот сейчас я бы уже не стал так категорически утверждать, учитывая размер его носа.)
Педагогический коллектив тоже был проверенный, старой, извините за каламбур, школы, молодежи фактически не было. Почти всех их я помню по имени-отчеству (за остальных друзей не скажу, но я помню). Между собой мы, естественно, называли их только по именам, исключение составляла лишь учительница по биологии, милейшая женщина. Дело в том, что во времена нашей учебы в четвертом классе вместе с программой «В мире животных» нам показывали очень интересный сериал про животных «Дактари». Так вот, одной из главных героинь сериала была шимпанзе Джуди. А та самая биологичка внешне действительно напоминала обезьянку. И вот однажды кто-то (уже и не вспомню кто) впервые назвал её именем той шимпанзе. С тех пор это прозвище переходило с ней от одного выпуска к другому до самого выхода на пенсию.
Классными руководителями у нашей параллели были три учительницы: русского языка и литературы, химии и математики. Начну с нашей классной дамы – математички. Была она чуть старше наших родителей и такой же суховатой, как её предмет. Самыми тяжёлыми для нас днями однозначно были дни родительских собраний, потому что добрых слов про любого из учащихся на них практически не звучало, зато критики было больше, чем достаточно. Такой вот был у неё способ мотивации, слегка односторонний.
Руководительница «А» класса, литераторша, внешне была просто Мерлин Монро – блондинка, всегда при макияже, ярко одетая, улыбающаяся, она заставляла трепетать наши неокрепшие юные души и вполне уже крепнувшие… сами понимаете, что. Вишенкой на этот сексапильный торт была её привычка вольготно располагаться во время урока за своим учительским столом, закидываю ногу на ногу. При этом открывался вид на эти шикарные части её тела… выше чулок. Это уж точно было зрелище не для слабонервных, особенно для тех, кто сидел на первых партах. На них обычно сажали либо очкариков, либо двоечников. Так вот, один из таких разгильдяев (Андрюша, по-моему) впервые в своей жизни покраснел именно в такой момент на уроке литературы.
«В» классом руководила химичка. Она была самой старшей из троих и самой жесткой. Однажды она на месяц выгнала со своих уроков одного из учеников за то, что он неуважительно высказался о химии как о науке. Лично я её просто боялся, хотя вполне себе неплохо знал предмет. Думаю, что я был не одинок в этом чувстве, потому что, когда в начале урока она начинала обводить класс своим взглядом, выбирая, кто будет отвечать, все головы, как созревшие колосья, начинали клониться к партам, пытаясь уйти с линии огня. Чтобы лучше понять это чувство, представьте себе кобру перед броском. Сравнение, может быть, не очень лестное, но, как мне казалось тогда, да и сейчас тоже кажется, достаточно точное.
Такими вот в основном были наши учителя. Как я уже говорил, кого-то из них мы боялись, кого-то в глубине души уважали, но вот любили ли мы кого-то из них… сомневаюсь. Наверное, потому, что сами не особо чувствовали их любовь. Возможно, кто-то из моих однокашников, читая эти строки, со мной не согласится. Спорить не буду, это только мои впечатления и воспоминания.
Случались, однако, и исключения из правил, расскажу о них чуть подробнее.
Одним из преподавателей физики был Михаил Пантелеймонович Бурлев, личность абсолютно потрясающая. Вся школа, от первоклашки до директора, звала его просто Пантелеймоныч. Когда он представлялся ученикам первый раз, это звучало примерно так: «Фамилия моя Бурлев: бур – это который все время бурит, а лев – это зверь, у которого грива, как у меня» (был Михаил Пантелеймонович лыс, как коленка). Он воевал, был ранен и сильно прихрамывал. Когда я смотрел фильм «Розыгрыш», был поражен сходством с ним героя Зиновия Гердта, у которого была небольшая роль преподавателя химии. Сходством не столько внешним (хотя хромота была у обоих), сколько внутренним, личностным. Интеллигентность, чувство юмора, оба учеников на «Вы» называют. «Вот бы познакомить их, – думал я, – а ведь Зиновий Ефимович еще и в госпитале лежал в Новосибирске, вдруг это была наша школа»… Но не сложилось. К сожалению, у нас Михаил Пантелеймонович не преподавал, и, по сути, по-серьёзному, именно по учёбе, пересеклись мы всего один раз на выпускном экзамене по физике, где он был в комиссии. Ответил я вроде неплохо, хотя и волновался. После экзамена он подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Специально хотел Вас послушать. Понравилось. Удачи Вам». Безмерное счастье… Такой вот был замечательный человек.
Чтобы перейти к описанию следующего незаурядного педагога, я вынужден сделать небольшое отступление, вам будет понятно для чего. Когда СССР уже доживал последние месяцы своей истории, я по протекции Славика перешел работать из проектного института в некую коммерческую структуру, которая, в свою очередь, являлась частью другой коммерческой структуры. Но суть не в этом, а в том, что весной 1991 года я оказался в командировке в городе Одессе. Моим напарником оказался мой однокашник, только годом старше. Был он человеком правильной закалки (два года возглавлял школьный комитет комсомола) и был не дурак выпить. Тут наши интересы полностью совпадали, что мы и делали практически каждый вечер, а спустя какое-то время и каждый день. Как вы понимаете, выпивать молча – это пьянка, а под разговор – общение. И вот, когда темы политики, женщин, спорта и многие другие уже были исчерпаны, я неожиданно для себя спросил: «Старик, а что тебе нужно для хорошего отдыха?» Ответ был неожиданным: «Лёха, совсем немного: ромашковое поле, пачка сигарет и книга хорошей русской классики». Я был в шоке, потому что тогда я русскую классику, как бы помягче сказать, просто не понимал (да и сейчас, честно говоря, понимаю не очень и не всю).
А вся разница заключалась в том, что литературу ему преподавала не наша, а другая учительница – Софья Яковлевна Некрасова. И её тоже вся школа звала просто Софой. Софья Яковлевна бы высокой и дородной женщиной, но самыми выразительными в её облике были глаза. В них, как сказал однажды Сёма, была сосредоточена вся столетняя боль еврейского народа (правда, он так сказал про одну из своих младших дочерей, но к Софе это тоже очень подходило). Когда она двигалась по коридору, смолкал шум, баловники затихали, все невольно расступались и только что не кланялись – это шла царственная особа, перед ней благоговели и преклонялись.
Вообще, наверное, школу мы, скорее, любили, ну, или не любили, а гордились, или даже не гордились, а просто были носителями некой общности типа как выпускники Кембриджа, там, или Оксфорда. «Ты где учишься?» – «В сорок второй!» И это звучало и гордо, и престижно, и… вообще. Про нелюбимую школу никто не напишет стихи-частушки, а про нашу были:
Стоит на проспекте
Вроде сарая
Наша родная
«Сорок вторая».
Правда, к концу нашей учёбы в этот текст было внесено небольшое изменение. Произошло это после того, как какой-то ухорез покурил под лестницей, а плохо затушенный окурок, видимо, от большого ума, засунул в бочку с остатками нитрокраски. Огня-то большого не было, но дыма, причем ядовито-черного, было столько, как будто подожгли небольшой заводик по производству резиновых изделий. В результате все учащиеся от мала до велика потом отмывали стены на лестничных пролетах с первого этажа до четвертого, а стишки приобрели такой вид:
Стоит на проспекте,
Никак не сгорая,
Наша родная
«Сорок вторая».