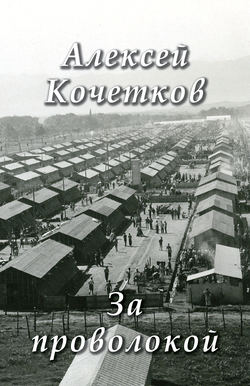Читать книгу За проволокой - Алексей Кочетков - Страница 3
Анкеты – в третий раз
ОглавлениеИ мы стоим, потрясенные, еще не веря обрушившемуся счастью, уже понимая, что что-то стряслось и что это уже нечто новое. Не примчался бы зря сюда Ковалев из Парижа. Далекая Родина-мать уже знает о нашем существовании и протягивает нам, попавшим в беду, руку помощи. И это совершенно закономерно, так и должно быть. Соответствует Конституции, гуманности и справедливости.
И мы возвращаемся в наш душный дощатый барак с драгоценной ношей и хорошими новостями в чудесном настроении.
Борис Журавлев – так и не доживший до светлого дня разгрома фашизма.
Таганрожец Иван Троян, погибший героем за несколько дней до прихода союзников, в резистанс[11] – на востоке Франции.
Георгий Шибанов, который и поныне здравствует в своей Александрии (нашей, а не египетской Александрии). Шибанов – инициатор сопротивления русских парижан нацистским оккупантам.
И Петя Рыбалкин – косноязычный, простой и мужественный человек, потрясший меня на том предыспанском митинге-диспуте оборонцев на рю Лас Кас чтением, не претендовавшего на эпистолярный шедевр, письма с Родины.
И автор этих строк, рассказывающий о своем тернистом пути на Родину.
А тогда, забравшись с нашей драгоценной ношей в наш приземистый, неказистый душный возвращенческий барак, мы решили максимально использовать обнадеживающую новость.
Нельзя, конечно, было просто, без шума, как представлял себе Ковалев, раздать анкеты, бумагу, потом постричь, побрить, сфотографировать всех кандидатов в советские граждане.
Нельзя было без шума и по другим соображениям.
Наше короткое свидание у проволоки с Васей прошло для жителей возвращенческого барака совсем незамеченным.
За доказательствами не надо было далеко ходить.
* * *
В бараке было тихо. Кто, разморенный духотой, спал на соломенных самодельных мешках-топчанах, разложенных в два ряда. Другие, придвинувшись к щелям и дыркам досок, почитывали потрепанные книжицы (все больше про любовь).
В углу, у горбоносого грека из Крыма, резались в «подкидного». Подозрительный тип этот грек! Черт знает, как попал в Испанию и что там делал?!
Кто-то писал, должно быть, письмо, пригнувшись к дощечке, положенной на колени.
Третий, поленившись выйти из барака, внимательно рассматривал швы вывернутой наизнанку рубашки.
Появление кучки возбужденных офицеров, команда Журавлева: «Свистать всех наверх! Дневальные – на авеню Даладье, разыскать всех наших!» – уже произвели впечатление. Все сгрудились к середине барака. Картежники тоже. И грек оказался моментально изолированным. В бараке запахло сенсацией.
Нельзя утверждать, что такого важного сообщения не ждали. Взоры на Родину стали обращаться, как только прошла первая усталость, а по ту сторону Пиренеев наступила тишина.
И все же это было чудесной неожиданностью. И Ларионыч умело ею воспользовался. Он поминал наших мертвых, отдавших свою жизнь за дело народа. Подсчитывал, сколько у нас раненых (не раненых раз-два и обчелся). Сколько жертв вообще понесли волонтеры свободы. Он говорил о большом доверии, которое нам оказывают партия, правительство и лично товарищ Сталин («Ура! – товарищу Сталину!»). И, конечно, изложил всю нашу стратегическую программу-максимум. Ради нее и стоило пошуметь. Учеба, активность, гигиена. Особенно гигиена:
– Ни одной анкеты в грязные лапы не дам. Кто испачкает хоть лист – пеняй на себя. С завтрашнего дня мы должны опередить по всем показателям чистоты и порядка тельмановцев.
И вот мы потеем, как на переэкзаменовках по русскому письменному, пишем биографии, заполняем анкеты. И растем в своих собственных глазах и в глазах всего отсека и даже соседнего с нами испанского. И я, выполнив тысячу поручений, обеспечивающих это важнейшее мероприятие, и дождавшись своей очереди пользоваться ручкой, тоже заполняю анкету.
Заполняю в третий раз, и уже сейчас, как думалось, в последний. И опять скачу по хорошо знакомым полочкам анкеты: …состоял ли я в подпольной организации РСДРП?.. подвергался ли я репрессиям со стороны царского правительства??. служил ли я в Красной армии?!. или в учреждениях белогвардейцев?!. И все повторяю «нет» и «нет» и ищу возможность сказать «да». И опять я чувствую себя в анкете, как в ботинках на три размера больше. И по-прежнему я русский и у меня нет никакого семейного положения, хотя здесь в этом бараке мне исполнилось двадцать семь. Правда, есть и изменения. Прибавилось: комсомол, партийность с 1936 года, «участие в освободительной войне испанского народа» – как сформулировал Журавлев, ранение – на Эбро, и воинское звание – капитан, переводчик испанской республиканской армии. Но это надо отображать в автобиографии, а не в анкете. Отдельных для меня испано-французских полочек в анкете еще не сделали.
Ломаю себе голову над гражданством. Лишили меня там в Латвии подданства или нет? Имею ли я еще подданство или являюсь, как все в роте, лицом без гражданства – син насионалидад?
Для этого надо написать домой в Ригу маме.
А я твердо решил никогда ей больше не писать. Не могу ж я писать ей после того письма, которое я получил там, в Каталонии: «Зачем я разоряю чужую страну?» И это в ответ на мое искреннее длинное, горячее, отосланное накануне отъезда из Парижа в Испанию письмо, в котором я объяснял, как мог, почему я еду в Испанию, почему я должен ехать в эту страну… Письмо, в котором я завещал, как старший, брату и сестре любить советскую Россию. А сестре Зине, она тогда приехала к маме из Москвы, еще особо высоко держать честь советской гражданки.
«Разорять?» Нет, не разорять, а защищать. Не мы первыми начали это глумление над народными чаяниями, эту современную Варфоломеевскую ночь. Я был честен. Да, я убивал, но и в меня стреляли. Это было, как на дуэли, – на равных условиях. Но мои руки не обагрились кровью безоружного врага, хотя я мог расстрелять, перейди он на сторону врага, и родного брата. Нет, ты меня не понимаешь, дорогая мама.
Итак, мы корпели и писали, сначала на черновиках, а потом, после консультаций по проблемам грамматики, начисто. А слух о том, что русских интербригадовцев будут отправлять на Родину, облетел весь лагерь. И мы на короткий срок стали именинниками. К нам наведывались соседи. Заходили как будто ненароком латыши, поляки и даже печальные, замкнутые немцы. Все бездомные, бесприютные.
Зашел знакомый Владек:
– Пишешь, курвин сын Алекс?
– Пишу, Владек, не мешай.
– Ну и правильно, что пишешь… на Родину, значит?
– На Родину, Владек.
– Тоже правильно. Курва их мать. Ты куртку свою козлиную кому-нибудь обещал?
– Нет, не успел.
– Оставишь мне куртку, когда в Перпиньян вызовут?.. У меня, вишь, рубаха, портки и все.
– Конечно, Владек. Что за вопрос? Тебе и оставлю. Она ведь теплая. Только короткая.
– А дома ты новую купишь?
– А ты думаешь, у нас таких курток нет?
– Значит, по рукам, Алекс?
– По рукам, Владек.
– …одеяло белое ты кому-нибудь обещал?
– Нет, оставлю тебе. Прихвати, когда домой будешь ехать.
– Прихвачу, а то сам знаешь, как здесь холодно.
– Да, холодно и голодно.
…Оно и сейчас со мной, это немудреное тонкое, белое, с желтыми по краям полосками, одеяло военных испанских лет. Вместе прошло все странствия. Не удалось, так и не удалось мне вернуть его белокурому Брозиню, майору испанской республиканской армии, первому в истории Каталонии латышу – начальнику милиции городка Палафружель.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
11
Резистанс – движение Сопротивления.