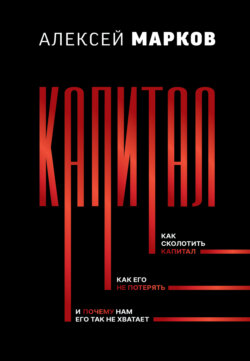Читать книгу Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять, и почему нам его так не хватает - Алексей Марков - Страница 6
Часть 1: Империализм как высшая стадия капитализма
Глава 2
Хороший, плохой, злой Джини
ОглавлениеДавайте знакомиться с Джини! Индекс или коэффициент Джини – это показатель того, насколько далеко ситуация в экономике от сферического благоденствия в вакууме, когда все вокруг вокруг получают абсолютно одинаково. Придумал его итальянец Коррадо Джини в начале 20-го века. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1 – это удобно, потому что можно умножить его на 100 и получить проценты. Чем больше его значение отходит от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения. Ноль – это когда у всех поровну, а 1 – когда всё в руках одного человека [13]. Не будем называть его имя. Нулевой индекс Джини – мечта любого незрелого коммуниста. У всех всего поровну (кроме Вождя), каждый имеет столько же, сколько другой. И – следите за рукой – столько, сколько захочет! Рай на Земле, который почему-то не работает, но Маркс не понял, почему. Об этом я писал в «Жлобологии».
Первые 100–150 лет своего существования марксизм считался совершенно гениальной идеей, которая раз и навсегда перевернёт мир. Но за последние полвека всем постепенно стало понятно, что нет, не навсегда. Экономику простых ремесленников («товаропроизводителей»), которую Маркс считал невозможной абстракцией, мы видим каждый день. Да что там видим – полноценно в ней участвуем! Самые адекватные и полезные для государства люди – это как раз самозанятые «ремесленники», содержащие собственным трудом свои семьи. Парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры, татуировщики, строители, сборщики мебели, музыканты, художники, портные, консультанты, краснодеревщики, риелторы, репетиторы, няни и домработницы. Даже, страшно сказать, коучи. Экономическое положение таких людей доказывает всем окружающим, что неравенство, основанное на личном труде и таланте, не просто допустимо, а абсолютно справедливо. Если ты туп, ленив и ни хера не умеешь – будешь на дне. Если ты настоящий профи, имеешь репутацию, развиваешь свой талант и умеешь себя продать – живи в пентхаусе, пей арманьяк, жри фуа-гра; никто и слова не скажет.
Нассим Талеб в «Антихрупкости» дико котирует самозанятость. Важный и крайне неприятный для наёмных работников фактор – риск увольнения. Но как уволить татуировщика или маникюрщицу? «Доход частников, водителей такси, проституток (очень древняя профессия), плотников, портных, сантехников и дантистов колеблется, но маленький профессиональный Чёрный лебедь, который может полностью лишить человека дохода, этих людей не клюнет. Их риск очевиден. Другое дело – наёмные работники: их доход не колеблется, но может внезапно стать равным нулю после звонка из отдела кадров. Риск наёмных работников скрыт».
Богатым можно стать, никого не эксплуатируя и не отнимая у угнетённого пролетариата кровью заработанный грош. Достаточно развить в себе правильные способности и не унывать. Можно в одиночку создать свой Фейсбук или Эфириум. Можно стать профессиональным геймером, жопастой фотомоделью из инстаграма, тупым рэпером или топовым айронменом, или вообще каким-нибудь сраным видеоблогером. Перед нами открывается масса возможностей, товарищи!
Маркс составил, казалось бы, логичный исторический ряд: сначала «азиатский, античный, феодальный» способ производства, за ним – «современный, буржуазный». Дальше у него шёл загнивающий капитализм, затем катастрофа, после которой на всей планете настаёт счастливый коммунизм. Но сейчас присутствующее повсюду справедливое неравенство немедленно выбрасывает Маркса на помойку истории. Традиционное представление человечества о «должном» катится в ад; потому что как в том анекдоте: «Твой дед боролся за то, чтоб не было богатых? Странно… мой – за то, чтоб не было бедных!»
Вернёмся к Джини; надо разделять индекс по доходам и по богатству1. В Швеции, например, с распределением доходов всё отлично – налоги высокие, и богачи готовы их платить, но тем не менее всего 5 % шведов владеют 77 % всех акций. Для получения дохода им не нужно работать, и коммунисты от этого очень волнуются.
Неравенство – главный фактор, заставляющий людей искать всё более продуктивные способы делать свою работу. Если 6 лет в институте повысят твой уровень жизни, вполне логично пойти поучиться. Если сверхурочные позволят тебе купить машину побольше для поездок на дачу – в этом есть смысл. А если ты директор советского станкостроительного завода, которому нужно выпускать станки в тоннах в месяц, у тебя нет ни единого повода сделать станок легче и эффективнее. Зато можно променять уютную хрущёвку на уютный барак в Магадане.
Впрочем, по другую сторону Джини тоже не всё в порядке. Средний класс тратит значительную часть полученных доходов, в то время как богачи сохраняют и умножают. Да, в абсолютном значении все эти бутылки шампанского, яхты, бизнес-джеты и гольф-клубы стоят дорого, но доля расходов от всего кэшфлоу у настоящего (а не понаехавшего) рептилоида невелика. Чем больше у богатых денег, тем больше они готовы инвестировать. Самые хитрые и алчные быстренько разбирают лакомые кусочки, а не самые умные (например, я) вливают деньги в странные мероприятия и стартапы в надежде на будущую прибыль.
В четвёртой части мы увидим, что более-менее стабильно на короткой дистанции рынок обыгрывают молодые и маленькие фонды, а большие и неповоротливые сидят в плюс-минус индексе. Небогатые рептилоиды без своего фэмили-офиса с этими вашими сиэфэями[9] едва ли заметят небольшой эффективный фонд, а вложатся во что-то громкое и не столь эффективное. Аналогичная ситуация происходит и с компаниями: средний класс с гораздо большей охотой инвестировал бы в небольшое местное предприятие (которое не обращается на бирже, и купить его акции попросту невозможно). Но среднему классу никогда не достанется его понятная прибыль, в которой он мог бы поучаствовать в качестве клиента. Ему дадут зайти в бизнес только во время IPO, когда рептилоиды уже выкачали основной потенциал роста компании.
Чем больше денег под управлением традиционных биржевых инвестфондов, тем сильнее конкуренция в борьбе за поиск активов с высокой доходностью. Тем ниже – для каждого отдельного участника – потенциал этой самой доходности. Это справедливо для всех участников гонки, не только для розничных инвесторов, но для них – сильнее всего.
Чем больше акул на Уолл-Стрит, тем меньше еды для маленьких рыбок. В то же время непубличные (не торгуемые на бирже) компании этому эффекту подвержены слабо, и в них в среднем можно очень выгодно «зайти». Однако данный эффект ползучим образом приходит и в этот сектор: создаются брокерские компании, специализирующиеся на secondaries – акциях непубличных предприятий; появляются фандрайзинг-платформы, где каждая домохозяйка может купить кусочек стартапа ещё до IPO. Пройдут десятилетия, пока этот эффект «перельётся» на непубличные рынки, и доходность там снизится. Пока что относительно публичных рынков доходность непубличных рынков выше примерно вдвое (по данным Cambridge Associates).
Да, доступ для частных инвесторов к последним постепенно демократизируется. Но, вероятно, даже при снижении общего уровня доходности всех рынков разница между публичными и непубличными будет сохраняться.
Александр Писанов, управляющий партнёр инвестиционной компании Lemma Capital
Что из этого следует? Сильное неравенство делает экономику ещё менее эффективной. Остаётся золотая середина: неравенство есть, но всем достаётся по более-менее сытному куску экономического пирога (яблочного, конечно же). Миллиардеры по-прежнему покупают роскошные яхты и летают на Лазурный берег на личном самолёте пить бургундское. Хорошо это или плохо?
Так сразу-то и не поймёшь. Особенно с нынешней слежкой. За углеродным следом. Возьмём, например, деструктивных богачей – хозяев контор по микрозаймам до зарплаты. Их действия направлены на получение прибыли, при этом остальные слои общества либо не становятся богаче, либо – что чаще – беднеют и умирают. Нужны ли такие персонажи экономической системе – вопрос открытый. На этом моменте на задней парте могут проснуться адепты так называемой «трикл-даун» экономики[10] (о ней подробнее расскажем позже) и начать собирать свою маленькую секту. Да, богачи концентрируют в своих руках капитал. Но некоторые из них направляют его на создание чего-то нового и интересного, нанимая людей и создавая что-то прекрасное.
Представьте, что товарищ Маск завтра построит лифт с Луны на Землю, чтобы таскать оттуда всякие полезные и дорогостоящие ништяки вроде гелия-3. Другой упоротый богач захочет сверхбыструю яхту и отвалит материаловедам мешок золота на разработку таковой. Но новые композиты пойдут не только на десятипалубный дом в океане, но и на машины, дома или более эффективные самолёты для всего общества.
А не кажется ли вам странной идея ориентироваться на одну-единственную цифру как на показатель здоровья экономики? И почему именно Джини? Это самый попсовый индекс в макроэкономической тусовке, потому что он попросту был придуман раньше остальных. Однако он не единственный; современная экономическая наука знает порядка дюжины других измерителей неравенства, отличающихся от Джини чуть более, чем никак. Но так повелось, что считать начали именно его, и в последующих работах было удобнее посчитать ещё один Джини и сравнить с какими-нибудь другими, чем пересчитывать массивы под новый коэффициент. В чём же заключаются его недостатки?
Во-первых, индекс индексу рознь. Напомню, что в Швеции, Нидерландах, Дании и Норвегии индекс Джини по доходам невысокий [14], и американские социалисты обожают тыкать им в чешуйчатые лица собеседников. Посмотрите, как надо строить справедливую экономику для каждого! Собеседники усмехаются и идут обсуждать коэффициент по капиталу за бокальчиком Шато Сижу-Пердю 666-летней выдержки. Да, в Северной Европе твоя зарплата не сильно отличается от зарплаты соседа. Но его капитал может быть несоизмеримо выше, и с такой зарплатой (одинаковой для всех) ничего ты с ним не сделаешь. Никогда. Он богач, а ты на работу ходишь. Вы разные.
Более того, одинаковый Джини по доходу в соседних странах отнюдь не означает, что люди по обе стороны границы живут в одинаково справедливых государствах. В условном Зимбабве индекс могут считать по налоговым декларациям, которые включают в себя все источники дохода, будь то зарплата, дивиденды, торговля акциями, золотые парашюты, платиновые унитазы и всё такое. А в условном соседнем Мозамбике индекс вычисляется исключительно по зарплате, и большая часть жирка чешуйчатых остаётся незамеченной исследователями. А через дорогу – в Замбии – коэффициент вообще считают по опросам потребителей в торговых центрах. А потом меряются, у кого меньше [15].
И это ещё не самый вопиющий случай! Где-то считают подоходный Джини до вычета налогов и прибавления бюджетных подачек, а где-то – после. В книге «Сверхдоходы в XX веке» Аткинсон и Пиккети [16] показали, что в 70-х и 80-х годах доля от общего пирога доходов, которую забирает себе самый богатый процент людей, была на минимуме. Но в англоязычных странах неравенство после этого попёрло вверх, а в странах континентальной Европы и Японии либо росло не сильно, либо вообще не росло. Вот ведь англосаксы проклятые, плодят неравенство! Так, гляди, скоро докатятся не до мамы с папой, а до «инвестора 1» и «инвестора 2». А там и (шшш!) до «инвестора 3»! Даёшь японскую справедливость в ирландские массы! Но про ирландский ВВП на душу населения я расскажу в другой раз, хотя ладно, забегу вперёд: с ним не всё ок.
Теперь посмотрим, как снижается коэффициент после того, как государство коварно отняло деньги и мудро их распределило. В англоязычной Ирландии он снижается на 40 %, а в Японии – всего на 15 % [17]. Не такая уж очевидная зависимость. И что в сухом остатке? Коэффициент Джини – такая себе статистика, но в первом приближении и с рядом условий ей можно пользоваться. А значит, воспользуемся и мы.
Итак, американский Джини. В 1979 году он составлял 0.31. Not great, not terrible. Но уже через какие-то 15 лет он уверенно подрос до 0.37 [18], а к концу ковидного карантина и вовсе составил 0.49 [19]. Но давайте не зацикливаться на индексе, а копнём другие данные! Здесь все тоже выглядит жутко несправедливо: доходы (после налогов и плюшек от государства) с 1979 года росли неравномерно. Для 1 % самых богатых граждан рост составил без малого 226 %. А для следующих за ним 19 % доходы выросли в 2.5 раза скромнее [20]. Мироощущение американцев не обманывало: послевоенное единение закончилось, и общество начало уверенно расслаиваться на рептилоидов и остальных. Вопрос лишь в том, что же именно поменялось на североамериканских просторах, почему поменялось и как хвостатые создания поймали сверхприбыли за хвост (sic!).
Независимые экономисты выделяют три ведущих фактора расслоения доходов: рост цен на недвижимость, рост рынка ценных бумаг и налоги [21,22]. На самом деле факторов гораздо больше, и все они хитроумно связаны между собой.
Попробуем распутать этот клубок.
9
CFA – Chartered Financial Analyst, самый могучий орден финансовых аналитиков на этой планете
10
Trickle-down – экономика просачивания, когда траты богачей достаются низшим слоям.