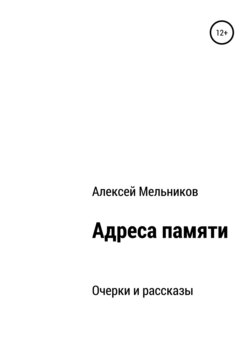Читать книгу Адреса памяти - Алексей Мельников - Страница 9
Нигде и никогда
Оглавление– Как меня найти? – переспросил Михалыч. – Да проще простого. Дом престарелых, что на Маяковке, знаешь? Ну, так вот, заходишь в корпус и говоришь: «К Михалычу». И тебе всякий укажет. Я – кому телевизор починить, кому радиоприемник. Опять же плакат какой-нибудь для центра нарисовать – все ко мне идут…
Его последнее пристанище – четыре на три метра комнатенка с умывальником, но без туалета. Две панцирные койки – его и нынешней жены, шкаф, стол, два стула, ну, вот, пожалуй, и все. На столе – разложенный во всю ширь, но еще не законченный плакат про красноносых алкашей с соответствующей рифмой. Михалыч поясняет: начальство просило пропесочить как следует нарушителей режима, хотя от режима этого сам порядком натерпелся…
– Слушай, – как бы спохватывается и переходит на заговорщический тон. – Ну, никакого житья – все сумки обшаривают. Чуть бутылку где найдут – долой. Говорю им: мне на каштанах сказали настаивать – помогает. Я и к главврачу ходил. Вот же, показываю, у меня и каштаны приготовлены. Для настойки… А он взял и отнял. Ну, было один раз. Напился. Так я же заранее пошел к главврачу и предупредил: мне нужно напиться – для разрядки… И все. И больше ни разу. Ну да ладно. Это я так…
Михалыч – маленький жилистый старичок. На вид – далеко за семьдесят. Давно тоскующая по штопке тельняшка и одинаковые с ней по возрасту штаны – его обычный гардероб. Говорит, что подполковник. И даже – резидент. Ясное дело, в отставке. Подробности опускает – подписку, клянется, дал на 25 лет о неразглашении. Впрочем, не удержался и понес, понес… В ход тут же пошли короткоствольные автоматы, парашюты, стреляющие ядом авторучки и чертовски сложный венгерский язык. Дальше – Египет: раскаленные пески и книжица убористых стихов о неизлечимой русской тоске по хрустящему снегу.
– Я их прям залпом сочиняю, – клянется старик. – Сажусь – и всю ночь, не вставая, пишу. Жена-покойница за это сколько раз ругала. Зачем, говорит, зря свет прожигаешь…
Он долго ищет в своем рукописном сборнике «каирские» страницы, цепляет на нос очки и с чувством читает… О древних сфинксах, о сыпучих песках, о русской душе, о елке за окном. Голос Михалыча дрожит. На глаза наворачиваются слезы. Он резким движением сбрасывает на стол очки, трет сморщенной ладонью нос и, как бы извиняясь, говорит:
– Чувствительный я очень. Не могу…
Разговор сдвинулся в сторону Индии. Туда, как назло, в агенты не взяли. Вместо нее героя отрядили в Анголу. Или в Намибию. А может, в Албанию. Чувствуется, Михалыч и с георгафией не на «ты», и быстро ее сворачивает. Теперь вот, гордо выпячивает грудь в потертой тельняшке, – художественное ремесло. В шкафу пылятся трафареты «Не влезай – убьет!», «Играйте в Спортлото!» и т.д.
О том, как угодил в богадельню, рассказывает скупо. Что-то вроде Льва Толстого – плюнул и ушел. «Дед, дай сто рублей, мне деньги нужны!» – последнее, что помнит Михалыч из разговора с внучкой.
Перед окнами Михалыча – чисто выметенный двор, белые халаты, обшарпанные корпуса. Кругом большая и убогая опрятность. От кухни тянет домашним борщом. По дорожкам в инвалидных колясках мерно шествует недвижный контингент. Условно подвижные, напротив, больше лепятся на скамейках и с лицами, отмеченными печатями невыразимой обреченности, толкуют о чем-то своем, несбыточном. Или играют в карты. В воздухе пахнет тоской. Хочется убежать…
– Я вообще-то себя называю чудаком, – признается Михалыч., – и, как его, забыл это слово…
Он гулко стучит с досады пальцами по лбу…
– Ну, что ты будешь делать, память какая стала… А, вспомнил: эксцентриком – вот как я себя называю… Разведчик – он ведь всегда актер. А я люблю играть, разыгрывать. Это даже не дурашливость, хотя внешне, может быть, так и есть. Скорее, ерничество… Так легче. Так легче, когда совсем тяжело…
В подтверждение тут разыгрывает пьяного: с помутневшим взглядом, с заплетающимся языком – не отличишь. Но опять-таки клянется: в жизни – ни-ни. «Нам же, разведчикам, таблетки особые полагались, – переходит на шепот дед. – Проглотишь одну – и трезвый. Хоть за баранку после банкета садись. Точно говорю».
Пошла новая повесть. Не менее правдивая. Как самого «первого» в Детчино возил Высоцкого слушать. «В ту пору занедужил обкомовский шофер, – опять пошел нести свое неугомонный старик. – И прознала партия, что есть-де в Калуге опытный контрразведчик Михалыч, и пришла ко мне партия и сказала: «Давай, Михалыч, выручай. Надевай свои пистолеты и садись за баранку. Ответственные гости намечаются. Не подкачай. Так и есть: является в область собственной персоной сам Михайло Андреич Суслов. Одарить своего закадычного друга Андрея Андреича Кандренкова грандиозным подарком – знаменитым бунтарем-песенником. Тот, ясно дело, был не разлей вода с главным зажимщиком вольнодумцев Сусловым. И вот в детчинской резиденции Высоцкий и дал им всем жару про «порвали парус», про «охоту на волков». Здорово прохрипел. На славу. Ясно дело, выпили. Чувствую – повело. Э, нет, думаю, так дело не пойдет. Проглотил специальную таблетку – вроде отошло. Но все равно часок-другой полежал. А как же? Чай не дрова везу. Такая ответственность…»
Михалыч смотрит на часы. Надо спешить. Жена в больнице – переживает, как она там. Да и молодожен ведь он – именно здесь, в приюте, на закате лет обрел-таки семейное счастье. Правда, с четвертой попытки. Размеренный и тягостный ритм дома престарелых, кажется, ничуть не сказался на старом неугомонном болтуне.
У Михалыча вечный цейтнот – ни минуты свободного времени. Того самого проклятого времени, к которому в этом несчастном заведении ты приговариваешься навсегда. К его абсолютной ненужности. Гнетущей избыточности. К его пожизненному плену. И некуда из этого плена бежать. Разве что в прошлое. В далекое-далекое прошлое. Такое далекое, что и не вспомнишь: а было ли оно вообще? А если и было, то неужели с тобой? И явь это или сон? Быль или небыль? Нет ответа…
Эх, подняться бы куда-нибудь высоко-высоко в небо. Чтоб захватило дух. Чтоб было точь-в-точь, как в детстве. Когда, набегавшись по двору, счастливый и уставший, ты приходишь домой, валишься на кровать, опускаешь голову на душистую с накрахмаленной наволочкой подушку, закрываешь глаза и под затихающий нежный мамин шепот летишь куда-то далеко. Летишь… И все-то у тебя еще впереди. Все-все. Целая прекрасная, долгая жизнь. Узнать бы ее только. Не упустить…