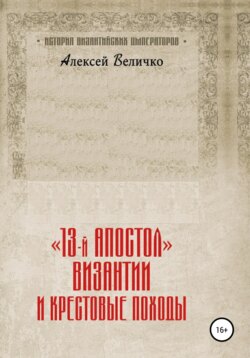Читать книгу «13-й апостол» Византии и Крестовые походы - Алексей Михайлович Величко - Страница 11
Династия Комнинов
V. Император Алексей I Комнин (1081—1118)
Глава 3. Византия возрождается. «Тринадцатый апостол»
ОглавлениеВ военных трудах, волнениях, победах и заговорах прошел роковой 1091 г. Не смущаясь тем, что его меры могут быть признаны непопулярными, Алексей I Комнин деятельно восстанавливал централизацию в Византийском государстве – практически повторял то же, что и представители славной Македонской династии в сходных ситуациях, хотя и действовал более умеренными способами. Его шаги без особого энтузиазма были встречены в аристократических кругах, где, как мы видим, созрела целая вереница заговоров против царя, не прекращавшихся вплоть до смерти Комнина. Народ хотя и был утомлен налогами, но оценил стабильность и надежность власти. Заботы царя о восстановлении правосудия и его горячая деятельность по укреплению Византии не остались незамеченными, и Комнин стал самой популярной в обществе фигурой282.
Действительно, в короткое время, ценой невиданных усилий, император создал новую армию, восстановил флот и заставил понастоящему работать систему государственного фиска. Помимо национальных солдатских кадров, поставляемых фемами и семьями, служившими за земельный надел, в византийской армии уже служило множество наемников из числа самых разных народов: русские, англичане, турки, аланы, франки, немцы, болгары. Кроме этого, существовала придворная гвардия «бессмертных», формируемая из варягов, и, как указывалось выше, корпус архонтопулов – сыновей павших знатных воинов. Особой заслугой Комнина следует считать возрождение кавалерии, которая к началу его царствования практически отсутствовала как род войск.
Император придавал огромное значение флоту, а потому в короткие сроки, несмотря на скудность финансов, сумел построить множество кораблей. Тем самым он ослабил зависимость Константинополя от Венеции, и кроме того обеспечил свободное торговое мореплавание близ своих границ. Новый византийский флот блистательно показал себя в войне с печенегами и в последующем Крестовом походе. Разумеется, эти мероприятия обошлись очень недешево, а потому император был вынужден кардинально решить, вопервых, вопрос налогообложения и упразднения иммунитетов на земельные наделы аристократии, а, вовторых, монастырских земель. Чтобы пополнить государственную казну, Алексей I с неумолимой суровостью конфисковал имущество провинившихся лиц вне зависимости от того, принадлежали они к числу священноначалия или светских особ. На пример своего дяди императора Исаака Комнина и св. Никифора Фоки он отбирал в казну пустующие монастырские земли, а также категорически запретил дарения обителям.
Справедливости ради следует сказать, что монашество XI в. вовсе не являло собой пример христианских добродетелей. Так, на Святой горе Афон поселились влахи, которым обители поручили поставку в монастыри продуктов скотоводства. Те не нашли ничего лучшего, как подключить к этой деятельности своих женщин, которых переодевали в мужское платье – представителям слабого пола на Афоне категорически нельзя появляться. А те разносили в монастыри продукты, вследствие чего, как пишет современник, «стали желанными для монахов».
Помимо них, на острове появилось множество мальчиков и безбородых молодых людей, не оставляющих сомнений в роде своих занятий. Группа ревнителей благочестия попыталась бороться с этими постыдными явлениями, и тогда множество недовольных иноков, привыкших жить собственной волей, отказались подчиняться монастырскому уставу и перебрались в Константинополь, где вели вполне мирской образ жизни. Дошло до того, что император приказал патриарху принять срочные меры, а афонитам, проживавшим в столице, грозил отрезанием носа, если те не вернутся в обители. Было очень сложно не замечать, что рост благосостояния монастырей самым негативным образом сказывался на уровне благочестия. Поэтому меры императора следует, конечно, приветствовать283.
Начало 1092 г. Алексей I Комнин встретил, по обыкновению, подготовкой к новым походам. Константин Далассин добивал Чаху, и уже готовил поход против двух узурпаторов – дуки острова Крит Карикома и Рапсоматоама – правителя Кипра, решивших отложиться от Византийской империи. Василевс направил на подавление мятежа Иоанна Дуку, который без особого труда разгромил мятежников и привел острова в повиновение императору284.
Но вслед за этим в 1093 г. пришли известия о грабительских нападениях на западные земли Вукана, жупана Рашки – сербского государства, располагавшегося на ЮгоЗападе нынешней Сербии. Его тайно поддерживал Константин Бодин (1081—1101), король Дуклии – другого Сербского государства, правнука Болгарского царя Самуила, с которым некогда боролся император Василий Болгаробоец. Этого человека трудно было отнести к друзьям Византии. Впервые он предал императора еще под стенами Диррахия, когда оставил поле сражения и предрешил его исход. Затем, находясь в плену в Константинополе, а потом в Антиохии, где некоторое время проживал, Сербский князь укоренился в ненависти к ромеям. Женитьба на итальянке окончательно сформировала образ его мыслей. С 1081 г. Константин систематически использовал трудности Византии себе на пользу, стремясь обеспечить свое верховенство на побережье Далмации и отобрать у византийцев западные сербские области285.
Алексей I тут же собрал большое войско и направил его против сербов. Заняв город Скопье, он принял их посольство, прибывшее с предложением мира, и был готов заключить мирный договор. Но жупан вовсе не собирался выполнять предложенные им же самим условия и в 1094 г. повторил набег на западные границы Византии. Предоставляя шанс своему мятежному племяннику восстановить доброе имя, василевс поставил Иоанна Комнина, сына севастократора, во главе нового войска и направил его против сербов.
Но юноша был слишком горяч, неопытен и вспыльчив, чтобы выполнить столь ответственную миссию. Проигнорировав сообщения одного монаха о готовящемся нападении на него врагов, Иоанн беспечно разбил лагерь в неудобном месте, и ночью сербы без большого труда вырезали почти половину византийской армии, внезапно напав на нее. Несолоно хлебавши Иоанн возвратился в Константинополь.
Тогда император сам взялся за дело: он собрал новую армию и повел ее в поход, сделав «дневку» в городе Дафнутия, располагавшемся в 40 км от Константинополя. Сербы, наслышанные о мужестве и полководческом таланте Алексея I Комнина, поспешили заключить новый мирный договор. Но, наученный горьким опытом, василевс потребовал, чтобы жупан лично прибыл в его лагерь с повинной, и Вукан не посмел противиться. В подтверждение своих слов о мире жупан отдал в качестве заложников двух своих племянников – Уроша и Стефана Вукана286.
Казалось бы, все складывалось хорошо, но Византийского царя ожидало уже новое испытание. Очередной претендент на царский титул, на этот раз сын покойного императора Романа IV Никифор Диоген (1070—1094), решил испытать свою судьбу. Поставив свою палатку рядом с шатром василевса, он ночью спрятал меч под одежду и вошел в царскую опочивальню, где служанка веером отгоняла комаров от лица спящих императора и императрицы.
Казалось бы, все способствовало тому, чтобы завершить начатое, но внезапно судорога сковала члены Никифора, и он поспешно покинул шатер, решив на следующую ночь привести свой замысел в исполнение. Наутро заговорщик подготовил другой план. Он узнал, что Константин Дука, сын Марии Аланской, которого царь взял в первый раз на войну, чтобы приобщить к воинскому искусству, пригласил Комнина в баню. Поэтому Диоген решил сделать засаду на дороге, но попался на глаза верному Татикию, который без труда разоблачил его.
Никифор Диоген бросился бежать, надеясь найти спасение в имении Марии Аланской, но по дороге 17 февраля 1094 г. был задержан братом царя. На следствии Диоген дал показания против многих знатных сановников и самой Марии Аланской, которая, как он утверждал, знала о готовящемся заговоре против Алексея I. Император был потрясен – открылось, что множество самых близких царю людей, включая бывшую возлюбленную Марию Аланскую, готовили ему погибель. Но внешне он не подал виду, что ему все известно, и предал наказанию только Никифора Диогена и его ближайшего помощника, некогда блистательного полководца Кекавкамена Катакалона. Они были ослеплены и отправлены в ссылку.
Затем последовала интересная сцена, в равной степени демонстрирующая и снисходительность царя, и его ум. На следующий день император созвал всех вельмож, имена которых значились в показаниях Никифора Диогена, и кратко поведал им о планах узурпатора. Вокруг раздались грозные крики в адрес Диогена и славословия Алексею I Комнину, которого все сановники желали иметь своим василевсом. Царь остановил их: «Не надо шуметь и запутывать дело, ведь, как уже сказано, я даровал всем прощение и буду к вам относиться как прежде». Тем самым он показал, что ему известно о заговоре гораздо больше, чем он озвучил при встрече с аристократами. Потрясенные сановники разошлись по домам, славя милость и доброту Алексея I Комнина287.
Осенью 1094 г. вновь зашевелились степняки – на этот раз половцы, одна из орд которых пригрела у себя самозванца, называвшего себя очередным сыном царя Романа IV Диогена. Половцы легко признали его «императором» и решили «защитить» права самозванца, выступив в поход на Константинополь. В ответ настоящий царь собрал войско и решил лично возглавить его. Многие близкие сановники горячо отговаривали императора, уже давно вышедшего из поры молодости и много раз раненного на полях сражений. Но Алексей, который, по словам дочери, в это время «не доверял даже самому себе, не хотел руководствоваться соображениями своих близких; он возложил все решения на Бога и просил Его решения». Все решил жребий, который бросил патриарх Николай Грамматик (1084—1111). Две записки легли на алтарь, и одна, на которой было начертано решение идти в поход, оказалась в руках архиерея. Для царя этого было достаточно, чтобы укрепиться в первоначальной мысли.
Выступив против половцев, Комнин разделил армию на несколько самостоятельных отрядов, командование которыми доверил самым известным и талантливым полководцам – Георгию Палеологу, Никифору Мелиссину, Иоанну Тарониту, Георгию Ефворвину, Константину Умбертопулу. Сам он занял Айтосский перевал, где и получил известие о переправе половцев через Дунай – они напрямую рвались к Адрианополю. Началась тяжелая война, где успех долго не давался в руки византийцев. Наконец, в одном из сражений император нанес степнякам сильное поражение – их погибло не менее 7 тысяч человек и еще 3 тысячи попали в плен. Сам самозванец был схвачен, отвезен в Константинополь и там ослеплен. Но основная борьба была все еще впереди, и только летом 1095 г. императору удалось окончательно отбросить половцев обратно. Затем, получив известия о новых турецких набегах на Востоке, царь вернулся в Никомидию, где предпринял успешные меры по укреплению границы288.
Может показать просто невероятным, но всего за несколько лет император, не имевший изначально ни армии, ни денег, сумел разгромить основных врагов и замириться с малозначительными противниками. Печенеги были истреблены почти поголовно, восточные турки, если решались напасть на Римскую империю, тут же оказывались в аналогичной ситуации, норманны даром отдали все свои владения на Балканах, половцы просили мира. Границы Византии значительно расширились, армия восстановила свое доброе имя и старую славу. За годы войны выросли и возмужали многие замечательные полководцы, государственная казна пополнилась, мятежники заканчивали свой жизненный путь в ссылке.
Удивительно подвижный и деятельный, царь никогда не тратил время попусту. Едва выдавалась свободная минута между походами, он со всей своей неукротимой энергией обращался к вопросам обеспечения законности, принимая к своему производству жалобы, особенно вдов и сирот. Но бульшую часть свободного времени он посвящал изучению Священного Писания – дочь писала впоследствии о нем, что «и досуг для Алексея тоже был трудом». Царь редко позволял себе такие развлечения, как охота и излюбленная византийцами игра в мяч – он предпочитал гимнастику, верховую езду и воинские тренировки. Даже в старости, когда болезнь ног, подагра, серьезно мучила его и он оставил в стороне былые увлечения, василевс все еще ездил верхом на лошадях289.
Не только воинские дела занимали императора, кардинально меняя недавние традиции, Алексей I Комнин действовал как настоящий глава церковного управления. Как и при прежних выдающихся императорах, все, в буквальном смысле слова, вопросы церковной жизни попали в круг его ведения. В первую очередь царь решил вопрос о церковном имуществе, ранее изъятом для государственных нужд. А после того как исполнил ранее данное обещание, опубликовал новеллу «О неупотреблении священных сосудов на общественные потребности»290.
Попутно василевс предпринимал систематические меры по восстановению церковного благочестия и обеспечения целостности Православного вероучения. Еще весной 1082 г. императору поступил донос на Иоанна Итала (1025—1082) – известного и популярного византийского философа, ученика Михаила Пселла. Ученого обвинили в распространении еретических мыслей, а также идей, уже осужденных Вселенскими Соборами – иконоборчество, отказ от признания Пресвятой Марии Богородицы и т.п. На удивление, патриарх Евстратий Гарида, вместо того чтобы осудить Итала за ересь, стал главным распространителем его учения (!). В ответ само духовенство восстало против столичного архиерея и вместе с народом направилось к его резиденции, угрожая выбросить Евстратия в окно, если тот не угомонится291.
Конечно же, император не имел права игнорировать такую ситуацию и потому приказал провести дознание. По его распоряжению из сановников и клириков был составлен суд, и Италу предъявили 11 обвинений. Тот вначале согласился признать свои ошибки, но затем отрекся от прежних покаяний. Тогда на Константинопольском соборе 1084 г. философа признали виновным по всем пунктам, постригли в монахи и сослали в отдаленную обитель292. А попутно низвергли и Евстратия, место которого на патриаршем престоле «Нового Рима» занял Николай III Грамматик.
В 1094 г. императору вновь пришлось принять деятельное участие в борьбе с двумя другими ересями. Ересиархом первой из них был некто Нил, ложно учивший о природе Спасителя. Комнин неоднократно приглашал к себе этого человека, пытаясь отговорить его, но тот был упрям и ни при каких условиях не соглашался признать Халкидонский орос. Сам Нил был отшельником из Египта, и его образование представлялось весьма сомнительным. Однако ересиарх обладал личной смелостью и умением упрямо стоять на своем, ничего не опасаясь – своего рода вариант религиозного фанатизма, бездуховного и бездушного. Занятый в своей келье чтением Священного Писания, игнорируя Святоотеческое Предание, Нил считал себя новым мессией, избранным Богом для просвещения других.
Выполняя свое «предназначение», он оставил Египет и перебрался в Константинополь, где вскоре прослыл человеком благочестивым. Тем паче, что он действительно был истинным аскетом. Его строгая и суровая речь привлекала к себе многих византийцев, и женщины яростно спорили между собою, желая пригласить к себе «пророка», который был способен посвятить своих слушателей в «тайны» Православия. «Темнота его речи казалась глубиной, грубый язык – Евангельской простотой. Цитирование из апокрифов для многих из его слушателей казалось верхом учености»293.
Видя, что ересь собирает широкую аудиторию, василевс срочно созвал Синод во главе с патриархом Николаем III Грамматиком, где ересиарх и его учение были анафематствованы. В этом же году пришлось созывать Собор и по вопросу другой ереси, которую распространял по столице некий иерей Влахернит, выходец из секты «энтузиастов» – религиозной группы, полагавшей, что свои тайны, заключенные в Священном Писании, Господь открывает избранным людям в моменты их экстаза. И на этот раз инициатива рассмотрения этого вопроса принадлежала царю. Влахернита осудили и анафематствовали вместе с его учением294.
В 1115 г. царь начал системно бороться на богословском поприще уже с павликианами. При помощи своего зятя, кесаря Никифора Вриенния, епископа Филиппопольского и митрополита Никейского, он организовал серию диспутов у себя во дворце. Еретикам было позволено открыто высказаться и дебатировать с самим царем. Император, забыв о пище и отдыхе, целыми днями дискутировал с ними. Деятельность царя по отношению к павликианам оказалась очень эффективной. Эта грозная ересь почти полностью исчезла, поскольку ее «богословы» были переубеждены василевсом, а сами павликиане получили большие дары, должности на государственной службе и землю. Многих павликиан император поселил в специально построенном городе Алексиополе, близ Филиппополя, выделил им пахотные земли и виноградники. Только трое павликиан продолжали упорствовать. Тогда Комнин приказал поселить их возле своего дворца и в свободное время продолжал убеждать еретиков. Наконец, один из них смирился и отрекся от старых взглядов, но двое так и сохранили свою веру, за что были заточены в тюрьму, где позднее скончались295.
Прекрасное знание Православного вероучения, отточенный богословский язык и общая эрудиция императора, его постоянная готовность вступиться за Православие в диспуте с еретиками – все это привело к тому, что Алексея I Комнина современники называли «тринадцатым апостолом»296.
Впрочем, борьба с другой ересью, богомильством, была не столь успешной. Первоначально василевс обеспечил богословскую линию нападения, поручив знаменитому монаху Евфимию Зигавину написать сочинение, в котором подробно излагались все известные ереси. Вскоре это произведение под названием «Догматическая Паноплия (“Всеоружие”)» вышло в свет и активно использовалось в борьбе с богомилами297.
Алексей I узнал, что идеологом этой ереси является некий монах Василий. Император тайно пригласил его к себе во дворец, оказал почести и завел разговор. Василий не знал, что за гардиной находится скорописец, стенографирующий все речи монаха. Каково же было его изумление, когда император отдернул завесу, а за ней перед главой богомилов предстал Константинопольский патриарх Николай III и члены синклита. За отказ отречься от своего учения Василий был брошен в тюрьму, арестовали и множество его последователей. На следующий день император вместе с синклитом рассмотрел их дело. Сложность проведения следствия заключалась в том, что, за исключением отдельных вождей, остальные богомилы отрицали свою принадлежность к ереси.
Тогда царь пошел на хитрую уловку, чтобы узнать, кто из подсудимых в действительности является богомилом, а кого обвинили ложно. Каждого из обвиняемых царь предупредил: все они преданы смерти за ересь, но раскаявшиеся примут смерть как правоверные христиане, а упорствующие – как богомилы. И когда разожгли на площади костры, почти все обвиняемые столпились возле «своего», предназначенного для еретиков. Так василевс отделил «козлищ от овец». Ложно обвиненных христиан, естественно, отпустили по домам, а богомилов отправили в тюрьму298.
Как человек, искренне и глубоко верующий в Бога, Комнин был настоящим филантропом и много жертвовал на благотворительные цели. Имея в качестве примера для подражания свою мать, он просто не мог быть иным, а согласно сохранившимся свидетельствам современников, Анна Далассина имела завидную привычку большую часть ночи проводить в молитве и пении псалмов299.
По приказу царя был значительно расширен дом призрения бедных, располагавшийся в столице. Сироты вообще составляли предмет особой заботы василевса, и для них он открывал школы и дома, где одновременно проживало до 10 тысяч детей (!). Император лично написал устав (типикон) такой богадельни, который, по словам исследователей, составляет пример «самого трогательного, что история сохранила на счет гуманитарных понятий в византийском обществе». Обслуживало заведение несколько тысяч педагогов, врачей и слуг – и все за государственный счет.
Как и всякий благочестивый император, Комнин слыл «другом монахов». При его поддержке св. Христодул основал в 1088 г. образцовый монастырь в Патмосе300. А Святая гора Афон, известная уже несколько столетий как духовный центр Православия, получила при Алексее I Комнине новые льготы. Император освободил все Афонские монастыри от какихлибо налогов и сборов, установив своей новеллой, что «гражданские чиновники не должны иметь со Святой Горой никаких сношений». Игумен, возглавлявший специальный орган управления Афоном – совет старейшин, рукополагался самим василевсом, вследствие чего Гора оказалась под покровительством и непосредственной защитой Византийского царя301.
Перу императора принадлежит множество новелл по вопросам догматики и каноники. В 1086 г. Алексей I издал новеллу, в которой определил размер вознаграждения, получаемого епископами со своей паствы. В 1107 г. им была издана новелла, регулирующая вопросы избрания епископов и прочих клириков. Констатировав, что «христианская Церковь доведена до опасного положения, поскольку иерархический чин ежедневно приходит все к худшему и худшему состоянию», император назвал себя высшим блюстителем церковных порядков. И такой порядок вещей в очередной раз стал спасительным для Византийской империи и самой Восточной церкви. Уровень образования и высота духа многих клириков в то время находились на крайне низком уровне, благочестие было забыто, а вследствие смешения понятий о том, чем должна заниматься Церковь и священноначалие, были забыты священные каноны.
Об этом ярко свидетельствует письмо патриарха Николая III Грамматика императору: «Есть Апостольское правило (33е), которое гласит: «Ежели который епископ или пресвитер, или диакон не постятся во Св. Четыредесятницу или в среду и пяток, да будет низложен, а мирянин отлучится». А теперь найдешь ли ты постящихся иереев? Все извиняются немощью – даже сами законники и церковные проповедники. Кто теперь постится? Разве где какой затворник или пустынник, да и то редко. Как же налагать прещения на легкомысленный и необразованный народ просто и когда случится, и притом, когда никто не соблюдает их? Я не налагаю продолжительных епитимий или прещений, потому что никто не соблюдает их. Я давно знал, что давно ничего не соблюдает человеческое естество. Безумно налагать епитимии на этих людей!»302
Казалось, что св. Юстиниан Великий вернулся на царский престол вечной Римской империи. Желая искоренить зло, царь подробно изложил свои претензии в адрес архиереев и прочих клириков, а затем определил условия улучшения их положения – как финансового, так и нравственного. Никакие «мелочи» не ускользали от его взора. Так, Комнин законодательно защитил патриаршего хартофилакса, о котором некоторые провинциальные епископы думали, будто ему не по чину сидеть рядом с ними на заседаниях синода. От взора императора не укрылась и ситуация с Константинопольским патриархом, права которого он решил особо закрепить в своих эдиктах303.