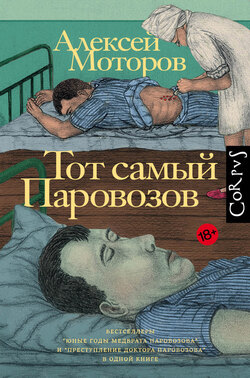Читать книгу Тот самый Паровозов - Алексей Моторов - Страница 10
Юные годы медбрата Паровозова
Первая халтура
ОглавлениеПоговорим о деньгах. Не о том, что, согласно теории Маркса, деньги – это всеобщий эквивалент любого другого товара, – нет, мы поговорим о деньгах по-простому.
Денег всегда мало. Да можно сказать, их всегда нет. А если работать, как я, в реанимации, их и не будет. А безденежье, особенно хроническое, – состояние в общем-то малоприятное и, можно сказать, унизительное.
Тут, конечно, надо сделать скидку на описываемые мной времена. Тогда не было сегодняшнего разнообразия и разница в доходах граждан не исчислялась миллионами. Время было в этом плане наивное, даже какое-то инфантильное. Средний заработок в стране был около ста пятидесяти – ста семидесяти рублей в месяц. Многие получали еще меньше, пенсии – те вообще доходили до сорока рублей. Таким несчастным едва хватало на еду, транспорт и нехитрую одежду.
Как правило, никто из них не роптал, а люди пожилые говорили неизменное: «Одеты, обуты, чего еще надо, главное, чтобы войны не было». Войны вроде не было, но одеты и обуты все они были так, словно кто-то обрядил их в выкинутый на помойку по причине ветхости реквизит пьесы Горького «На дне». Те, кто помоложе, часто придерживались еще более простой философии: «На выпить-покурить хватает, а закуска у меня прямо на огороде растет». Это если, конечно, огород был. Ну а если нет, так и хлопот меньше.
Многие всю жизнь на что-то откладывали. Такое требовало целеустремленности и самопожертвования. Одна моя знакомая еще в первом классе решила скопить на дубленку. И все десять школьных лет прятала в укромное место те двадцать копеек, которые папа с мамой ежедневно выдавали ей на мороженое. После выпускного вечера она с немалым трудом вытащила заначку и пересчитала ведро двугривенных. Получилось около семисот рублей.
Три с половиной тысячи пломбиров, украденных у своего детства. На дубленку в самый раз.
Я и сам не чурался складывать по рублику, лелея мечту о японских часах, но все-таки копить – занятие тоскливое и безнадежное. Два года на джинсы, три года на телевизор, четыре – на холодильник, пять – на мебельный гарнитур, пятнадцать – на машину. Еще не успел накопить на последнее, а тут звонок с того света: «Пожалуйте в гробик!»
Хотя чаще приходилось откладывать даже не на что-то конкретное, а так, на всякий случай. Накопишь, поедешь по городу, а там вдруг повезет, наткнешься на дефицит! На дефицит натыкались следующим образом: нужно было ездить по большим центральным магазинам и смотреть, не стоит ли где здоровенная, часов на пять, очередь.
Конечно, и тогда были богачи, но это отдельная тема. Богачи таскали кошельки, полные денег, у них везде были связи, и дефицитные вещи доставались им легко, без давки в очередях. Богачами легко становились те, кому посчастливилось работать в западных странах.
К сожалению, заграничные поездки, а уж тем более длительная работа за рубежом – удел избранных. Обычные граждане тоже искали разнообразные пути заработать. Некриминальных способов было не так уж много. Например, завербоваться на Север или поехать на летнюю шабашку.
А к чему я это все завел? Ну, во-первых, мне хотелось хорошо одеваться, хотелось хоть иногда ездить на такси. Еще очень хотелось стереосистему. Да пусть и не стереосистему, сойдет и средненький магнитофон. И я отлично понимал, что у медбрата никакой перспективы материального благополучия нет и не будет. Покупка любой значимой вещи, например пальто, превращалась в настоящую финансовую катастрофу. Да какое там пальто! У меня и карманных-то денег, в принципе, не водилось. А деньги, как ни крути, давали ощущение свободы. Свободы и независимости.
Ситуация с оплатой в медицине сложилась любопытная. Таких мизерных окладов не было даже у несчастных учителей. Ставка медсестры – восемьдесят рублей, врача – сто десять. А вожделенный видеомагнитофон стоил две с половиной тысячи. Но так уж вышло, что людей в белых халатах давным-давно отправили на вольные хлеба.
Существует такой исторический анекдот. Первый нарком здравоохранения Семашко во время обсуждения заработной платы медикам заявил что-то вроде: «Хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны!» Действительно, только отгремела Гражданская, денег не было, а врачи всю жизнь занимались частной практикой. Государство и при царском режиме платило врачам немного, не надо строить иллюзий по этому поводу. Но вскоре любая частная практика сошла на нет, а потом стала и вовсе запретным делом. Гинекологи и стоматологи ушли в глубокое подполье, а остальные врачи, и хорошие и плохие, довольствовались нищими окладами в тоскливом ожидании, когда их начнет кормить нищий народ, и дружно проклинали наркома Семашко.
Деньги, конечно, брали. Рисковали, но брали. На чем иногда попадались, и тогда устраивались показательные процессы. Но брали далеко не все и далеко не повсеместно. Существовали традиции как в каждом лечебном учреждении, так и в каждой отдельной местности. Самое страшное, говорят, было заболеть в Средней Азии и попасть к местным эскулапам. И хотя деньги там, по слухам, платили все, причем огромные, толку от этого было немного.
На втором месте шли республики Закавказья. Там за мзду начинали шевелиться, но весьма вяло и куда-то не в ту сторону. Да и сами местные жители не очень-то доверяли своим темпераментным врачам. Все стремились попасть в Москву, в крайнем случае – в Ленинград. Делалось это очень просто.
Покупался билет на самолет, запихивался больной со всеми выписками, справками и снимками, часто с сопровождающим, и уже сразу по приземлении из московского аэропорта по телефону-автомату вызывалась «скорая». Безотказный вариант, к тому же недорогой.
Среди врачебных специальностей есть традиционные, представителям которых давали всегда. Это урологи и гинекологи. Не поблагодарить их почему-то считалось неприличным. Достаточно было посмотреть на стоянку машин у нашей больницы. Время от времени получали хирурги, делясь с анестезиологами. Терапевты, как и невропатологи, в среднем прозябали. Травматологи довольствовались традиционными бутылками. Мне кажется, что хуже всех приходилось реаниматологам. Во-первых, с такой специальностью особо не подхалтуришь. Не станешь же в свободное от работы время реанимировать граждан за деньги. А что касается работы в больнице, то здесь существовал своеобразный парадокс.
Казалось бы, по логике вещей, когда жизнь больного висит на волоске и этот волосок того и гляди может в любой момент оборваться, нужно расшибиться в лепешку, но заинтересовать персонал, в руках которого находится абсолютно беспомощный пациент, но что-то в моей теории не срабатывало. Скорее всего, потому что человек, попавший в реанимацию, пребывает там, как правило, либо без сознания, либо в сознании весьма спутанном. Да и родственники в отделение не пропускались. Только беседа с врачом в холле у лифта и передача, которую забирали сестры.
Видимо, по этим причинам нам редко приходилось слышать слова благодарности от выписавшихся больных. Тех, кто приходил сказать спасибо, я помню по именам. Происходило такое не чаще чем раз в год. Под благодарностью я имею в виду именно слова признательности, а не денежные знаки. Про деньги мы и подумать не могли. Нас так воспитывали.
Но однажды мне пришлось взять. Я почти закончил дежурство, когда, пробегая мимо холла, заметил жену больного, который лежал у нас с сепсисом. Я про него уже рассказывал. И про его жену, которая постоянно находилась рядом, насколько было возможно. И вот когда я проносился мимо, она негромко окликнула меня. Сначала показалось, что нужно принять очередную передачу, но оказалось, что дело не в этом.
– Леша! – негромким голосом начала женщина. – Спасибо вам за все! Я знаю, вы за ним ухаживаете, даже бреете. А позавчера кровь свою отдали, мне Виталий Кимович говорил. Вот возьмите, пожалуйста, и спасибо вам большое!
И она опустила руку в карман моего халата. Я опешил. Ничего подобного со мной не случалось. За пару лет до этого приходили цыгане, сильно шумели и размахивали мятым рублем, который я гневно отверг. Но чтоб, как сейчас, клали прямо в карман, такого не бывало. Я начал энергично протестовать громким шепотом. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел этот позор. Но женщина, тоже шепотом, сказала, чтобы я не выдумывал, и, отступив на боковую лестницу, стремглав покинула место события.
Я настолько растерялся, что пошел и заперся в туалете. Как в шпионском фильме. Когда заглянул в карман, то стало совсем худо. Она дала мне четвертак. Двадцать пять рублей. С трудом помню, как сдавал смену, как прошла утренняя конференция. Только когда ехал в метро, решил, что деньги эти домой не понесу. Я вышел на полдороге, зашел в Краснопресненский универмаг, увидел там на первом этаже большую очередь и купил страшно дефицитную в то время бритву Schick и пару запасных блоков к ней.
Сразу стало легче. Настолько, что вечером наврал Лене, как родственница нашего больного подарила мне бритву.
– И ты взял? – спросила Лена.
Эх, черт, не надо было деньги брать, не надо было ничего на них покупать, вот и собственная жена осуждает.
– Наверное, не надо было брать! – сокрушенно сказал я. – Но уж больно бритва хорошая!
Лазейку я себе все-таки оставил.
– Да нет, почему? – удивилась Лена. – Ты же всегда такую бритву хотел. Просто принято монетку давать, если тебе нож дарят или, вот как сейчас, бритву. Ты дал монетку?
Так что я смутно представлял себе, как буду работать массажистом. Ведь все благополучие массажистов целиком и полностью зависит от так называемых «левых» денег. А это означает, что в карман теперь пихать будут постоянно, а самое главное – с моего согласия. И отпрыгивать и переживать просто глупо. Ладно, тоже мне проблема. Надо просто научиться называть цену твердым голосом и брать купюру уверенно и не краснея.
Ведь оклад был настолько мизерный, что буквально обрекал на нищенство. Восемьдесят рублей безо всяких надбавок. Притом что работа была физически достаточно тяжелой, хотя после реанимационных будней я воспринимал ее как приятную передышку.
В Москве хорошие массажисты были нарасхват, а я решил стать именно хорошим. В этой профессии на первое место выступали руки, даже не руки, а кисти. Нужно было иметь чувствительную, сильную и одновременно мягкую кисть, и казалось, что все это у меня в наличии.
Хотя, с другой стороны, я никогда не был мастеровитым человеком. Нет, конечно, в школе мне доводилось ходить на уроки труда, даже пару лет пришлось работать на токарном станке, но вот просить меня починить что-нибудь было себе дороже. Однажды в реанимации сломался утюг, как назло после очередной затеянной мной стирки, а это означало, что могла сорваться глажка халатов, к которой я припахивал молодых медсестер.
– Леша, починишь утюг – погладим твои халаты, если нет, тащи всю эту кучу домой!
Утюг и впрямь сломался, не грелся, и даже лампочка красненькая сбоку не горела. Я решительно взял ножницы, открутил винтики. И, заглянув в его внутренности, увидел, что один из двух проводов соскочил с клеммы и болтается рядом с ней. Что может быть проще? Я насадил на клемму провод, подкрутил посильнее и собрал утюг заново.
– Пользуйтесь, девочки! – объявил я нашим сестрам с деланым равнодушием, так, по моему мнению, должен вести себя настоящий мужик-хозяин, который может все – и утюг починить, и телевизор, и табуретку сколотить, и пельмени налепить.
Девочки не знали, с кем связались, и воткнули вилку в розетку. Результат оказался впечатляющим. Раздался оглушительный хлопок, из утюга выскочила очень красивая голубая молния, и сразу погас свет. Хорошо еще, что аппараты искусственной вентиляции легких работали от автономного щитка, а то неизвестно, чем бы все это закончилось. Я с ужасом вглядывался в то место, где стояла медсестра, включившая утюг, ожидая увидеть там кучку пепла. Но, слава богу, все обошлось. В потемках на фоне окна был отчетливо виден силуэт, и он шевелился.
– Ох и ни фига себе! – произнес силуэт человеческим голосом. – Что это было?
– Замкнуло, кажется! – обтекаемо сообщил я и побежал в щитовую вставить на место выбитый автомат. Уже при свете мы рассмотрели утюг. Вместо основания традиционной клиновидной формы была затвердевшая к тому времени лужица расплавленного металла. Даже имеющий техническое образование Юрий Владимирович Мазурок подивился подобному зрелищу. Что я такое натворил, до сих пор остается загадкой.
В конце концов, утешал я себя, человеческий организм – это не утюг, там все просто и предсказуемо.
Я вошел в палату и беззаботным тоном, словно сейчас не в первый, а в тысячный раз буду делать массаж, произнес:
– Здравствуйте, мне нужен больной Ичмелян!
В дальнем конце большой палаты, в правом углу у окна, приподнялась голова, и голос с небольшим акцентом произнес:
– Это я Ичмелян, здравствуйте!
Пока я пробирался к его кровати, то успел подумать, что сейчас многое станет понятным, получится из меня массажист или нет.
И, присев на стул рядом с койкой, решил немного побеседовать перед процедурой. Никто, впрочем, меня к этому не принуждал, но я от природы был любопытен, да и новый этап в жизни требовал пристального внимания и изучения.
Больному на вид было чуть больше тридцати, худощавый, лысоватый, а на лице очень умные и веселые глаза. Он представился, вернее, назвался вымышленным именем, так как для Москвы настоящее – Сетрак – оказалось сложным и плохо запоминаемым. Поэтому он и сказал, что его зовут Сережа. Но я, почувствовав подвох, выпытал подлинные данные и горячо заверил Сетрака, что запомню не только имя, но и даже отчество, если тот мне его скажет. Он весело, хотя и недоверчиво рассмеялся и еще раз представился:
– Сетрак Айказович.
– Хорошо, Сетрак Айказович, а теперь расскажите про себя и про свою болезнь! – устроившись поудобнее на стуле, попросил я и начал слушать.
Сетрак родился в Абхазии, а точнее – в Гумисте, пригородном районе Сухуми. Когда ему было четырнадцать, он, разгоряченный после того, как они с приятелями устроили бешеные скачки на конях из совхозного табуна, искупался в обжигающе-холодной воде стремительной реки Гумисты.
Он долго болел, у него началось воспаление спинного мозга – миелит, исходом которого стал паралич обеих ног. С тех пор передвигался он только с помощью кресла-каталки, потом, на двадцатилетие, родители купили ему машину с ручным управлением. Лечился Сетрак много и без особого успеха, в основном ездил на грязелечение в крымский город Саки, а в Москву приехал впервые в смутной надежде на чудо. Но в клинике заверили, что чуда не произойдет, порекомендовав общую в этих случаях терапию и назначив массаж.
Массаж я ему сделал на совесть, хотя на низкой кровати получалось неудобно, хорошо бы массировать на столе в отделении, двумя этажами ниже, но передвигаться сам он не мог, а лишних санитаров, как и кресел-каталок, не наблюдалось.
Я уже заканчивал, когда пришла его мама. Он сам так и сказал, когда в палату вошла пожилая женщина: «Вот и мама моя пришла!» И, обратившись к ней, произнес фразу, которая заняла полминуты. Сетрак говорил на армянском, и я понял только одно слово – «массажист». После чего сзади послышались шаги, и я почувствовал, как что-то зашуршало у меня в кармане.
– Что вы, не надо! – встрепенулся было я, но Сетрак приложил палец к губам, глазами показывая на соседей.
– Это обязательно! – негромким, но твердым голосом произнес он.
Тут и процедура подошла к концу, я пробормотал что-то насчет того, что завтра в то же время, и бочком выкатился в коридор.
Что за черт! Я совсем не хотел брать с него деньги, а тем более в клинике. Но, видимо, здесь свои правила, давно и не мной установленные. И хватит лицемерить! Я ведь именно из-за денег в массажисты подался, а тут строю из себя.
Так, надо перекурить это дело и собраться с мыслями. Я вышел в садик и присел на лавочку. Через минуту ко мне присоединились Вовка с Андрюхой, мои друзья-приятели.
– Мужики! – растерянно сказал я им. – Мне только что больной в карман что-то сунул! Что делать?
То, что сунула его мама, я уточнять не стал.
– Что делать? Радоваться! И обязательно с первой халтуры в пельменной за нас заплатить! – засмеялся Андрюха. – Сколько хоть дали?
– Не знаю, еще не смотрел! – честно ответил я и пожал плечами, но почему-то в глубине души совсем не хотелось, чтобы это был рубль.
– Треха! – уверенно подмигнул Вовка.
– Пятерка! – поднял ставку Андрюха. – Новичкам везет, мне семь лет назад за первый массаж в конце цикла так вообще червонец отстегнули!
– Скажешь тоже, червонец! – усмехнулся Вовка. – Да кто тебе сейчас червонец даст! Ну если только за цикл! Треха, к гадалке не ходи!
И они вдвоем заорали нетерпеливо:
– Давай не томи, Леха, показывай!
Я выплюнул окурок, нашарил бумажку и уже по ее размерам понял, что не рубль. На свет божий появилась новенькая, зеленая, хрустящая пятидесятирублевая купюра.
– Полтинник!!! – одновременно выдохнули Вовка с Андрюхой и так же одновременно закашлялись.