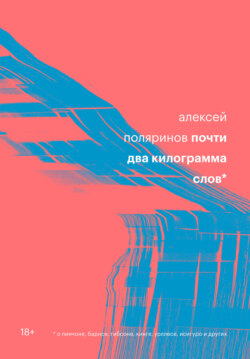Читать книгу Почти два килограмма слов - Алексей Поляринов - Страница 5
✕
Дэвид Марксон: преподаватель внимательности
ОглавлениеЕсть такие книги, рассказ о которых мы чаще всего начинаем с числа – с количества издателей, когда-то отвергнувших рукопись. От «Дзена и искусства ухода за мотоциклом» Роберта Пёрсига в свое время отказался 121 издатель, от «Мерфи» Сэмюэла Беккета – 42.
С Марксоном та же история – его «Любовницу Витгенштейна» отвергли 54 раза. Эта деталь не имеет никакого отношения к содержанию книги, и все же о ней сложно не упомянуть – очень уж яркая.
Витгенштейн написал свой «Логико-философский трактат» в лагере во время Первой мировой. О том, сколько издателей отвергли рукопись (если отвергли), мне ничего неизвестно. Когда началась Первая мировая, Витгенштейну было 25, а Борхесу – 15.
Когда Борхесу было сорок и он работал в библиотеке, его коллега нашел статью о нем в энциклопедии. «Эй, Борхес, – сказал коллега (Борхеса все называли по фамилии), – тут есть заметка о писателе, которого зовут так же, как и тебя. И так же, как и ты, он работает в библиотеке. Какое странное совпадение!»
А потом, когда Витгенштейн уже умер, а Борхесу был 81 год, Умберто Эко написал «Имя розы», и там был слепой персонаж-библиотекарь по имени Хорхе. Отсылка слишком очевидная, чтобы не заметить ее.
Вам, наверное, интересно, зачем я все это рассказываю и как все эти факты связаны с романом «Любовница Витгенштейна»? Сейчас объясню.
Дело в том, что примерно так и выглядит текст Марксона. Строго говоря, «Любовницу…» вообще сложно назвать романом, это скорее поэма в прозе, с минимальным пунктирным сюжетом, который легко уместить в одно предложение: художница Кейт путешествует по миру и много думает об искусстве. Но есть нюанс: она – последний человек на Земле. Сам текст построен как поток сознания эрудита – грубый монтаж из цитат, аллюзий и просто историй из мира искусства/литературы – вроде тех, с которых я начал рецензию. Это похоже на коллаж или скорее палимпсест, где размышления накладываются друг на друга, как слои краски на холст, а потом так же последовательно стираются (отсюда постоянное упоминание американского художника Роберта Раушенберга, который стер большую часть рисунка голландского экспрессиониста Виллема де Кунинга, а затем назвал его «Стертый рисунок де Кунинга»), чтобы с помощью этих случайных наложений достичь максимального эффекта, заставить читателя искать связи между на первый взгляд случайными ассоциациями.
«Любовница Витгенштейна» – это уменьшенная, 1:7 000 000 000, модель культуры, огромного палимпсеста, где сотни авторов сквозь время общаются друг с другом в голове у каждого читателя/зрителя, перебивают, перевирают и переписывают свои и чужие мысли.
И в то же время «ЛВ» – это роман о культурном багаже, который нас определяет и одновременно тяготит. В руках Марксона декартовское «мыслю, следовательно, существую» становится чем-то вроде «я – часть культуры, следовательно, я существую». Ведь именно через параллели, через привязки к живописи и литературе, через язык, через высказывание главная героиня Кейт утверждает свое существование. Точнее – пытается сформулировать себя, понять, что именно дает ей право полагать, что она есть. И не случайно в ее записях несколько раз возникает образ сошедшего с ума Ван Гога, который поедает свои краски.
Кроме того, «ЛВ» – это еще и учебник внимательности. Автор не просто показывает нам мозаику из историй, его идея в том, что даже при случайном наложении двух и более фактоидов всегда можно получить что-то новое, интересное. В романе, например, то и дело упоминается «Грозовой перевал» Эмили Бронте, и Кейт замечает, что у Бронте есть какая-то фиксация на окнах, персонажи у нее все время либо выглядывают из окон, либо заглядывают в них. Как раз из таких «случайных» наблюдений и состоит «Любовница…», сам Марксон как бы призывает читателя быть повнимательней и научиться замечать такие «окна» в его собственной книге и заглядывать в них почаще. Там можно, например, заметить, что Кейт то и дело вспоминает биографию Брамса – не в смысле его жизнь, а в смысле книгу, где эта жизнь описана; и это постоянное, навязчивое вспоминание – важнейший элемент его замысла: являются ли факты твоей биографии доказательством того, что ты существовал?
Еще мотивы тенниса и бейсбола – двух видов спорта, где есть подающий и принимающий, в которые невозможно играть одному. Это, кстати, отличная метафора взаимодействия читателя с автором. Книга Марксона не из тех, что мы открываем ради хитрых сюжетов, ярких персонажей или красивых миров; его книга – это игра, в которой нужно ловить и отбивать идеи, летящие с той стороны страницы, – «Эй, читатель, ты, возможно, не заметил, но я не просто так тут уже три раза вбросил про окна в „Грозовом перевале"; не пропусти следующую подачу, ладно?» Такой вот литературный теннис.
Отчасти поэтому, из-за высокого порога вхождения, Марксон до конца жизни оставался «писателем для писателей», им среди прочих восхищались Дэвид Фостер Уоллес, Эми Хемпель и Энн Битти, но сам он, когда речь заходила о славе, всегда отшучивался: «Один мой друг посоветовал мне быть поосторожнее, чтобы я ненароком не прославился тем, что меня никто не знает» (ср. с историей о Борхесе и энциклопедии из начала главы).
И, собственно, так и произошло: он умер в 2010-м, на смерть дежурными некрологами откликнулись серьезные литературные издания, но шум быстро утих. На этом, впрочем, его книжная биография не закончилась. Спустя какое-то время студент Университета Британской Колумбии (Канада, Ванкувер) приобрел на книжном развале «Белый шум» Дона Делилло, начал читать и обнаружил, что поля книги исписаны заметками и размышлениями прошлого владельца. Заметки были очень остроумные, студент осмотрел форзац и нашел надпись: Дэвид Марксон. Имя ничего ему не говорило, но он решил найти прошлого хозяина, чтобы сказать ему спасибо за эти комментарии, которые сделали чтение книги еще более увлекательным. Загуглив Марксона, студент понял, чья именно книга попала к нему в руки. Он рассказал о находке преподавателю литературы, а тот – журналисту London Review of Books Алексу Абрамовичу, который написал об этом статью. Как выяснилось, свою личную библиотеку Марксон завещал нью-йоркскому книжному магазину Strand, но по какому-то странному недоразумению сотрудники магазина не стали выделять для его книг отдельный стенд, они просто разложили их по полкам и выставили на продажу – так личная библиотека автора, чей творческий метод целиком опирался на книжное знание, рассеялась по нескольким отделам книжного магазина на Четвертой авеню в Нью-Йорке, разошлась по всей Америке и добралась даже до Ванкувера.
А дальше – началась охота за сокровищами. Фанаты Марксона через фейсбук и реддит стали искать его книги в надежде собрать распроданную библиотеку целиком (сам Алекс Абрамович потратил в магазине Strand 262,81 доллара), в сеть выкладывали отсканированные страницы с комментариями и по частям собирали распроданное по дешевке наследие классика.
Среди посмертного имущества Витгенштейна была коробка с записками. Одна записка – одна мысль. Был ли у этих записок порядок – установить уже невозможно.
Посмертным имуществом Марксона стала личная библиотека – распроданная, разбросанная по континенту и позже восстановленная неравнодушными людьми. Сложно придумать более подходящий сюжет для описания его творческого метода.