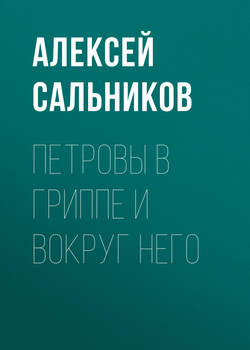Читать книгу Петровы в гриппе и вокруг него - Алексей Сальников - Страница 4
Глава 2
Сны Петрова
ОглавлениеПетров очухался засветло, сначала ему показалось, что его разбудила тишина. Сознание включалось какими-то крупными сегментами, будто собирало простейший пазл из девяти кусочков. Так вот, сначала Петрову показалось, что его разбудила тишина, он подумал, что проснулся оттого, что Виктор Михайлович вырубил наконец свою магнитолу. Затем Петров решил, что его разбудил страшный холод, окружавший со всех сторон, после чего Петров обнаружил, что пристегнут ремнем безопасности к сиденью машины, а впереди, сквозь лобовое стекло, видна неподвижная дорога, полная синеватого утреннего снега, истоптанного шинами. Справа от дороги тянулся низкий черный заборчик, похожий на строй букв «Н», многократно скопированных и поставленных бок к боку. То, что вечером Игорь принял за единственный пятиэтажный дом через дорогу от хибарки Виктора Михайловича, оказалось сразу несколькими двухэтажными домами, располагавшимися вразброс, еще один дом, и правда пятиэтажный, стоял в отдалении от дороги, на горе. Впереди, через некоторое расстояние, начиналось паханое поле частного сектора, чьи домики, согнанные вместе за высокий забор, разнообразно торчали в сплошном беспорядке до самого леса на горизонте. Между частным сектором и машиной, в которой сидел Петров, стояло несколько человек, в двух из них Петров узнал Игоря и Виктора Михайловича, двое же других были Петрову незнакомы, но по милицейской форме и так было понятно, кто они такие.
Холодок бы пробежал по спине Петрова от этой картины в память о том, что они с Игорем вчера творили и на каком транспорте передвигались, Петров даже ощутил потребность, чтобы этот холодок пробежал по его спине, когда он огляделся и обнаружил, что сидит в том самом вчерашнем катафалке и даже вчерашний гроб находится в салоне, а значит, тело родственникам не вернули до сих пор, холодок пробежал бы Петрову по спине, а может, даже и пробежал, но Петров не почувствовал его, потому что сам был холоден, как эскимо, давно, видимо, еще во сне, миновав несколько стадий замерзания. Даже в носоглотке и легких, казалось, не было уже ни капли тепла. Онемевшими пальцами Петров ткнул в кнопку замка на ремне безопасности, путы, державшие Петрова на месте, скользнули вправо.
Люди на улице не обратили на движения Петрова никакого внимания. «Идите-ка вы лесом», – подумал Петров, аккуратно открыл дверцу на свободу, вылез наружу, не понимая, как стоит на ногах, которые почти ничего не чувствуют, прикрыл дверь за собой и потихоньку пошел вдоль борта машины в сторону, которая удлиняла расстояние между ним, Петровым, и любителем приключений Игорем. Сунув руки в ледяные карманы дубленки, Петров скрылся за автомобилем и неторопливо поковылял в поисках какого-нибудь транспорта. Ему стало интересно, в какую часть города заманил его вчера Игорь, но голубенькая табличка на ближайшем домике ничего Петрову не говорила. «Интересно, это тот самый Замятин, что „Мы“ написал, или революционер какой-нибудь», – подумал Петров. Снежные колеи, изображавшие дорогу, загибались вправо, в обход еще одного пятиэтажного дома, Петров послушно потопал по ним и вышел наконец на нормальную улицу, уходившую куда-то вниз, усаженную по бокам тополями. На улице никого не было, даже собак. Петров побрел мимо тополей, поглядывая туда-сюда в поисках какой-нибудь улицы покрупнее, пока наконец в самом низу снова не уперся в заборы частного сектора и какие-то гаражи, впереди и справа за гаражами и частными домиками снова был лес, зато слева, по очень далекой для замерзшего Петрова дороге, прошел синий троллейбус.
Петров подался в сторону троллейбуса. На лавочке троллейбусной остановки сидели какие-то бомжи, неотличимые от местных жителей, или местные жители, почти неотличимые от бомжей, какие-то, в общем, маргиналы с мордами, красными или от холода, или от алкоголя. Удивительно было, что свой семьсот семьдесят седьмой портвейн и девятую «Балтику» они пили в полной тишине, как бы усугублявшей их алкоголизацию на морозе. Петров хватился себя и понял, что не испытывает ни малейшего признака какого-либо похмелья, кроме того разве, что чувствовал некую отстраненность своего сознания от своего тела, не полную отстраненность, нет, а некий едва заметный люфт между телесным и умственным, усугублявшийся обычно печальной тошнотой, которой не было выхода, и головной болью. «Все-таки легкая рука у Игоря», – подумал Петров. Все произошедшее, от самого начала пьянки, от пересаживания в катафалк вплоть до пробуждения в этом же катафалке, уже было подернуто для Петрова дымкой ностальгии, которая оставила в памяти только забавное и хорошее и походила на морозную дымку вокруг.
Кроме пьющих на лавочке людей стоял возле самой дороги молодой парень с черным рюкзачком за плечами, без шапки, с ярко пылающими на ветру ушками, казавшимися нежными из-за своего цвета, как подушечки лап у котенка, низ лица молодого человека был замотан заиндевелым черным шарфом. Петрову неловко было подходить к нему и обдавать его похмельным своим дыханием, тем более что молодой человек заметно отстранялся как от пьющей компании, так и от Петрова. Говоря словами Паши, с которым Петров работал в гараже, паренек «напрашивался на тумаки». Стой он нормально, ощущения напрашивания бы не возникло, но он то и дело начинал разглядывать алкашей, а потом презрительно отворачивался, то косился на Петрова, так что Петров начинал чувствовать себя гопником, хотя таковым не являлся.
Петров невольно вспомнил, что тот же Паша – по замашкам этакий мелкий уголовник из палаты мер и весов – объяснял, почему он не кричит на своих детей и ни разу их даже не шлепнул. Во-первых, конечно, Пашина жена все с успехом делала за обоих родителей, а во-вторых, как Паша говорил, из всех этих воплей на детей и их битья и произрастает потом взрослое чувство вины за то, что тебя избили в подворотне, потому что ты не так говорил с правильными пацанами, вообще, что жертва насилия сама спровоцировала это самое насилие – это, типа, чувство из детства, когда тумаки и вопли получали только за дело. Такая дрессура. Условный рефлекс, остающийся на всю жизнь.
– Я, когда понял, – говорил Паша (а говорил он это часто, почти любому новому знакомому, как бы неся свет своего учения в массы), – что нет никаких правильных пацанов, нет правильного базара, что будь ты правильным пацаном с правильным базаром, а я им и был, то если бы меня избили эти два человечка, все думали бы, что надо было не курить и бухать, а боксом с детства заниматься, а будь я телкой, говорили бы, что не надо в короткой юбке по темным переулкам шастать.
Затем Паша рассказывал, как отмутузил гопников в подворотне, но не испытал никакого чувства радости, а испытал только горечь и разочарование от грустной реальности, а Петров почему-то представлял, что на Пашу падал в тот момент столб яркого света с самых небес, пронизанный снежинками или пылью, в зависимости от того, в какое время года Паша повторялся в своем повествовании.
Между Петровым и молодым человеком с одной стороны и лавочкой и пьющими людьми с другой, хрупая твердыми от холода подошвами ботинок по жесткому снежному крошеву, прошли несколько школьников, класса, может быть, шестого. Они были замечательны тем, что отличались от людей на остановке яркими цветами своих одежд и рюкзаков: красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, голубой – вот это всё. Школьники тоже молчали, притворяясь серьезными, но, когда на их пути оказалась полоса черного льда, накатанного на тротуаре, они выстроились в очередь, и каждый скользнул по этой полосе, прежде чем пойти дальше. И молодой человек, и пьющие люди, и Петров проследили ход школьников оттого, что делать было больше нечего.
Когда же Петров вернулся к выглядыванию хоть какого-то подъезжающего транспорта, то увидел небольшой желтый автобус, стоявший на перекрестке. Ветер был в сторону Петрова, поэтому белые дымы из выхлопной трубы автобуса оборачивались вокруг правых автобусных колес, как кошачий хвост. С перекрестка номер автобуса было не разглядеть, но при приближении оказалось, что это ноль восьмая маршрутка, и сразу же Петров понял, где находится, понял, что каждый день видит улицу, на которой теперь стоял, когда выходит покурить из гаража, и даже видит эту троллейбусную остановку вдалеке, которая кажется просто далеким синим пятном с кучкующимися возле нее людьми. Сразу же вся география вчерашней поездки стала понятна Петрову так, что он увидел себя в этой географии как будто бы сверху, хотя при этом смотрел, как автобус проезжает как будто бы мимо, но останавливается при виде возможных пассажиров, и хвост дыма за автобусом скатан воздухом в клубок, как заячий хвост, но тем сильнее расправляется в пахнущий бензином шлейф вдоль правых колес по мере того как скорость автобуса становится меньше и меньше.
Сквозь белые от мороза стекла автобуса не видно было, сколько людей там ютится, а с сидячего места изнутри салона не был виден путь, который проходил автобус. Петров сел на место возле печки, так что жар сначала нагрел его лодыжки и стал подниматься выше. По мере того как Петров нагревался, появились и первые ощущения гриппа, в легких что-то захрипело, носоглотка пусть и оттаяла, но так и осталась сухой, при этом в самом носу, ближе к ноздрям, что-то захлюпало. Не успел автобус проехать и пары остановок, а Петрова уже развезло по сиденью, и дышал он уже ртом, а дыхание у него было такое, что женщина спереди пересела в другую часть автобуса. Осуждать ее было не за что, кажется, совсем недавно, а именно девятого марта, Петров и сам сел напротив двух симпатичных тетенек, судя по разговору – учителей в школе, филологинь, а разило от них так, будто вечером ранее они пили в невероятных количествах какой-то эпической силы термоядерный деревенский самогон.
– Оплачиваем проезд, – абстрактно сказала женщина-кондуктор, похожая на продавщицу советского продуктового магазина своим недовольным голосом и вообще всем своим видом.
Похоже, она уже заранее готовилась к тому, что Петров, пахнувший сивухой, начнет хамить или кокетничать, отпуская глупые шутки ради того, чтобы проехать на халяву. Еще в ее суровом пятидесятилетнем лице, осанке, подогнанном к плотному телу пуховике, толстых штанах, тяжелых ботинках было что-то армейское, так что сразу вспоминались фильмы «Взвод» и «Цельнометаллическая оболочка». Петров заранее ужаснулся тому, что в кошельке у него не окажется мелких купюр или металлической мелочи, так что это будет выглядеть так, будто он из тех пассажиров, которые возят с собой тысячную купюру вместо этакого проездного. Вкупе со спиртовыми парами, которые он невольно изрыгал, и его позой на автобусном креслице это могло выглядеть еще более некрасиво, это уже могло выглядеть так, что он шикует в рюмочных на те деньги, которые мог отдать кондуктору, чтобы потом, развалясь в автобусе, издеваться над работниками транспорта, сознательно подсовывая им деньги, которые они не могут разменять. Проблема была в том еще, что Петров не мог найти кошелек сразу, а стал шарить по карманам, которых у него оказалось теперь больше, чем он ожидал, и чем дольше он это делал, тем тяжелее становился взгляд кондуктора.
– Не можете расплатиться, так просто выйдете на остановке следующей, вот и всё.
Если до этого Петров не особо обращал внимание на то, сколько человек в транспорте, то теперь сразу заметил, что их пятеро, включая паренька с рюкзаком и шарфом и женщину, которая от него отсела. Была еще пожилая женщина с тележкой на колесиках, еще один парень, но постарше того, что стоял с Петровым на остановке, но несколько другого типа – это был скорее спортсмен, такой толстенький и плотненький, вроде штангиста, из тех Робин Гудов, которые любят восстанавливать мировую справедливость, добиваясь, чтобы старушке уступили место в метро, чтобы кто-то убавил громкость в наушниках и чтобы все платили за проезд; самое плохое, что рядом с этим пареньком-спортсменом сидел еще один такой, видимо, его друг, и они уже поглядывали на Петрова с некоей претензией и даже вызовом. Да что уж там – и женщина, которая отсела, и старушка с тележкой глядели совершенно так же, как и молодые и бодрые спортсмены. От их взглядов Петрову стало жарче, нежели от печки и гриппа вместе взятых. Последний раз Петров чувствовал себя так только на классном собрании по поводу приема в пионеры, когда называли всякие кандидатуры на прием, а ему уже было неловко, что очередь дойдет до него и все вцепятся в его кандидатуру, обсуждая ее так и эдак.
Кошелек оказался в таком месте, куда Петров его обычно не убирал – в нагрудном кармане рубашки под свитером. То-то Петрова самого удивлял этот фокус при ощупывании себя: снаружи кошелек прощупывался, а в кармане дубленки, куда Петров обычно кошелек и клал, кошелька не оказывалось. Дрожащими пальцами Петров вытащил полтинник и подал его кондуктору.
– Алкашня, – сказала женщина-кондуктор в проход, когда отсчитала Петрову сдачу и с отвращением оторвала полбилета.
Вообще, она, кажется, хотела пикировки с кем-нибудь, потому что не только обозвалась, нарываясь на ответное хамство, но и сунула полбилета в руку Петрова с нескрываемой какой-то неудовлетворенностью. Точно таким же образом она обошлась с семейной парой, которая влезла в автобус на следующей остановке, и там глава семейства не удержался и спросил, почему кондуктор так хамски сует билеты. В ответ женщина-кондуктор швырнула в него мелочью. Это был вымирающий вид кондукторов, его надо было пожалеть, Петрову такие кондуктора не встречались уже давно. Если среди пассажиров троллейбуса встречались психи, то кондукторы были без исключения милы, была среди них даже такая женщина-кондуктор с фотографической памятью, которая спросила, почему Петров перестал с ними ездить. «Ну как же перестал, вот он я», – ответил Петров. Так вот, почти не осталось грубых кондукторов, их надо было лелеять, показывать их туристам, однако пассажир, которому швырнули мелочь, так не считал. Путем витиеватого высказывания дрожащим от сдерживаемого гнева голосом он дал понять, что подозревает, что у кондуктора давно не было никаких интимных отношений ни с противоположным, ни со своим полом, еще он, кажется, намекнул, что интимных отношений у кондуктора не было вообще никогда, а если и были, то партнер кондуктора был очень непредвзят.
– Что-о-о-о-о? – протянула неожиданно тонким голосом женщина-кондуктор, был еще шанс, что она расплачется от обиды, мужчина начнет извиняться, что-нибудь такое должно было произойти в идеале, но после своего длинного «что» женщина-кондуктор сказала такую фразу, после которой Петров стал невольно искать какой-нибудь стоп-кран или ручку катапульты, чтобы как-нибудь побыстрее оказаться вне салона.
– На свою шлюшину посмотри, – сказала женщина-кондуктор.
Самое неприятное в этом всем было то, что мама у Петрова была некоторыми чертами характера как этот кондуктор: не стесняясь в выражениях, подслушанных и выученных у себя на заводе, она совершенно с места в карьер могла начать бороться за справедливость в любых общественных местах, при этом голос ее обретал зычность оратора и какие-то особые подвывающие нотки, похожие на панику, от которых Петрову, когда он был ребенком, в очереди, или в транспорте, или в магазине, или в школе хотелось провалиться сквозь землю. Ко всем учителям Петрова мама спокойно обращалась на «ты», это было еще хуже, чем скандалы в общественных местах. Когда по телевизору показывали интервью и интервьюируемый прохожий начинал мямлить, пугаясь микрофона, которым в него тыкали, мама говорила: «Эх, меня бы туда, я бы показала». От таких заявлений Петрова начинало колотить мелкой дрожью. Он нисколько не сомневался в том, что мама бы «показала», но смог ли бы он после этого выйти на улицу, Петров очень сильно сомневался. Конечно, Петров и сам не был ягненочком: слал на три буквы клиентов, если был какой-то вопрос в цене ремонта, слал клиентов на три буквы, если они сомневались в его компетентности, ходил в замасленной одежде в ближайший супермаркет и слал на три буквы охранников, если они не были довольны его внешним видом, вместе со всеми унижал криворукого слесаря из гаража МЧС неподалеку, который бегал к ним в бокс за советами, – все это было, но все эти посылы были чем-то традиционным. От автослесаря никто особо никогда и не ждет, чтобы он сыпал латынью. Петрова бы даже не поняли, если бы он, открыв капот, не сказал, печально вздохнув: «Да-а-а, б…» Большинство клиентов даже приняли бы за признак слабости, если бы в споре о деньгах за работу он стал говорить фразами типа «Что вы, что вы, в своем ли вы уме, этих денег явно будет недостаточно». Но все же была в поведении Петрова и других слесарей какая-то грань, через которую они не могли перешагнуть, допустим, никогда при споре с клиентом не затрагивались родственники или те люди, которые были с клиентом, дальше посыла на три буквы и выталкивания машины из гаража дело не доходило, тем более никто никогда не швырял в лицо клиента сдачей. Если бы женщина-кондуктор ограничилась этим коротким посылом, они обменялись бы с пассажиром обычными в этих случаях фразами, сама иди, нет, ты иди, и всё в таком духе, но нет ведь.
Пассажирка вступилась за себя, и Петров, покарябав стекло ногтем и поглядев на улицу сквозь стекло автобуса, с тоской определил, что до метро ему ехать еще остановки четыре.
– Че, у хахаля денег на такси не хватило? – спросила женщина-кондуктор. – На гондоны хоть хватило? А то будете тут еще потом со своими выродками ездить.
Петров заметил, что на своем месте ерзает не только он один, но еще и парень с рюкзаком.
– Коля, останови автобус! – приказала женщина-кондуктор, но Коля не останавливал, злая парочка язвительно рассмеялась.
«Коля, правда, остановил бы ты уже, а?» – подумал Петров с невыразимой меланхолией, решая про себя: выйти или все-таки дотерпеть до нужной остановки.
– Коля, останови автобус! – закричала женщина-кондуктор, добавив голосу истошности, а лицо ее стало свекольным.
– Здесь запрещена остановка! – заорал Коля в ответ.
– Мы все равно не выйдем, – сказал мужчина. – Мы оплатили проезд, с какой стати нам выходить?
– Ну так молодые люди вас выведут, – нашлась женщина-кондуктор, апеллируя к двум спортсменам.
Тут спортсмены заерзали на месте точно так же, как Петров и парень с рюкзачком.
– А че мы-то? – удивился один из спортсменов.
Тут женщина-кондуктор словесно сцепилась уже с четырьмя персонами сразу, напоминая этим Шреддера из «Черепашек-ниндзя». Во время спора пассажир и пассажирка одинаково раскраснелись от гнева, эта краснота как будто передалась на спортсменов, когда они пытались пробубнить что-то в ответ на оскорбления кондуктора. Даже в катафалке с трупом было более комфортно, чем в таком автобусе.
Коля сжалился, остановил и распахнул обе дверцы, словно разом стравив накопившееся давление из аварийных клапанов. Петров выкатился наружу из задней двери, которая была ближе к нему, парень с рюкзачком – из передней, следом за ними выкатились порознь и два спортсмена. Оба отпыхивались, как после пробежки, лица их были розовы, как после бани, из-под их одинаковых черных вязаных шапочек стекали крупные капли пота. Парень с рюкзачком, наоборот, был очень бледен.
– Ну это капец ваще, – сказал один из спортсменов, вытирая лицо шапкой.
Не как после бани были спортсмены, они походили на купцов, которые только что обпились горячего чая.
– Вы-хо-ди-те! – доносился из автобуса громкий кондукторский голос. – Дальше автобус не поедет!
– С какой стати? – кричал мужчина. – Вы деньги сначала верните, а потом выгоняйте!
– Подавись, – артикулируя по возможности четко, сказала женщина-кондуктор, и Петрову показалось, что он услышал, как по прорезиненному полу рассыпалась мелочь.
– Двери хотя бы закройте! – послышался голос старушки с тележкой на колесиках. – Не июнь месяц на улице.
Двери автобуса закрылись, но закрылись как-то неуверенно, будто портьеры театрального занавеса, будто после антракта было заявлено второе действие. Бывшие пассажиры автобуса бросились каждый в свою сторону: спортсмены подались через дорогу, паренек с рюкзаком зашагал в киоск, Петров пошел по ходу автобуса, раскуривая сигарету. Из-за того что за ночь в горле скопилась всякая простудная дрянь, первая затяжка была какой-то тухлой, с запахом подгнившего мяса. Петров поглядел по сторонам, убеждаясь, что никого не обидит своим жалким видом, и с отвращением похаркался в лежащий вдоль тротуара сугроб.
Путь до метро был еще более прям, чем обычно, потому что Петров знал, куда и сколько ему еще примерно идти. Он все ждал, когда же его догонит злополучный автобус, автобуса же все не было, хотя, скорее всего, Петров его просто пропустил, когда заходил в аптеку, находившуюся в углублении улицы, возле засыпанного снегом сооружения, похожего на фонтан. Петров пытался не отвлекаться от дороги, но очередь из двух старушек в самой аптеке могла невольно и отвлечь его.
Старушки были замечательные: одна покупала многочисленные лекарства, подолгу сравнивая их со своим кустарным прайс-листом на поношенном клочке бумаги, вырванном когда-то из тетради в клеточку, другая сверялась со своей собственной памятью, и это было еще хуже, чем если бы у нее был листочек. Когда старушки вышли одна за другой, в аптеке перестало пахнуть аптекой и стало пахнуть обычным магазином, по типу хозяйственного, то есть старушки действовали на аптеку как елочки с отдушкой в автомобилях.
Увидев Петрова в окошечке кассы, аптекарша сразу сказала, что шприцы и «Коделак» она без рецепта ему не продаст.
Петров замер, пробуя сформулировать какую-нибудь интересную шутку, связанную с тем, что аптекарша с лицом строгого, но справедливого советского педагога начальной школы приняла его за наркомана. Одновременно с этим Петров понял, что его вообще очень часто принимают за наркомана; видимо, какой-то нездоровый образ жизни, который Петров вел, ковыряясь под машинами, как-то отражался на его внешнем виде. Шутка должна была обыгрывать именно вот это вот всё. Петров даже скорчил шутливую гримасу, чтобы начать шутить, пока не понял, что стоит уже с этой гримасой несколько секунд, как бы оценивая свою горькую наркоманскую судьбу, как бы придумывая причину, по которой аптекарша должна дать ему и шприцы, и какой-нибудь кодеиносодержащий препарат, про который она еще не знает (хотя почему она должна не знать, она же аптекарша). А еще Петров растерялся. Как бы часто ни принимали его за наркомана, всегда это происходило неожиданно, и всегда люди говорили, что Петров – наркоман, с пугающей Петрова прямотой, как-то даже его тетка сказала, что он тратит заработанные деньги на героин, и Петров так же вот впал в ступор, не зная, что ответить на это. Так однажды в детстве отец попросил его купить растворитель, и Петров пошел за растворителем, а чтобы не тащить его в руках, купил еще и пакет, а кассирша начала его стыдить, как настоящего малолетнего токсикомана, говорить, что пойдет сейчас к нему домой и все расскажет родителям, а Петров стоял и краснел со слезами на глазах.
Он уже и купил парацетамол, и шел до метро, и купил газировки в киоске, и выпил парацетамол, и спустился в метро, обойдя несколько уборщиц в оранжевых жилетах, скобливших нетающий снег на каменных ступенях, и прошел мимо милиционера, который тоже, видимо, приняв его за наркомана, как-то потянулся к Петрову, но потом заметил более явного, чем Петров, азиата и отвлекся, Петров отстоял очередь в кассу с жетончиками и все продолжал дуться на аптекаршу, как будто она была виновата в том, что никакая остро́та не пришла ему в голову. И только при виде сидящей за стеклом кассирши метро, при виде ее крашенных в рыжий цвет волос, завязанных в тугой хвостик, Петрова озарило.
«Надо было не мяться, а попросить три настойки боярышника и гематоген», – подумал Петров и внутренне застонал от того, что эта шутка не появилась к месту. Жаль, что нельзя было уже вернуться и повторить все сначала.
С Петровым так было почти всегда. Только в вагоне метро в памяти стали появляться интересные истории из гаража, которых Игорь просил прошлым вечером в машине бомбилы. Не ахти это какие, может быть, были истории, и неизвестно, как бы их оценил Игорь. Но была совершенно чудная байка про то, как у них, вечно бегающих и чем-то занятых людей, появился доставщик готовых обедов, где были, в частности, пельмени, и только пельмене на седьмом они поняли, что это пельмени с капустой – настолько все были голодны и разогнаны работой. Или была история про то, как владелец «газели», чеченец, жаловался на одного своего водителя маршрутки, который уходил в непредсказуемые запои, причем что только с ним ни делали: и били, и вывозили в лес, и ставили на счетчик, а потом били и вывозили в лес, и ходили жаловаться его маме, – но водитель так и продолжал пить. Чеченцу предложили уволить нерадивого шофера, но тот лишь побледнел и сказал, что это не по-человечески, а потом разрыдался в бессилии. Петров подозревал, что истории эти были смешны только в момент, когда происходили, а в его муторном пересказе потеряли бы часть очарования, но это было бы все равно лучше, чем просто отмалчиваться в ответ на язвительные требования Игоря, оставляя впечатление, что ничего человеческого в боксе не творится, а лишь крутятся бездушными людьми мертвые гайки.
Напротив Петрова в вагоне метро сидел целый класс младшей школы с каким-то педагогом или главой родительского комитета, педагог (или глава родительского комитета) – женщина, похожая на аптекаршу, неотличимая от аптекарши настолько, что можно было предположить, что эта одна и та же женщина, – смотрела на Петрова так же осуждающе, а Петров почему-то отвлекся от гаражных баек, когда заметил этот её взгляд, и подумал, что странно, столько всего изменилось в стране с того времени, как сам он был младшим школьником, а аптеки, и поликлиники, и педагоги остались совершенно такими же. Мода никак не отразилась ни на косметике педагогов, ни на их методах, ни на оформлении аптек, разве что в аптеках появились цветные рекламные плакатики препаратов от простуды, и всё. Даже вот эта плексигласовая перегородка оставалась прежней, все так же опоясывала помещение аптеки по периметру и отгораживала посетителей от лекарств, но при этом самые популярные из них всегда стояли прямо за перегородкой, как в витрине. И всегда было полукруглое окошечко, а аптекарь всегда был в белом халате, хотя и непонятно зачем. И еще над окошечком всегда была надпись: «Касса», хотя что это могло быть, кроме кассы?
Как всегда было с Петровым в метро, так произошло и на этот раз: он хватился, не пропустил ли свою остановку, когда поезд еще ехал в длинном перегоне между «Машиностроителей» и «Уральской», был там такой медитативный участок пути с некоторым изгибом, когда интересно становилось, какие вещи выделывает перспектива, если смотреть сквозь окна между вагонами на следующие вагоны; это напоминало толстый учебник по рисованию, который был у одного из школьных товарищей Петрова. Петров несколько раз брал почитать этот учебник, но всегда пролистывал и главу о перспективе, и главу о цвете, из главы о цвете он помнил только что-то про теплые и холодные цвета и про насыщенность, а больше не помнил ничего. Далее в учебнике были главы с гипсовыми слепками головы Аполлона, с гипсовыми кубами и шарами (хотя, если быть точнее, сначала были кубы и шары, а потом уже – голова Аполлона во множестве ракурсов), вот на этих главах Петров и зависал и никак не мог продвинуться дальше, хотя нет, продвигался. Еще были отдельные глаза, носы, уши, тоже гипсовые, Петров возился и с ними тоже. А вот следом шли портреты людей, отпугивающие своей фотографической точностью и невыносимым мастерством, а Петров никак не мог понять этого чуда, перехода из упражнений с гипсом в живой человеческий портрет, переданный всего лишь несколькими взмахами карандаша. Всё, чему он научился, – это улавливать обычное сходство, когда сообразил, что все головы суть есть голова того же самого Аполлона, просто с вариациями, но это был потолок Петрова, и он сам это понимал, как бы ни хвалили его одноклассники.
Вот почему вопрос Игоря про писателей и художников, заданный шоферу в катафалке, так не понравился Петрову. Это был такой неосознанный, а еще хуже, если осознанный подкоп под Петрова, который не мог сознаться теперь в своем увлечении никогда в жизни. Петрова удивляло, когда люди рассказывали о себе невероятные по откровенности вещи, от некоторых писателей волосы вставали у Петрова дыбом. Например, при описании отношений Степана Трофимовича и маленького Ставрогина бедного Петрова начинало мутить, а лимоновское «Это я – Эдичка» Петров даже не смог дочитать до конца, настолько Лимонов бросился в такую жуткую откровенность. Лимонов в момент чтения казался Петрову этаким Чикатило, дающим интервью перед самой смертной казнью. Даже пыткой нельзя было узнать от Петрова, что он, в свой почти тридцатник, рисует комиксы и пытается косить под японцев в этом плане. Причем Петров понимал, что, будь это какая-нибудь порнуха с чудовищами, мужики бы еще прониклись творчеством Петрова, про это можно было рассказывать без стеснения. Но это были комиксы про полицию будущего, про боевых роботов и злых киберпреступников, про небоскребы, взрывы, летающие машины, мутантов, разлетающиеся осколки – и всё это казалось Петрову невыносимо жалким, бездарным и, судя по тому, что сыну это нравилось, это было чудовищно плохо.
Петров снова спохватился, что проехал свою остановку, но это была еще только «Динамо». Педагогиня призывала учеников к тишине и предупреждала, чтобы все приготовились, потому что выходить через остановку, еще она окликала особо буйных, беспокоясь, что особо буйные уже вышли где-нибудь не там, где она планировала. За время поездки шальные дети успели уже вычудить несколько номеров: единожды школьник успел сказать «жопа» на весь вагон, и, как бы ни ругалась педагогиня, остальные дети одобрительно улыбались; успел один из школьников уже предложить своим одноклассницам выйти к вертикальному поручню и воспользоваться им как шестом для стриптиза, на что педагогиня заметила, что школьник уже повторяется в своих шутках, уж не хочет ли он, чтобы эта шутка ей особенно запомнилась, дабы она рассказала ее на родительском собрании, может, его родители тоже порадуются чувству юмора своего сына; успели уже школьники докопаться до классного ботаника, игравшего на телефоне, и успели обступить мужчину, который читал электронную книгу, успели похихикать над отпыхивающимся под гриппом Петровым, успели предостеречь одну из одноклассниц, чтобы она больше не падала в эпилептические припадки, успели изобразить этот припадок.
На самом деле спокойно сидел почти весь класс, а бесновались всего три человека, не считая педагога, но и этого хватило, чтобы Петров с облегчением вывалился из вагона на гранит станции «Площадь 1905 года» и бросил сочувствующий взгляд остающимся в вагоне пассажирам. Он не сомневался, что его сын ведет себя гораздо лучше – его сын был как раз из тех ботаников с сотовым телефоном, или книжкой, или мечтательностью во взгляде. Это именно его в основном толкали и подкалывали за его медлительность и мечтательность, поэтому Петров испытывал особую неприязнь и к мальчику, игравшему на телефоне, и к его буйным одноклассникам.
На перроне было немного людей, и большинство из них топтались на месте и сидели на лавочках, стремясь в ту сторону, откуда Петров только что приехал, – в том направлении были вокзал, автовокзал и рынок. Между блестящих металлических колонн гулял веселый голос автоматического диктора, призывающего не подбирать найденные сумки. Пара милиционеров стояли спиной к Петрову, и, проходя мимо них, Петров коротко позавидовал женщинам, которым нужно было творить невообразимые вещи, чтобы их остановили для проверки документов. Сам Петров не носил документы, когда передвигался по городу с помощью общественного транспорта. Как бы его ни подозревали в употреблении, наркотиков при себе у него все равно никогда не было, плюс был у него номер милицейского начальника, а его «немцу» они неоднократно меняли масло, и тормозные колодки, и диск сцепления, так что если и могли задержать Петрова для выяснения личности, то ненадолго.
Петров не понимал, как можно работать патрульным милиционером, он не представлял, как это – слоняться по перрону или по улицам и выискивать каких-то нарушителей либо останавливать людей для выяснения. Это было невыносимо скучно. Было на его памяти несколько дней, когда он вообще не видел солнца из своей ямы: как пришел в темноте, так и уезжал с наступлением ночи; были дни, когда он зависал в гараже с ремонтом несколько дней подряд, вообще не бывая дома, причем эти дни – с полярным днем и ночевками в гараже – вообще показались ему пролетевшими незаметно. Вот это, по его мнению, и было настоящее веселье, которое нельзя было пересказать Игорю никакими словами, потому что он все равно бы не понял, как это: собрать коллектив из нескольких гаражей в полвторого ночи и всей толпой, вместе с хозяином машины, смотреть под капот уже ничего не соображающими глазами и пытаться понять, почему машина не заводится. Не объяснить, как это – целый день чинить бесплатно автомобили каких-то друзей, и знакомых, и родственников, каких-то знакомых гаишников, знакомых ППСников, а потом радостно смеяться над шуткой «Петров, у нас сегодня субботник, как у проституток!», сказанной радостным голосом как бы комсомольского энтузиаста.
Паша, словно прочитав его мысли, позвонил тотчас же, как только Петров вышел на поверхность земли, где, в отличие от метро, брала сотовая связь. По голосу Паши было понятно, что он тоже заболел.
– Ну как ты там? – спросил Паша. – Нахрена вот ты вчера на работу приперся? Я тоже выскочил сегодня, но что-то покрутил-покрутил и думаю, да ну его, чуть не сдох, сдал машину соседям и домой пополз.
– Да лучше бы я в гараже остался, – в сердцах сказал Петров, – зря я к этому таксисту подсел. Он меня только до ТЮЗа подбросил, а дальше пришлось троллейбус дожидаться. Я тебе потом расскажу, у тебя деньги на телефоне не лишние.
– Ну да, – согласился Паша, – давай с домашних созвонимся, если я смогу разговаривать. Меня пидорасит по-черному. Только усну, а там бесконечный урок литературы, а я у доски стою и какую-то ерунду, какую-то поэму сдаю, хотя и не учил, пытаюсь так придумать, чтобы и своими словами, и в рифму. Это трындец. Главное, уже что только ни принял, прет и прет.
– Хорошо хоть грипп не кишечный, – заметил Петров, – а то бы и полежать не удалось как следует первое время.
– Это да, – согласился Паша. – Ну ладно, давай.
Казалось, что, прежде чем бросить трубку, Паша зазвенел ложечкой в кружке и куда-то зазаворачивался, как в кокон, – такое от него послышалось уютное шевеление, похожее на меховое.
Чем ближе был к дому Петров, тем тяжелее ему становилось. Это было похоже на высокогорное восхождение с его кислородным голоданием и самым отчаянным холодом в самом конце. Меховой уют в окончании Пашиного звонка подчеркивался общим неуютом продуваемой вдоль улицы Малышева, стеклянной остановкой, ветер в которую не задувал, но на ветру почему-то было не так холодно, словно нутро остановки концентрировало в себе окружавший мороз. Сбоку внутри остановки была приклеена реклама турфирмы, где папа, мама и дочь отвисали в купальных костюмах, и казалось, что волна за ними – просто кусок льда, а от вида их голых тел становилось совсем ужасно. Еще и троллейбусы, как на грех, шли только семнадцатые, один за другим, спустя четыре семнадцатых пришла тройка, но в нее невозможно было залезть, настолько она была полна. Двери третьего троллейбуса просто открылись, чтобы показать спины пассажиров, пучащиеся изнутри, как диванная обивка, потом с трудом сомкнулись, и троллейбус поехал себе дальше, и непонятно было, зачем он вообще останавливался.
Спустя несколько сигарет, несколько обширных по времени приступов кашля между мелкими покашливаниями, спустя несколько пустых, но ненужных троллейбусов и несколько нужных, но наполненных людьми до невозможности, после того как были передуманы на свой лад, несколько раз спеты, а потом забыты строчки «Троллейбусы идут на Магадан, идут туда, но мне туда не надо», пришла все же пустая тройка. Она шла следом за полной тройкой. Эти две тройки одновременно остановились на одной остановке, но почему-то пассажиры передней, несмотря на толкотню, не спешили пересаживаться в более свободный троллейбус, и в Петрова закралось подозрение, что вторая, пустая тройка идет куда-нибудь в парк. И все же он рискнул и метнулся к пустому троллейбусу.
– Вы в парк идете? – спросил он кондуктора.
– Нет, – сказала кондуктор.
– А почему тогда люди к вам не пересаживаются?
– Я тоже несколько остановок уже об этом думаю, – сказала кондуктор, – только вон девочка и пересела.
Она показала рукой на место рядом с кондукторским, и у Петрова ёкнуло в сердце, потому что это была вчерашняя девочка, из-за которой старичок и семнадцатилетний парень устроили потасовку. Девочка посмотрела на Петрова и поздоровалась с ним, Петров на автомате поздоровался с ней тоже и зарделся так, словно это он вчера поделился с ней своими этнографическими наблюдениями.
Учтя вчерашние ошибки, Петров сел там, где его нельзя было разглядеть с проезжей части, и там, где ему не видна была девочка, то есть сел он прямо спиной к ней на переднее место, предназначавшееся для пассажиров с детьми и инвалидов, причем сел не с водительской стороны, а со стороны дверей. Это было не очень удобно, потому что пластиковая перегородка перед спускавшимися к выходу из троллейбуса ступеньками упиралась ему в колени, хотя это он, скорее, упирался коленями в перегородку, а она опасно выгибалась, грозя треснуть окончательно. (Там уже была трещина, сделанная, видно, или пассажиром с детьми, или детьми, или инвалидом.)
В троллейбусе было холодно, однако после улицы это было не так заметно. Через водительское окно виднелись лица пассажиров троллейбуса, шедшего впереди, и Петров с трудом удерживал себя, чтобы не покрутить им пальцем у виска и не сделать приглашающие жесты рукой.
От несчастных пассажиров Петрова отвлек узкий пятачок остановки возле театра «Волхонка», где обещались новогодние представления, и Петров злорадно подумал, что уже купил билет в ТЮЗ. На стекле возле Петрова было наклеено объявление о том, что троллейбусы тридцать первого декабря уйдут в парк к одиннадцати часам, почему-то в этом объявлении было для Петрова больше новогоднего настроя, нежели во всех этих гирляндах, висящих по городу, и в новогодней рекламе по телевизору. Петров вспомнил, как пару лет назад сбегал, докупая шампанское, в киоск возле дома, а когда возвращался в одиннадцать сорок пять, в застрявшем лифте кто-то бился с пьяным грустным ревом, понимая, что раньше первого часа ночи его никто не освободит.
Ротозейничая по сторонам, Петров пропустил появление сумасшедшей. Невозможно было не заскучать, выезжая сложным крюком от Московской горки до Центрального стадиона, потому что там всегда была если не пробка, то какой-то небольшой затор, связанный с корявой развязкой и узкой дорогой, примыкавшей к другой узкой дороге. Обычно до Центрального стадиона ехали провинциальные тетки с клетчатыми китайскими баулами, они пыхтели, поминутно спрашивали остановки, тревожно смотрели в окна, боясь пропустить свой выход. Они не были болельщицами, просто напротив стадиона располагалась тюрьма, и все эти тетки спешили туда, к своим сыночкам. Смотреть на них было невыносимо, потому что Петров и сам мог в свое время туда угодить по совершеннейшей своей юношеской глупости. Он точно мог представить, что его мать так же бежала бы за транспортом в чужом каком-нибудь городе, где Петров бы сидел, так же беспокойно спрашивала бы остановки, и поэтому Петров чувствовал к суетливости теток брезгливое отвращение. Он всегда отворачивался или забивался в уголок, когда видел их сбитые набок или сползшие с головы на шею, на манер пионерского галстука, платочки, их катящийся из-под шапок пот, как будто тетки только что играли в снежки на улице. Не мог он переносить их какое-то извиняющееся выражение лица, потому что помнил, как скандалили женщины в гараже, угрожая мужем-бандитом; сейчас такие угрозы стали реже, а вот в конце девяностых, когда Петров только начал вертеть гайки, такое было сплошь и рядом. Он с легкостью мог предположить, что среди одной из таких теток могла быть такая, которая вот так вот скандалила в прошлом. Взять того же короля Лира, читать-то про него нелегко, смотреть невозможно, а предположить, что в троллейбусе их таких может быть до нескольких штук сразу, – это как пару раз подряд пережить киносеанс «Белого Бима Черное ухо».
Петров пропустил появление сумасшедшей, иначе бы, как только она вошла, как-то приготовился бы к тому, что она безумна, не стал бы говорить ей ни единого слова, потому что именно на слова-то сумасшедшие и были особенно падки.
Петрова потолкали в плечо; когда он отвернулся от окна и посмотрел на того, кто его толкал, он увидел молодую женщину, слишком легко одетую для такой погоды: на ней был синий осенний болоньевый плащ и легкие перчатки без пальцев. Женщина была очень ярко накрашена. Привыкший к тому, что его жена вовсе не пользовалась косметикой, Петров отметил это особенно, тем более что накрашена женщина была по моде конца восьмидесятых – со всеми этими яркими тенями с блестками, темным тоном, подчеркивающим скулы, помадой, лежавшей толстым слоем на губах. Волосы женщины, вздыбленные химзавивкой, были разнообразно расцвечены как бы натуральными цветами, но обилие этих натуральных оттенков вызывало ощущение пестроты.
«Ни фига она клоун», – невольно подумал Петров и даже мысленно улыбнулся такой безвкусице, но улыбка эта сползла, когда паяц начал свой номер.
– Вы в курсе, что это место для пассажиров с детьми? – спросила женщина, и в интонации ее ничего не предвещало, хотя странно было, что она докопалась до Петрова, когда в салоне была масса свободных мест.
Петров решил, что на месте, которое он занял, просто теплее, чем на других местах, потому что они были дальше от кресла кондуктора, которое отапливалось, а ребенку, который держал женщину за руку, несомненно, требовалось тепло. Это был мальчик лет, может быть, четырех, тоже одетый в оранжевую осеннюю куртку, вязаную шапочку и фиолетовые резиновые сапоги. При том что не видно было, что мальчик мерзнет или как-то вообще болезненно переносит мороз, губы у него были такие же фиолетовые, как и его сапоги. Петров торопливо заизвинялся, торопливо сполз с места и пересел на другое.
Женщина, однако же, от Петрова не отстала. Сунув ребенка на отвоеванное сиденье, она снова подошла к Петрову и снова потрясла его за плечо.
– Вы вообще стыд испытываете когда-нибудь? – спросила женщина. – Вы понимаете, что мой сын (тут она потыкала пальцем в направлении чада) – будущее человечества? Последняя надежда Земли.
«Приехали», – подумал Петров, хотя никуда еще, конечно, не приехал, а продолжал катиться на троллейбусе.
Тут из-за туч, как по заказу, вылезло солнце, отчего внутреннее убранство троллейбуса, с обилием инея и льда на окнах и нетающего снега на полу, стало напоминать морозильную камеру, а поведение нервной пассажирки в солнечном свете и синих тенях желтых поручней обрело особенный какой-то градус отмороженности.
Женщина заговорила про открытую чакру ее сына, про то, что у обычных людей аура белая, а у него – синего цвета. Она сказала, что он уже умеет читать, писать и считает до тысячи и обратно, знает множество английских и немецких слов. Еще она сказала, что у ее сына порок сердца и диагноз «слабоумие», но все это ложь. Бабка из соседней Екатеринбургу деревни давно всё исправила, и мальчик занял первое место на детском литературном конкурсе, но все жюри куплено, и поэтому сказали, что стихи писала его мама. Петров только кивал в ответ и прижимался поближе к окну, чтобы находиться подальше от женщины, которая, несмотря на весь пыл своей речи, так и не решилась сесть рядом. Еще Петров старался не делать лишних движений и строил виноватую гримасу, как собака, которую ругают за лужу или съеденное со стола. Он думал, что с его другом Сергеем родители сделали, по сути, то же самое, выставили ему впереди Джомолунгму, вершину которой он должен был достичь непременными успехами, чередующимися один за другим, задали ему какую-то недостижимую планку, а между тем Сергей даже на уроках физкультуры не мог перепрыгнуть через планку вполне реальную, боясь сбить ее и опозориться – не то чтобы он не мог, он даже не пытался перепрыгивать через нее, говоря, чтобы ставили двойку, и он уйдет. Мальчику в троллейбусе, конечно, вряд ли грозило такое разочарование в жизни с его слабоумием, которое, конечно, даже самая мощная колдунья не сумела бы исцелить. Ему грозило умереть от воспаления легких после закаливания по системе Иванова, или вегетарианской диеты, или уринотерапии, или еще неизвестно чего, чем могла увлечься его мать, пока его растила. Мать могла уйти в секту или монастырь, и тогда мальчик мог стать одним из тех детей с благоговейным взглядом на православном канале, которые причащались святых даров, и нельзя было смотреть без ужаса на этих как бы обдолбанных седативными препаратами существ (особенно ужасны были, конечно, всякие четырехлетние девочки в старушечьих платочках). Петров кивал, а женщина продолжала затирать про то, что ее сын сам может лечить людей и предсказывать будущее. Петров хотел сказать, что тоже может предсказать ее будущее и будущее ее сына, но как-то не решился, потому что, покосившись на нее, наткнулся на совершенно дикий взгляд, от которого нельзя было ждать ничего хорошего в случае хоть какого-то сомневающегося слова.
Троллейбус остановился на конечной, когда речь женщины достигла кульминации своего безумия, когда она стала делиться тем, что ее саму во время беременности похищали инопланетяне (их зря называют серыми человечками, они на самом деле синего цвета, вот как троллейбус снаружи), что пришельцы уже и мальчика похищали несколько раз. Выйдя наружу, Петров заметался по остановке, пытаясь сделать так, чтобы женщина от него отстала, но она таскалась за ним и таскала за собой мальчика, пытаясь, видимо, как-то логично завершить разговор, мальчик поскальзывался на своих резиновых подошвах, но женщина крепко его держала, так что он, поскользнувшись, каждый раз оказывался подвешенным за руку. Петров с завистью посмотрел вслед уходящей девочке, к которой никто сегодня не полез с болтовней.
Петров купил мальчику шоколадку, а женщина вырвала шоколадку из рук ребенка и сказала, что у него аллергия на лактозу. Мальчик тупо смотрел вперед и во время того, как Петров совал ему в руку шоколад, и во время того, как мать этот шоколад из руки у него вырывала. Петров купил мальчику мандаринов, но его мать сказала, что у него диатез. Петров купил мальчику бананы, но его мать вырвала и бананы, заявив, что бананы полны калия и накапливают радиацию. В тот момент, когда Петрову казалось уже, что женщина никогда от него не отвяжется, что она так и будет преследовать его до самой квартиры, а потом, может, еще и ворвется внутрь, женщину вдруг перехватила такая же безумица в осеннем плаще, но не с одним ребенком, а сразу с двумя детьми постарше. Женщины радостно засмеялись, целуясь троекратно, как лидеры социалистических государств со своими восточноевропейскими коллегами. Дети смотрели друг на друга мрачно, хотя не мрачно, скорее, а обреченно.
– Любушка, сестрица моя во Христе, – успел услышать Петров восторженное восклицание от подлетевшей чокнутой, прежде чем смазал лыжи с места встречи.
Он вспомнил свою вчерашнюю троллейбусную мечту о большом количестве газированной воды и сне, поэтому снова подался в киоск, в тот же самый, где покупал шоколадку.
– Быстро вы, – необидно прокомментировала его очередное появление продавщица. – Забыли что-то?
Продавщица уже была симпатична Петрову тем, что возле нее не было детей, а еще тем, что она тоже простуженно, как и он, говорила в нос, и видно было, что она так же, как и он, выглядит простуженной, на прилавке рядом с ней стояла белая кружка, на дне был виден порошок, а рядом лежал разорванный пакетик из-под «Антигриппина», кроме тихого радио «Си» был слышен нараставший шум электрического чайника. На шею продавщицы был намотан шарф.
– Как вы умудряетесь болячки на ногах переносить, – сказал Петров, принимая двухлитровую бутылку «Колы», похожую на некий снаряд по его болезни.
– Так все заболели и отпросились, – сказала женщина, – а я просто самая последняя осталась. В этом ничего хорошего нет, честно говоря, людей заражать. Вот вы у меня позавчера сигареты покупали, может, вы от меня заразу и подхватили.
Петрову было лестно, что продавщица его помнила, поэтому он стал всячески расшаркиваться и говорить, что нет, что не от нее, что он стал заболевать раньше, еще на работе.
Им почему-то так хорошо стало от разговора друг с другом, что продавщица поздравила Петрова с наступающим, а Петров сказал, что рано еще поздравлять, что он зайдет в киоск, возможно, неоднократно, и, чуть ли не кланяясь при каждом шаге, словно прощаясь с китайским императором, выпятился из киоска. Сумасшедших и их детей уже не было, Петров поискал глазами их яркие плащи и курточки, что легко вычленялись бы в окружавшей его белизне, но улица Посадская была просторна и редка людьми. Между лавочками и кустами прогулочной зоны, что разделяла две полосы движения, гулял только собаковод с настолько мелкой собакой, что виден был от собаки больше поводок, чем она сама, и видно было, что собаковод именно собаковод по тому, как его характерно волокло по улице то к одному кусту, то к другому. Остальные люди напоминали схематические фигуры в архитектурной презентации будущего проекта. Вообще, зима, конечно, как будто убирала все лишнее и человеческое в ландшафте, оставляя опять милую глазу перспективу и изначальный замысел архитектора: не было ни мусора, ни собачьих какашек возле тротуара, не было видно, что дорога в сторону Гурзуфской заливается водой во время дождя и таянья снега настолько, что воды там становится по колено, дорога же в сторону 8 Марта всегда суха, веранда летного кафе в спорт-баре, забранная диагональными рейками, была пуста, как в первый день творения.
Петров вздохнул одновременно ртом и носом, пытаясь почувствовать запах снега, как чувствовал его еще в детстве, но только впустую выдал наружу клуб паровозного пара и пошел в сторону своей девятиэтажки. Днем всякие киосочки выглядели унылее, чем в темное время суток, было видно, что на них висят гирлянды, но гирлянды не горели, а были как будто сломаны. Со всеми этими своими пустыми огоньками и провисающими проводами, развешанными в форме елочек, надписями «С Новым годом» они выглядели так, словно Новый год уже прошел, а их еще не убрали. Петров решил, что нужно выпить еще одну таблетку жаропонижающего прямо на улице, чтобы, когда он придет домой, она уже начала действовать, а упаковки парацетамола в кармане не оказалось: видимо, вывалилась из кармана дубленки еще в метро или в троллейбусе, когда он переползал из одного угла салона в другой. Дома вроде бы еще были таблетки, а тащиться через дорогу, а потом еще по одной улице до «Кировского», а потом еще через дорогу до аптеки как-то уже не очень хотелось – слишком длинный путь был проделан до дома, если учесть, что Петров начал этот путь еще вчера и все никак не мог его закончить. Уже все более торопясь и все более не в силах торопиться, Петров прошел дворами наискосок до двери подъезда.
В теории дверь закрывалась на магнитный замок, подрядчик обещал модернизировать систему, провести трубки и даже поставить видеокамеру, но на деле магнитный замок был настолько хилый, что подростки, ленясь доставать ключ, просто отпирали дверь рывком дверной ручки на себя, да еще и пенсионеры, и дети постоянно болели, и часто можно было видеть дверь, просто подпертую кирпичом, и увидеть на двери кустарное объявленьице: «Не закрывать – ждем врача». Еще из дома часто переезжали, так что можно было опять же увидеть дверь, вовсе не запертую, а опять же подпертую кирпичом, и увидеть объявленьице: «Не закрывать – ждем риэлтора». Еще в доме часто что-нибудь ломалось, и тогда опять была дверь, подпертая кирпичом, и тетрадный листок с надписью: «Не закрывать – ждем слесарей». Понятно, что при таком раскладе на первом этаже дома царил настоящий хаос: лампочка никогда не горела, всегда в закутке возле подвала кто-то исхитрялся помочиться, иногда исхитрялись помочиться в лифт или в закуток между стеной и трубой мусоропровода, которым уже давно никто не пользовался, а люки мусоропровода были заварены до тех времен, пока человеческая природа не улучшится, поэтому некоторые нерадивые граждане кидали мешки прямо у входа в подъезд. Ирония заключалась в том, что возле подъезда висела квадратная ржавая табличка, чьи порядком потускневшие буквы гласили, что дом, в котором живет Петров, – это дом образцового быта. Двойная ирония заключалась в том, что, даже когда Петров был очень мал, табличка выглядела нисколько не свежее нынешнего состояния. Сколько он себя помнил, ступени, ведущие к лифту от входной двери, были частично выщерблены посередине, как будто кто-то сволакивал по ним очень тяжелую трубу. На памяти Петрова подъезд несколько раз красили внутри и несколько раз – снаружи. В середине восьмидесятых поменяли почтовые ящики на площадке между первым и вторым этажом, но на второй день хулиган со второго этажа вместе со своими веселыми друзьями отрабатывали удары ногами по этим ящикам, так что ящики до сих пор висели грустные от своей вогнутости. В девяносто седьмом хулигана грохнули прямо на ступеньках, выщербленных посередине, Петров как раз приехал с работы и увидел хулигана за милицейским оцеплением, как он лежал там, похожий на помятый им почтовый ящик. Товарищи хулигана хотели сменить табличку про дом образцового быта на мемориальную доску, объясняя это тем, что в Нижнем Тагиле такое сделать разрешили. Мемориальная доска так и не появилась, потому что товарищей хулигана кого пересажали, кого тоже грохнули, а следы от пятна крови долго не могли убрать со ступенек – все равно оставались какие-то контуры. Но как раз к приходу миллениума сосед Петрова с первого этажа, запомнившийся Петрову тем, что раньше у соседа был кот, ходивший на унитаз, и клетка с белочкой в колесе, стал страшно пить, а в Новый год, собравшись упиться вообще в какую-то невообразимую дымину, затарился огромным количеством водки и пива и разбил и водку, и пиво как раз на ступеньках. Свежее пивное пятно оказалось сильнее, чем старое пятно крови, и на время перебило все запахи в подъезде, оставив только горьковатый запах хмеля, смешанный с запахом спирта.
Когда Петров подошел к подпертой кирпичом двери подъезда, в котором, судя по объявлению, ждали врача, запаха хмеля уже, конечно, не было, был обычный туалетный запах, смешанный с влажноватым запахом пара из подвала. Прежде чем идти к лифту, потому что подниматься на пятый этаж пешком не было уже сил совершенно никаких, Петров посмотрел на свою машину, скучавшую на стоянке, – на месте ли. Машина стояла там, где он ее и оставил позавчера, прикрытая инеем, будто сахарной пудрой.
Лифт тоже был в подъезде замечательный: в нем были именные надписи, нацарапанные гвоздем на фанерных стенках, из той поры, когда не было еще маркеров, были там надписи, появившиеся вместе с маркерами, особенно местные подростки любили писать черными маркерами потолще, поверх нацарапанного гвоздями прошлых поколений. Была надпись «HSH», была надпись «Prodigy», было несколько завуалированных признаний в любви, была игра «Если ты не голубой – нарисуй вагон другой», причем вагонов под этой надписью было нарисовано больше, чем было жильцов в подъезде, утверждалось, что рэп – это кал, упоминались Егор Летов и ГрОб, конечно же, не обошлось без Цоя, который был жив, несмотря на очевидный для Петрова факт его гибели под «икарусом». Еще красовались на стенках выведенные с какой-то особой любовью и тщательностью имена и отрицательные характеристики обладателей этих имен. Было объявление, обведенное рамочкой, что некая девочка из пятого класса – шлюха и сосет даже у бомжей, прилагался даже телефонный номер, по которому бомжам предлагалось звонить, чтобы разнообразить свою половую жизнь.
Надписи в лифте плавно перетекали в надписи на стенах подъезда, где было все то же самое, но выглядело все масштабнее, потому что в подъезде художник не был ограничен рамками холста. Если в лифте художник просто констатировал факт чьих-то близких отношений, то в подъезде он мог еще и подробно их проиллюстрировать в меру своих анатомических познаний и фантазии.
Петров снял шапку еще в лифте и там же начал расстегивать пуговицы дубленки, коричневые, гладкие и твердые, как ириски. Стоя возле своей деревянной двери, похожей на огромную плитку шоколада, Петров, зажав бутылку с «Колой» под мышкой, стал копаться в кармане джинсов, нашаривая ключи. Там же, в кармане, болталась между пальцами бумажка с таблеткой аспирина, подаренного Виктором Михайловичем.
Окно на площадке между пятым и шестым этажом было вроде бы плотно закрыто, но все равно оттуда как-то поддувало свежим холодком. Дело было, видимо, в том, что во внешнем стекле двойной рамы была прямая трещина, сквозь эту трещину набилось некоторое количество снега, чуть больше, чем для того, чтобы можно было принять его за вату, которой мать в свое время утепляла окна в гостиной и в его комнате. Справа от подъездного окна на широком подоконнике стояли две пустые бутылки из-под пива. Ну как пустые: правая правда была совершенно пуста, а вторая на треть набита окурками.
Желающие сходить в туалет почему-то не добирались до пятого этажа, или у них принято было делать свои дела на первом, поэтому на лестничной площадке отчетливо пахло супом. Кстати, было время, когда весь подъезд пропах травкой, до этого было время, когда выше первого этажа пахло дрожжами. Еще было время, когда по подъезду нельзя было пройти, чтобы шприц не хрустнул под ботинком, а до него опять же было время, когда повсюду, там и сям, стояли пустые бутылки. Сейчас бутылки опять возвращались – к стеклянным пивным добавились пластмассовые из-под алкогольных коктейлей и газировки. Раньше люди оставляли на площадке пепельницы из кофейных банок, теперь же кофейных банок почти не было, а были банки для газированной воды и энергетических напитков. Людям было мало садить сердце экстрактом гуараны, надо было еще покурить после опустошенной банки, как после секса.
Петров печально ввалился в квартиру. Запах супа исходил из его кухни. В прихожей горел свет, участковый врач из детской поликлиники сидела на полочке для обуви и застегивала длинный замок на втором своем сапоге. Жена стояла тут же и по-джентльменски держала наготове зеленоватое пальто врача. Из-за жены равнодушно выглядывал сын. Увидев Петрова, он даже не изменился в лице. В детстве, когда Петров простужался, участковый врач тоже ходил к нему на дом, все звали этого врача сложным прозвищем: Аспирин-Димедрол-Амидопирин.
– Что? Заболел? – спросил Петров у сына, выжимая из себя остатки бодрости, которую он попытался вложить в свой голос, а тот только что-то прохрипел в ответ, видимо, утвердительно отвечал на его вопрос.
– Иди к себе, – сказала жена сыну, – тебе только сквозняка еще не хватало.
Сын уплелся к себе в комнату.
Вообще, сын с разводом Петрова и его жены устроился довольно удобно – у него было целых две своих комнаты в разных квартирах. Петровы-старшие не соревновались друг перед другом в щедрости, оказываемой сыну, однако как-то само собой получилось, что у сына образовался двойной набор игрушек и книг, двойной набор игровых консолей и двойной набор одежды.
– Ну, в общем, вы поняли, да? – спросила врач, влезая в свое пальто и зачем-то ища взгляда жены, а жена уже подхватила сумочку врача и вешала сумочку на ее руку.
– Так ведь не первый раз уже, – отвечала жена врачу.
Петров занял место, которое освободила врач, и принялся развязывать шнурки своих зимних ботинок. Вот чего не хватало ему вчера в квартире Виктора Михайловича – рухнуть на полочку для обуви, а не корячиться в согнутом состоянии, пытаясь не упасть, и не пыхтеть на корточках, чувствуя, как кровь и жар приливают к лицу. Край длинной шерстяной юбки врача мелькал у Петрова перед глазами, пока он разувался, а врач еще раз терпеливо объясняла жене, какие таблетки нужно купить, если их нет, и сколько раз в день их принимать.
– Сейчас же все всё знают, – говорила врач, – начали в интернет лазить за советами. А кто-то по старинке копеечным аспирином ребенка пичкает, хотя сейчас много хороших средств появилось, которые дети с удовольствием принимают. На соседнем участке бабка годовалому ребенку по забывчивости скормила три таблетки аспирина. Другая спиртом обмазывала до алкогольной интоксикации. Еще одна чистотелом напоила – травки перепутала. Вообще, бабушек меньше слушайте, если они у вас есть.
– Да сейчас все дома, – успокаивала ее жена, – никаких бабушек.
Петров помнил этого участкового врача еще по школе – она училась на несколько классов старше, они как-то были даже знакомы с женой через всяких других знакомых, поэтому, как бы врач ни прикидывалась беспристрастным наблюдателем, вся история Петровых с их разводом была для нее как на ладони.
Петров иногда оглядывал свою семейную жизнь со стороны и тоже слегка удивлялся тому, что они с женой развелись и все равно иногда живут вместе, словно откатив свои отношения до стадии свиданий. Только в прошлый раз во время этой стадии Петрова была едва выпустившейся студенткой, и у нее не было сына, и у Петрова не было сына. Это не была попытка освежить отношения, это было что-то другое, но Петров не знал, что именно. Петрова попросила развода по каким-то своим соображениям, которые были Петрову совершенно непонятны. Больше всего Петрова беспокоило, что жена могла изменить ему и из чувства вины начать весь этот цирк, просто не решаясь признаться. Это казалось Петрову хуже всего, ему становилось плохо от мысли, что он целует женщину, которую совсем недавно целовал кто-то другой. Это были глупые, совершенно пошлые мысли, похожие на строчки слащавых песен группы «Руки вверх!», но Петров ничего не мог с ними поделать.
Петров разулся и встал рядом с женой. Петрова держала руки под мышками, словно мерзла. Врач некоторое время смотрела на них, ожидая какого-то представления от разведенок, стоящих плечом к плечу, ей, видимо, хотелось увидеть, какими словами они сейчас начнут обмениваться, но Петровы не доставили ей такого удовольствия и просто дождались, когда пауза молчания между ними и доктором станет тягостной. Врач, хорошо скрывая свое разочарование, вышла.
– Фу, ну и запашок от тебя, – сказала Петрова, когда Петров повесил дубленку на вешалку. – Ты что, в морге пил и там же спал?
– Почти, – ответил Петров, внутренне ужасаясь силе обоняния жены. – Там долгая история. Там Игорь и все такое.
– Это вообще настоящий Игорь, или это твой воображаемый друг?
Иногда Петров задавался тем же вопросом, но не всерьез, как-то Петров все же доверял здравости своего рассудка, чтобы считать Игоря и себя этакими героями «Бойцовского клуба». А вот жена и сын иногда казались ему призраками его воображения, настолько было ему с ними хорошо, настолько они постепенно обрастали для него подробностями, Петрову казалось, что это не от того, что сын растет и приобретает какие-то свои пристрастия, вроде привычки спать на спине, закинув ногу на ногу, или привычки спать на спине, укрываясь одеялом поперек, так что голова и туловище у него оказывались под одеялом, а ноги по колено – нет, и не от того, что он узнавал, что жена имеет настолько пещерные взгляды по поводу воспитания ребенка, что повсюду развешивает турники для сына и везде – и в этой квартире, и у себя – повесила боксерскую грушу, хотя Петров-младший был не то что далек от спорта, он был чем-то неприложимым к спорту вообще. Скорее боксерская груша поколотила бы сына, чем он ее. Иногда Петрову казалось, что он придумывает эти новые подробности про близких своих людей.
С другой стороны, Петров, например, вообще ничего не знал о татарах, кроме того, что иногда попадал на татарский телеканал, который был в его кабельном, Петров просто не мог придумать, что его жена – татарка и даже знает татарский язык, силы воображения Петрова просто не хватило бы на то, чтобы придумать имя, которое носила жена, и совершенно невообразимое отчество, которое у нее было. При всем этом они ездили в тот же Татарстан к родственникам жены, на свадьбу ее двоюродного брата, и никто никогда из попутчиков в транспорте или там прохожих никогда не заговаривал с женой по-татарски – настолько у нее была простая славянская внешность, а к Петрову на татарском обращались постоянно, заставляя его краснеть, как будто он был татарином, и отказался от своих корней, и забыл даже язык. Петров, в конце концов, не мог придумать бабушку жены – реально такую полноватую бабушку в цветном платочке, перескакивающую с одного языка на другой, – и не мог придумать, что она будет буквально виснуть на нем, выясняя, откуда у Петрова с его фамилией такая аутентичная татарская внешность. «Моя бабушка согрешила с водолазом», – хотелось ответить Петрову на это, потому что его собственная бабушка правда согрешила с водолазом Балтийского флота – дедушкой Петрова. Дед был из детдомовцев, так что Петров, получается, носил фамилию, придуманную работником детдома во времена гражданской войны. У этого работника детдома тоже с воображением было не ахти.
Турник, который повесила жена для сына, был в простенке между прихожей и ванной, по пути к кухне. Она рассчитала примерный рост всех членов семьи, но нетрезвым гостям Петрова, например, тому же высокому Паше, приходилось несладко, когда они цеплялись за турник головой. «Я уже и у себя дома пригибаться начал при виде кухонной двери», – говорил Паша после того, как побежал поблевать в туалет Петрова и турник пришелся ему прямо на переносицу. Сам Петров не задевал турника головой, но чувствовал, как он касается его прически, как некий ангел-хранитель.
После того как жена сделала замечание о его запахе, Петров не мог пройти мимо ванной и не мог не оценить свою мрачную, небритую два дня рожу в зеркале над раковиной. Жена тоже устроилась неплохо, на полочке под зеркалом лежала ее зубная щетка и всякие ее ночные кремы для рук и для лица (в ее квартире, между прочим, бритвы Петрова и его зубной щетки не лежало). Стиральная машина возле умывальника гудела со звуком, отдаленно напоминающим звук авиационной турбины истребителя. Через патрубок, шедший от стиральной машины к унитазу, лилась ярко-розовая вода, смешанная с мыльной пеной.
– У тебя там белых вещей нет? – спросил Петров через плечо, жена, сунув руки под мышки, тоже смотрела на эту ярко-розовую воду. – А то получится как тогда.
Всего-то год назад, когда Петров-младший ходил в первый класс, – теперь казалось, что просто уйма времени прошла, – они постирали новые розовые колготки сына вместе со своими вещами. Нужно было сразу понять, что от этих колготок не стоит ждать ничего хорошего, и тем более не стоило их совать в стирку с другими вещами тогда еще, когда они безо всякой стирки отлиняли на ноги Петрова-младшего, раскрасив их по всей длине ровным оттенком, причем цвет был такой, что Петровы так и не поняли, что это за цвет, Петров говорил, что это розовый, а Петрова говорила, что фиолетовый. После стирки колготки правда стали фиолетовыми, зато на белой футболке Петрова, на белых носках Петровой, на белых и голубых майках Петрова-младшего остались отчетливые пятна ядовитого розового цвета.
– Это я пальто стираю, – пояснила жена.
Пальто у Петровой тоже линяло всегда. Пальто уже было года три, Петров говорил, что эту адскую вещь нужно выбросить, потому что она не только все время линяет, но еще и долго потом сохнет. Петрова говорила, что пальто ей идет. Петров говорил, что, может, оно и идет Петровой, но толку от него нет – оно же холодное, в нем зимой не теплее, чем в свитере.
Петров, решив, что потом как-нибудь вытащит всё из карманов, скидал все с себя в корзину для белья и полез в душ. Петрова стояла тут же и смотрела совершенно равнодушным взглядом. Вообще, с появлением ребенка отношения Петровых потеряли былую долю интимности, когда ванная, совмещенная с туалетом, запиралась, если кто-то из Петровых мылся или ходил в туалет. Теперь могло быть так, что Петров мылся, Петров-младший сидел на унитазе, ковыряясь в носу и болтая на одной ноге сползшие к полу трусы, а Петрова в это время, допустим, закладывала в стирку одежду, или, допустим, Петрова сидела на унитазе, а Петров в это же время мыл Петрова-младшего, Петрова просила принести ей новую прокладку из сумочки, Петров уходил, а когда возвращался, заставал сына и жену беседующими друг с другом столь непринужденно, словно все они были одеты и находились в гостиной.
– Есть ты, наверно, не хочешь, – сказала Петрова, когда увидела, что Петрова тоже бьет гриппозный озноб, непредсказуемо обострившийся под горячим душем.
– Не буду, – сказал Петров в нос, и это было тем более удивительно, потому что нос у него был совершенно забит. – Если я чем сегодня и буду питаться, то только таблетками.
Жена рассмеялась.
– Как в будущем шестидесятых, – сказала она. – Я тут недавно перечитывала Губарева…
Петров непонимающе посмотрел на Петрову.
– Ну, он «Королевство кривых зеркал» написал. У него еще есть «Путешествие на Утреннюю Звезду», так там пришельцы не таблетками, конечно, питаются, но почти.
Петрову нравилось, когда жена была так спокойна. Ему было с чем сравнивать. Просто были у Петровой периоды некого раздражения, что-то вроде гона, как у кошки, когда она была слегка не в себе, рассеяна и непредсказуемо взрывалась, она начинала находить в Петрове какие-то недостатки, о каких он и помыслить не мог. Однажды она наорала на Петрова за то, что он громко сопит носом и заглушает этим телевизор. Еще был скандал из-за того, что он ставит кружку с чаем слишком близко к краю стола. В такие дни что-то гудело внутри нее, как сварочный аппарат. В обычные дни, если Петров храпел, она просто просила его перевернуться как-нибудь по-другому, в дни раздражения она могла не полениться дойти до кухни, набрать там воды в стакан и вылить его Петрову на голову, и это было еще не самое плохое, иногда она просто отвешивала храпящему Петрову оплеуху или подзатыльник и просила заткнуться. Секс с ней в такие бешеные дни превращался в очень экстремальное мероприятие. Она могла заорать: «Да куда ты лезешь-то, блин!», могла рассмеяться и сказать: «Ну и рожа у тебя». Могла сбросить Петрова с себя, перевернуть, усесться сверху и, говоря с ненавистью: «Да давай ты быстрее уже», вцепиться ему в горло одной рукой так, что у Петрова темнело в глазах.
В дни спокойствия ничего не могло вывести ее из равновесия. Другое дело, что с первого взгляда не всегда можно было отличить один период от другого. Как-то Петров купился на ее мирный вид в то время, когда она шинковала лук и вытирала слезки тыльной стороной ладони, полез к ней с объятиями со спины, и жена, зевнув, как от скуки, быстро и глубоко взрезала ему предплечье во всю длину. Петров тогда удивился не этому ее поступку, а тому, насколько острые ножи у них в доме.
Был только один стопроцентный признак того, что жена находится в спокойном состоянии. Когда жена была спокойна, она рассказывала о библиотечных делах или о книгах. Больше всего из этих рассказов Петрова впечатлил рассказ про дядечку лет пятидесяти, который перечитал все сочинения де Сада, затем перешел на всю возможную литературу о концентрационных лагерях, после чего стал читать книги о гинекологии, хирургии и анатомии. Петрова однажды столкнулась с этим дядечкой вне библиотеки, в книжном магазине, где он листал «Камасутру», иллюстрированную фотографиями. Петрова сказала, что если на Уралмаше начнут пропадать женщины, то не нужно будет особо долго искать подозреваемого.
Петров уже пил чай, прихлебывая им таблетки жаропонижающего, отхаркивающего и средства от кашля, и рассказывал, как провел вчерашний день, когда появился хмурый от болезни сын, открыл холодную воду и стал пить прямо из-под крана, пока жена не прервала это питье окриком, похожим на крик чайки.
– Жарко, – пояснил сын, теребя серый пластырь на безымянном пальце.
– Ну так что теперь? Снег есть? – спросила жена. – Давай уж лучше морса выпей.
Сын только пробурчал в ответ что-то недовольное и пошел было к себе, но тут Петров вспомнил про «Кока-колу», оставленную возле ботинок в прихожей. Петров-младший поделился с отцом стаканом «Колы» и уволок газировку к себе. Петров тоже, не в силах уже выносить яркий солнечный свет в кухне и свое сидячее положение, подался в спальню, задернул шторы и завалился в постель. Когда он наконец уснул, то ему не снилось ничего. Вместо сна была чернота, этакий комикс, состоящий из кадров, полностью залитых тушью.