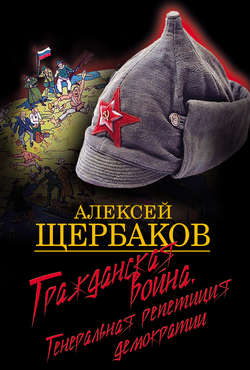Читать книгу Гражданская война. Генеральная репетиция демократии - Алексей Щербаков - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 4
Бульдозер демократии
Демократия за работой
ОглавлениеСвоеобразие ситуации, сложившейся в России после Февральского переворота, было в том, что в стране существовали, по сути, две параллельных власти – Временное правительство и Совет. Хотя на первых порах Совет не претендовал на то, что является альтернативой «временным», тем более что Керенский входил в обе структуры. Бороться самому с собой – это, знаете ли, непросто.
Идеологически они поначалу тоже не особо различались. Министры Временного правительства, чувствуя шаткость своего положения (улица-то была за Советом), постоянно подпускали в речах левую фразу. Тем более что председатель «временных», князь Львов, будучи абсолютно неспособным к какой-либо практической деятельности, обладал характером кота Леопольда. Он искренне верил, что все – и левые, и правые, смогут жить в мире и согласии. Да и Совет отличался радикализмом больше на словах.
На самом-то деле на первых порах двоевластие были выгодно и тем, и другим. Каждый мог в случае чего кивать на «соседа» – это не мы виноваты, это вон они против…
Первый практический ход сделал именно Совет. 1 марта, то есть еще до отречения императора, он издает знаменитый Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону. Его стоит привести полностью.
Приказ № 1.1 марта 1917 г. По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.
Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые ещё не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.
3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.
4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.
5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам[5] даже по их требованиям.
6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чём не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.
Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.
Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов
Этим приказом был запущен механизм развала армии. Теперь солдаты могли совещаться – идти им в атаку или ну ее на фиг… Причем очевидно было, что приказ должен распространяться не только на Петроградский гарнизон. Документ вышел в девяти миллионах экземпляров – при том, что под ружьем находились 11 миллионов солдат. То есть буквально – он должен был дойти до каждого.
При желании в этом можно видеть очередные коварные происки врагов России, однако на деле все проще. Как это часто бывает в политике – приказ работал на сиюминутную ситуацию. Обитатели Таврического дворца продолжали бояться того, что на них кто-нибудь из фронтовых генералов двинет войска. А ведь теоретически какой-нибудь генерал и мог бы…
Кроме того, руководители Совета были сугубо штатскими интеллигентами. А в те времена интеллигенты, да еще и левых взглядов, армию не любили и не считали нужным интересоваться, как она устроена. Подобные товарищи могли читать Гегеля и Маркса в подлиннике – но не знать, чем капитан отличается от штабс-капитана. Кроме того, значительную часть депутатов Совета составляли солдаты! Причем из запасных частей, то есть не фронтовики. Покажите мне солдата, который любит дисциплину.
Но что самое смешное – так это то, что Временное правительство, сплошь состоящее из оборонцев, то есть сторонников продолжения войны, покричав «мы тут ни при чем», тем не менее приказ… поддержало! Понять их мотивы трудно, а оправдания, последовавшие уже в эмиграции, выглядят неубедительно. К примеру, Керенский утверждал, что это было необходимо, так как в армии было много контрреволюционеров. Хотя никакой контрреволюции по отношению к Февралю не существовало. Вообще. Видимо, просто-напросто Временное правительство опасалось связываться с Советом.
Впрочем, «временные» явно решили не отстать от Совета, потому что тоже начали чудить. К примеру, они продолжили разваливать армию уже собственными силами.
«В этом плане особенно красноречивы действия А. И. Гучкова, ставшего военным министром Временного правительства. Он был человеком умным и решительным, близким к армии и имевшим очень высокий авторитет среди офицерства и генералитета. Тем не менее он, следуя логике процесса, давал распоряжения и приказы, разрушавшие армию (например, за март было уволено около 60 % высших офицеров)».
(С Кара-Мурза, писатель)
Кстати, а не из этих ли уволенных были красные командармы и начальники штабов, которые в итоге разбили и Колчака, и Деникина?
Проявили себя «временные» и в других областях. Особо отличился Керенский, первоначально занимавший пост министра юстиции. Он «пробил» решение о всеобщей амнистии. То, что выпустили всех, в чьих действиях был хоть какой-то намек «на политику», – это понятно. Но заодно с политическими освободили и уголовников. Керенский объяснял это тем, что, дескать, все освободившиеся урки отправятся добровольцами в армию. Ага, конечно! Они отправились заниматься любимым делом – воровать и грабить. Скорее всего, Керенский таким образом просто облегчал себе жизнь – не болела голова о содержании тюрем. Тем более что тюремную систему надо было как-то реорганизовывать.
Но еще один его шаг логическому объяснению не поддается. Вдобавок к амнистии Керенский полностью развалил правоохранительную систему (точнее, добил, потому что революция и так нанесла по ней страшный удар). Так, к примеру, он запретил использовать в следственной работе информаторов, заявив, что «это недостойные методы для демократической страны». Хотя любой опер, и тогдашний, и сегодняшний, объяснит, что большинство преступлений раскрываются не методом дедукции, а с помощью «барабанов»[25].
Что уж говорить об отдельном корпусе жандармов, который разогнали полностью. Сформированная милиция была абсолютно беспомощна, никто ее всерьез не воспринимал. Взамен же жандармов, которые при царе занимались политическим сыском, вообще ничего не создали. Из спецслужб в России осталась одна лишь военная контрразведка – но она и при царе работала отвратительно. Кстати, Керенский впоследствии сам в свою яму и попал. Когда у него начался конфликт с большевиками, он им ничего противопоставить не смог.
Проведя первые реформы… Чем, кроме реформ, могут заниматься демократы? Правильно. Начали воровать. Конечно, воровали и раньше, и немало. Но теперь и вовсе никаких сдерживающих факторов не осталось.
Вот выдержка из доклада министра юстиции Временного правительства В. Н. Переверзева на III съезде военно-промышленных комитетов в мае 1917 г.:
«Спекуляция и самое беззастенчивое хищничество в области купли-продажи заготовленного для обороны страны металла приняли у нас такие широкие размеры, проникли настолько глубоко в толщу нашей металлургической промышленности и родственных ей организаций, что борьба с этим злом, которое сделалось уже бытовым явлением, будет не под силу одному обновленному комитету металлоснабжения.
Хищники действовали смело и почти совершенно открыто. В металлургических районах спекуляция создала свои собственные прекрасно организованные комитеты металлоснабжения и местных своих агентов на заводах, в канцеляриях районных уполномоченных и во всех тех учреждениях, где вообще нужно было совершать те или иные формальности для незаконного получения с завода металла. Новый строй здесь еще ничего не изменил… организованные хищники так же легко и свободно обделывают свои миллионные дела, как и при прежней монархии… При желании можно было бы привести целый ряд очень ярких иллюстраций, показывающих, с каким откровенным цинизмом все эти мародеры тыла, уверенные в полнейшей безнаказанности, спекулируют с металлом, предназначенным для обороны страны».
То же произошло и с коррупцией. Теперь это делалось совершенно открыто. Вокруг министерств развелось огромное количество всяческих комиссий, которые откровенно занимались «откатами». Словом, все так же, как было у нас в начале девяностых.
Ну и, естественно, в стране бушевала полная свобода слова. Начали все, понятное дело, с обличения царского режима. Особенно досталось императорской семье и ее связям с Григорием Распутиным – тут можно было нести все что угодно. Чтобы понять, что из себя представляла тогдашняя «гласность», можно прочесть роман В. Пикуля «Нечистая сила»[26]. Автор ничего в этом романе не придумал. Большинство фактов он взял из изданий 1917 года.
Но если бы дело ограничилось освещением «темных пятен истории»… Вскоре ошалевших от «гласности» журналистов стало заносить за все границы. К примеру, эсеровская «Воля народа» восторгалась высоким боевым духом немецкой армии и подвигами ее летчиков. (Замечу, что эсеры были за продолжение войны.) Представьте, для сравнения, что в демократической Англии в 1942 году какая-нибудь газета напечатала бы статью о подвигах бойцов танковой дивизий СС «Мертвая голова»… Редактора посадили бы на следующий день и дали бы лет десять. Сажали и за меньшее.
…Некоторое время в обществе царила эйфория по поводу обретенной свободы. Но все проходит, прошла и эйфория – и начали вылезать главные вопросы, из-за которых-то смута и началась.
25
Барабан – осведомитель. Слово используют как блатные, так и милиционеры.
26
В журнальном варианте – «У последней черты».