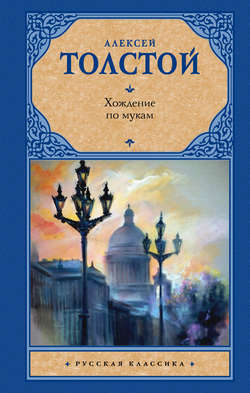Читать книгу Хождение по мукам - Алексей Толстой - Страница 4
Книга первая
Сестры
3
ОглавлениеРасстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:
– Дома никого нет, конечно?
Великий Могол, – так называли горничную Лушу за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо, – глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.
Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.
Зять, Николай Иванович, дома, – значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас – одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать – себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно.
Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, – а их было немало, – кто выражал охоту развеивать девичью скуку.
В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.
Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны – нежно любовные.
Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, уменьем вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.
Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, – вся эта чугунная циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения.
Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда спозаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши и бархатный голос произносил:
«Приветствую тебя, Великий Могол!» – и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера:
– Катюша, – лапку!
Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем, кто бывал слишком внимателен, ревновала, – глядела на виноватого злыми глазами.
Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола – Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»
Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.
Щеки у нее действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.
На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.
Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя – Никанор Юрьевич Куличек.
Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.
Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая:
– Уйди, Дарья, уйди, умру!
Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противных!. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.
Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.
Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды.
Все знакомые, а первая – сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:
– Что же это с нами дальше-то будет?
– А что, Катя?
Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы.
– Уж очень хорошеешь, – что дальше-то будем делать?
Даша строгими, «мохнатыми» глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем.
– Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно – понимаешь?
Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками.
– Какие мы рогатые уродились: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.
Однажды на теннисной площадке появился англичанин – худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул – глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, – засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала:
«Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».
Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше – был он совсем сухой, – закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.
Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина, – он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок, и, не оборачиваясь, глядел на море.
Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой.
С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:
– Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, – почему ты не играешь?
Даша раскрыла рот – до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина и отчаянно несчастна.
Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды – затягиваться зимою в корсет и суконное платье.
Две недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.
А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, – англичанка, его невеста, – и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.
На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот – второй человек – точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая – и легкая и свежая, как прежде, – но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них – голова закружится.
В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в «Самарканд», к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.
Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром – лекции, в четыре – прогулка с сестрой, вечером – театры, концерты, ужины, люди – ни минуты побыть в тишине.
В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе.
К нему подсели знатоки литературы – два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.
«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, – и люди и искусство. А Россия – падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».
Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.
Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:
– Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти.
Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.
После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, – все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».
На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять».
Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, – одни кружевные юбки.
Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, – неожиданно устали ноги, и было грустно.
После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи, – три белых томика, – вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали – забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.
Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома – гости. Самолюбие ее молчало.
Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение, должно произойти что-то невозможное.
Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения ограду райского сада.
– Да, милостивая государыня, плохо наше дело, – сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.
– Николай Иванович, который час? – крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты.
В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.
В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился наконец Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.
Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.
Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:
– Вчера ночью твоя сестра мне изменила.