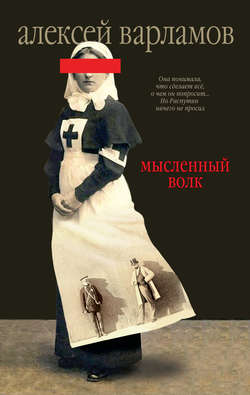Читать книгу Мысленный волк - Алексей Варламов - Страница 11
Часть I
Охотник
10
ОглавлениеВозможность поквитаться со своим несостоявшимся литературным опекуном представилась П.М. Легкобытову зимою четырнадцатого года. Р-в проштрафился в ту пору перед общественным мнением просвещенной столицы дважды: во-первых, он написал оскорбительную для всякого порядочного человека статью, в которой призывал правительство не впускать в страну политических эмигрантов, а во-вторых, опубликовал несколько фельетонов в связи с делом Бейлиса, которые образованная русская публика немедленно прочла как антисемитские. И хотя трудно было найти во всей России человека, который больше петербургского Приапа знал и любил бы все еврейское, вплоть до особенностей женского омовения в микве, этого оказалось достаточно, чтобы смесь неприязни, раздражения и ненависти, против философа пола у мыслящих людей скопившаяся, взорвалась.
Ему много чего еще припомнили и не простили, и орден петербургской интеллигенции во главе со Скопцом Аттисовых тайн торжественно положил исключить Р-ва из Религиозно-философского клуба с волчьим билетом. Диссиденту направили письмо, в котором ему было благородно предложено уйти безо всякого шума и по собственному желанию.
– Нет уж, я предпочту быть исключенным, – ответил философ, по обыкновению перебирая в послеобеденный час прокуренными пальцами старинные монеты, и отцам клуба пришлось брать на себя неудобоносимое полицейское бремя.
Первый раз у них ничего не вышло, потому как не собрали кворум. Ко второму заседанию подготовились более основательно. Легкобытов на том совете присутствовал и насладился холодной, да к тому же осуществ-ленной чужими руками, местью вполне. Шумели и скандалили страшно долго, вспоминали былые заслуги Р-ва, сокрушались о его нравственном падении, лицемерили, ярились, говорили кто во что горазд, но тем не менее резолюцию под давлением председательствующего вынесли.
– Если вы не исключите его, уйду я, а со мной весь совет, – пригрозил собранию Верховный Скопец.
Худосочная жена его щурилась, прочие корифеи лорнировали публику, волновались провинциальные евреи, и Павел Матвеевич единственный голосовал против всех: благородство было охотнику паче гордости, да и на результат голосования его мнение повлиять не могло, но в одном он был уверен: Р-в о единственном честном голосе в свою защиту узнает и не сможет не догадаться, кому этот голос принадлежит. То была если и месть, то изысканная, великодушная, не то предисловие, не то послесловие к ускользавшему роману, некая точка в их противостоянии, пока что мало кому заметная, но подлежащая обнаружению позже. Павел Матвеевич вообще с некоторых пор уразумел, что конфликт между учителем и учеником имеет решение не в настоящем, но в будущем, откуда картины бытия будут выглядеть совершенно иначе, чем из их странных времен, где все смотрели на него как на какую-то нелепую фигуру, случайно забредшую в чужой дом. Он для этого будущего жил не меньше, чем для настоящего, он искал к нему подходы, устраивал засидки, прокладывал тропы, маскировался, был заботлив и аккуратен, только того не ведал умный охотник за собственным счастьем, что не до клуба философов было отвергнутому Р-ву в тот мутный год. А если бы знал, то, наверное, давно простил бы все свои обиды, устыдился бы, смирился и пошел жить и охотиться дальше, оставив учителя в покое, но не все было дано знать следопыту за пределами его леса.
На самом деле кто там голосовал за, кто против, кто и что о его исключении думал, кто и для какой цели вообще всю эту комедию придумал, Р-ва не интересовало нисколько. Он давно выкинул основанный им клуб из головы, исключил его из себя, освободился еще прежде, чем его исключили, но несчастье все равно его догнало: две недели спустя после резолюции, о которой с удовольствием написали все культурные газеты империи, ушла из дома любимая падчерица Р-ва Ася – та, что некогда говорила своей благочестивой матери: «Ты женись с ним, мама, женись», еще прежде добрым сердечком угадав, разгадав, что в этом рыжем, гневливом, всклокоченном человеке с нечистым дыханием и гнилыми зубами заключено столько любви и доброты, что хватит всем. И не прогадала, потому что Р-в полюбил ее даже больше, чем родных дочерей, был ласковее, чем с ними, чтобы она, не дай бог, никогда не подумала, что в этом доме лишняя, чужая, и она ему доверяла самое сокровенное, что обычно девочки говорят матерям. Доверяла, а теперь ушла, не желая оставаться под одной крышей с реакционером, мракобесом и черносотенцем, и вот этого Р-в не мог простить никому.
Ася уже уходила однажды в церковную общину к некоему отцу Мирославу, служившему в церкви при лекарском училище, и тогда впервые Р-в понял, что есть кто-то, значащий для нее больше, чем он, но тот уход его не огорчил. Отец Мирослав, высокий, худой человек с красивым грубым лицом, был по происхождению малороссом из западных губерний, с неизгладившимся униатским налетом и какой-то нерусской цепкостью во взгляде. Приходил он и на заседания философского клуба. Молча сидел, так что трудно было понять, одобряет или осуждает происходящее, а у себя на дому устраивал по воскресеньям вечеринки с чаем и печеньем. Там было попроще, чем в чванливом клубе, и люди бывали разные: бедные литераторы, курсистки, студенты академии, вольноопределяющиеся, странники, захаживал и инспектор – сосредоточенный благонамеренный человек, однокашник хозяина, архимандрит Феофил. Был он для своего звания еще очень молод и также немногословен, но, когда все же начинал говорить, все тотчас замолкали, и это всеобщее внимание к архимандриту Р-ва раздражало: насколько он любил многосемейных попов, настолько же не любил монахов. Раздражало Р-ва в Феофиле все: и щупленькое тельце, и смуглое, сухое, вечно постное лицо с черными, будто приклеенными волосами, и подчеркнутая вежливость, и перебирающие четки быстрые, ловкие, невинные руки с младенческими розовыми ноготками, но более всего глаза – опущенные долу, однако глядевшие всегда горе, поверх того, что было Р-ву дороже всего на свете, – живой, теплой человечьей природы. Феофил казался ему воплощением той силы, что с этой жизнью боролась и вербовала к себе, как в секту. И ладно еще, когда в монастыри шли под старость или уходили овдовевшие священники, но совращать в тюремную обитель молодых, полных жизни мужчин и женщин, обрекать их на борение плоти и искушать содомским грехом – все это казалось Р-ву преступлением против жизни. Он с Феофилом иногда на эти темы спорил, и среди студентов существовало предание, будто бы споры их заканчивались обыкновенно тем, что философ говорил горячо и страстно, а Феофил не произносил в ответ ни слова, но тем не менее, иссякнув, Р-в заключал:
– А может быть, вы и правы.
Но это легенда была, которую сами студенты из чрезмерной любви к своему инспектору сочинили. На самом деле Р-в никогда правоту Феофила ни в чем не признавал. Он ученых монахов звал язвой церкви и других искал в этом мире людей. И когда однажды отец Мирослав, часто паломничавший и привозивший с собой странников из дальних мест, каких-то божьих старушек, гунявых юродивых, блаженных стариц, перехожих калик, каких-то Феклуш и Марфуш, когда Мирослав привез откуда-то не то из Сибири, не то с Урала его, Р-в возликовал, точно обнаружил в куче навоза жемчужину. Тогда о нем еще мало кто слышал и знал, и, когда он вошел, поначалу не обратили внимания: мужичонка серее некуда, невзрачный, тихий, с мелкими запыленными чертами лица, молча выпил чаю, больше не захотел, «Благодарю», – сказал глухим голосом и положил стакан боком на блюдечко. Но что-то переменилось в комнате: люди сделались тише, ниже ростом. «Как будто их и нет тут никого, – поразился Р-в. – Все исчезли». Даже Феофил смутился, поблек и пригнулся. Все признали его первенство, всех он был недосягаемо выше, хотя и не говорил ничего особенного. А перед тем, как уйти, бросил взгляд на Р-ва. Ничего о нем не зная, не читая, не слыша о его распрях с петербургским владыкой Антонием, глянул так, что философа ударило током.
– Кто это? – спросил Р-в у хозяина.
– Божий человек, – ответил отец Мирослав. Доверчивое лицо его просияло, потеряв хохлацкую хитрость, и священник стал рассказывать, как был с матушкой прошлым летом у странника в деревне и тот вывез их в лодке на середину реки, а потом лодка сама поплыла вверх по течению.
Но Р-ву не нужны были эти смешные чудеса. Ему и так все сделалось понятно: Россия прислала в Петербург своего пророка. Огромная молчаливая страна ответила уверенно, хлестко, крупно, чтоб ни у кого не осталось сомнений в ее силе. И Р-в был готов первым посланца этой силы признать вопреки шипению либералов.
Но еще больше полюбила и потянулась к божьему человеку Ася.
– Он весь как натянутая тетива, – рассказывала она отчиму, и лицо у нее сияло. – Когда он говорит о Боге, хочется сесть у его ног, обнять их и заплакать. Я не понимаю, откуда это берется. Он некрасив, у него неинтересное лицо, низкий голос, грубые манеры, но он очень талантлив. Талантливее всех, кого я видела. Даже тебя. За ним можно ходить и записывать, как за учителем. Но он странный такой. Однажды мы пили чай, он опустил руку в вазочку с вареньем, и все, кто сидел за столом, стали по очереди облизывать его пальцы. А меня он спросил: «Что, гордая очень?»
– А ты?
– Я не хотела, а потом взяла и лизнула его руку.
Ася заплакала, и Р-в прижал ее к себе. Он гладил по спине эту полную, болезненную девушку, которую помнил худеньким подростком с исцарапанными ногами, которую воспитывал, таскал на декадентские собрания, защищал в девятьсот пятом от полиции, когда ее пытались втянуть в революционное подполье и она по глупости и доверчивости дала свой адрес для пересылки нелегальной литературы, не понимая того, что мишенью смутьянов была не она, но он – эти политические скопцы хотели сделать так, чтобы ее арестовали и тем самым заставили бы его выступить против правительства. По счастию, все обошлось, и он не стал Асе ничего объяснять. Он от многого ее оберегал и думал, что знает ее всю, но никогда не предполагал в ней отзывчивости и открытости к вере. За одно это он уже мог полюбить и простить неведомого ему человека. И эти пальцы, которые она должна была облизать, Р-ва не смущали: он не понимал и не принимал веры без телесности и без личности. Религия там, где есть учитель и его тело – где есть Авраам, Моисей, Пифагор, царь Давид, Соломон, Будда, Мухаммед, Иоанн Креститель, Иисус, еврейский цадик или этот темный мужик с пронизывающим взором, за которым была готова, бросив все, ходить его Ася и облизывать ему руки. А каким образом учитель добивается того, чтобы за ним шли ученики, – тайна, и либо ты человеку поверишь, примешь его таким, какой он есть, и пойдешь с ним до конца, либо – уходи сразу, чтобы не оказаться потом отступником или предателем. Середины тут не бывает.
Даже когда до Р-ва стали доходить слухи, что странник живет с женой священника и с другими женщинами, он не только не смутился, но этим слухам поверил, увидел в них добрый знак, ибо, ненавидя аскетизм, благословлял всякое сожительство между мужчиной и женщиной, лишь бы в нем не было насилия и принуждения. Беззаконная в глазах церкви любовь не была в его понимании ни грехом, ни прелюбодеянием, но отзвуком и образом тех древних, ветхозаветных времен, когда у царей было много и жен, и рабынь, и наложниц. И все считалось в порядке вещей, и все было свято и прекрасно, и он мечтал о том, что это прошлое вернется, потому что человечество ходит по своей истории кругами, а иначе давно бы подошло к концу – ведь история совсем недолгая и бережливая, пространства и времени у нее мало. Она обманывает людей тем, что показывает им якобы новое, а ничего нового на самом деле нет и быть не может. Все рядом – Египет, средневековая Русь, Израиль, и все, что происходит, все уже было, только люди этого не помнят, им хочется верить, что они первооткрыватели, первопроходцы…
А потом тяжело заболела жена Р-ва, с ней случился удар, она обезножела и с трудом могла говорить. Настала самая ужасная, самая черная полоса его жизни. Ему стало не до Аси с ее исканиями и страданиями, мелочными показались все литературные споры, и обиды, и распри с церковниками, и выпады против евреев, и против декадентов, и против революционеров – вся его жизнь сократилась, скукожилась, свелась к одному: как чувствует себя сегодня женщина, которая взяла на себя его грехи и по ним платила. Он возил ее к докторам, среди которых по какой-то беспощадной насмешке судьбы была еще одна его ученица, но гимназии не в Елице, а в Брянске – княжна, хирургиня, поэт, да, как потом еще оказалось, и сама больная болезнью людей лунного света. Но и она ничем не помогла, ничем. И другие тоже не помогали, только выманивали деньги, мошенничали, плутовали и лгали, да еще пытались вести с ним ученые беседы и читали свои беспомощные стихи. И ему приходилось быть вежливым, что-то невнятно отвечать, а когда бывало совсем невмоготу, ссылаться на усталость, и они уходили обиженные, но деньги все равно брали. Как же – профессура, интеллигенция. А он думал об одном – о жене. Чувствовал, как устал метаться от отчаяния к надежде, как вымываются у него силы и негде взять новых. И тут снова возникла, выплыла Ася.
– Он меня домогается.
Сказала не отчиму, матери. И та, измученная болезнью и детьми, снова слегла. Р-в узнал обо всем от нее и вздрогнул, как от удара хлыста.
– Этого не может быть, – ответил он Асе. – Если только ты не захотела сама.
Ася задохнулась от обиды, а он посмотрел на нее совсем другими глазами и подумал с неприятной самому трезвостью: что можно от такой ждать? Годы прошли, ни мужа, ни детей, весталка, старая дева, в голове у которой нет разницы между собственными неудовлетворенными фантазиями и явью. Девиц надо отдавать замуж рано. Как только становятся способны к деторождению, тогда же и отдавать за их сверстников, пока и те не испортили собственных тел в домах терпимости или рукоблудием. Законодательно, принудительно, для их же счастья и общего блага, для здорового, неиспорченного потомства отдавать. А иначе они перезревают и с ними что-то случается, как случилось с Асей. Валоводится с литераторами, а те потом небылицы в свои литературные дневники записывают, что она-де больна сифилисом, которым наградил ее изнасиловавший во сне отчим. Всех почему-то страшно интересовала его личная жизнь, все в нее лезли, и Р-ву было плевать, что о нем говорят и какие нелепые слухи распространяют, все равно оболгут, и ничем защитить свое имя он не сможет – разберутся потом, и, возможно, оттого он чувствовал сродство с тем далеким, неведомым человеком, о котором плели неизмеримо больше, не понимая, не желая, не умея его понять. Наверное, когда-нибудь родится, придет тот, кто все поймет и объяснит, но не в этом мертвом городе, а где-нибудь в Сибири или в маленьком русском городе близ большого монастыря. Только это будет не на его веку.
На его веку была Ася, и что делать с ней, он не знал. Лишь жаловался своему другу отцу Павлу, что Ася потеряла острый глаз, обеззубилась, обессолилась. А отец Павел в утешение ему говорил, что надо быть снисходительным и не требовать от людей большего, чем они могут дать. А сам дружил с «отесенькой» – с Новоселовым, которого Р-в не выносил, и не потому, что Новоселов с изуверским исступлением преследовал путника из Сибири и с кем только в своей ненависти не сближался, а потому, что он ничего не понимал в жизни, ничего, а главное, не понимал, кому служит и кто им пользуется. Р-ва вообще поражали эти люди, которые называли себя патриотами, монархистами, православными, а делали то же самое, что делали и революционеры, если не хуже, разоряя свой дом. Ах, как тяжко было жить в стране, где до такой степени все перемешалось…
А потом странник и отец Мирослав рассорились, но почему это произошло, Р-в не знал, хотя и пытался узнать. Странника стала опять преследовать полиция, и он на время исчез, говорили, будто бы отправился в паломничество на Святую землю и в Петербург уже не вернется, но он снова появился и снова исчез, и опять много писали о нем в газетах, а отец Мирослав заболел туберкулезом, и его перевели служить на западную окраину империи, в те места, откуда он был родом, но все приписывали этот перевод интригам мужика. Община распалась, и Ася вернулась домой. Однако, сколько Р-в ни пытался с ней говорить, она замыкалась, как ракушка, и ни слова ему не отвечала. За матерью почти не ухаживала, жила своей жизнью, в которой ни церкви, ни священства – ничего больше не было. Напротив, она все чаще ругала то, чему раньше поклонялась: и монахов, и батюшек, и прихожан, а более всех – своего прежнего вожатого. Пошла на какие-то женские курсы, и он стал замечать за Асей нехорошее – появились мужеподобные подруги, пошли темные разговоры, начались гадкие касания. Р-в почувствовал мозжечком объявившуюся в его доме лунную породу – их много тогда развелось, мужеобразных женщин, которые заражали собой все вокруг.
Это было время, когда все его признали и к нему пришла самая великая его слава, богатство и почет. Но ему они были не в радость. Он смутно чувствовал, что не ладится главное его творение – семья. И началось это несчастие с Аси. Были времена, когда девицы сбегали из дома с мужчинами, покрывая позором своих родителей и воспитателей. Он бы этого не испугался. Даже если бы она вернулась с неизвестно от кого нажитым ребенком. Он бы принял его, назвал своим внуком и благословил. Но Ася ушла из дома, и не просто ушла, а ушла жить с женщиной, не русской ни по крови, ни по духу, осквернив то, что было для него самым дорогим, – семейное, теплое, родовое начало и естество жизни. Наверное, если бы она искала, как больнее всего его ударить, то поступила бы именно так, но как раз оттого, что все произошло не нарочно, ему было особенно больно. Но еще страшнее делалось тогда, когда он думал о том, что похожее может произойти и с другими его домашними. С теми, кто был его крови.
Он отдал бы в этот момент успех всех своих книг, всю свою скандальную славу, все угадываемое им далекое литературное бессмертие за то, чтобы были счастливы его дети. Ну пусть не все, ну хотя бы кто-то, ну хотя бы один, но жесткое, злое, упрямое предчувствие говорило, что счастливым из его дома не выйдет никто…
И тогда в минуты отчаяния он уходил из дома и до изнеможения бродил по петербургским улицам, гулял вдоль Невы, вглядывался в лица прохожих, иногда, озябнув – а он замерзал очень быстро, – заходил к Ремизову погреться, объяснял его жене разницу между стиркой и постирушкой, советовал, как лучше заклеивать на зиму окна, утешаясь в этом странном, похожем на душное звериное логово доме, и, блаженно протягивая руки к печке, говорил хозяину:
– Никогда я не понимал слов Господа ангелу Лаодикийской церкви. Что это значит: о, если бы ты был холоден или горяч? Объясните мне, что плохого в том, что человек теплый? Почему теплых надо обязательно изблевывать? На теплых мир держится, ими жизнь продолжается.
– Но вы-то горячий, – отвечал Ремизов, любуясь им и улыбаясь детскими пухлыми губами.
Он сердился, спорил, хотя в душе ему было приятно, что Алеша так о нем думает, но, когда шел пешком или ехал на извозчике домой, снова чувствовал тоску и бессмыслицу жизни. Как-то раз эта тоска довела его до того, что он заблудился в Петербурге, словно в глухом лесу. Стоял на Невском, смотрел по сторонам и не узнавал большого города, как какой-то иностранец, азиат, черный араб. Его толкали прохожие, кричали извозчики, а он растерянно вертел головой, и руки у него тряслись от отчаяния. Гимназистка, полудевочка-полудевушка, ровесница его дочерей, подошла к нему и спросила:
– Вам помочь, дедушка?
У нее были добрые серые глаза, смотревшие на него с доверием и участием, и философу полегчало.
– Проводите меня немного, милая барышня, – сказал Р-в ласково, опираясь на ее руку. – Вы не торопитесь? И не торопитесь. Не спешите расти, девочка, – ничего там хорошего нет. Ах, какая вы славная. Лицо у вас хорошее, нежное. И глаза такие необыкновенные. А как идут вам ваши веснушки. Не вздумайте их сводить. И быстрая вы, ловкая. Я вот никому не завидую, а родителям вашим позавидовал бы. Ну-ну, что это с вами? Вы плачете? Не плачьте. Не надо плакать, милая барышня. Лучше помолитесь за меня, грешного. За меня, за тяжко болящую жену мою, за деточек и за непутевую падчерицу. За всех помолитесь.