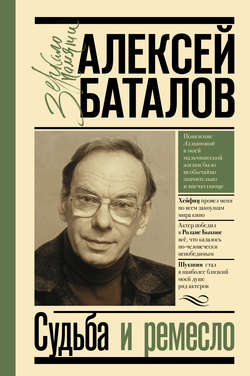Читать книгу Судьба и ремесло - Алексей Баталов, Алексей Баталов - Страница 6
Два детства
Апельсин
ОглавлениеНа всю жизнь запомнил я то необъяснимое чувство восторга и страха одновременно, которое охватило все мое существо, когда раскрылся апельсин.
Так уж вышло, что все первые, самые яркие и верные впечатления о театре мне подарили эти полные лишений и горя военные годы.
Именно там, в Бугульме, мне посчастливилось впервые присутствовать при рождении настоящего театра и с первого дня прикасаться своими руками ко всему, что было связано с этим делом.
Даже первое собрание труппы, состоявшей из эвакуированных, как и моя мать, артистов, происходило в нашей комнатушке. В керосиновой лампе без стекла, подрагивая и коптя, горел фитилек.
Все говорили сдавленными голосами, так как мои братья и хозяева уже спали.
Мать и профессор Бекман-Щербина сидели на табуретках, остальные, точно по жердочкам, расселись по краям наших кроватей.
Я уснул, не подозревая, что в ту ночь среди актеров решалась и моя судьба.
Вскоре под руководством заведующего постановочной частью, соединявшего в своем единственном лице всех необходимых сцене людей, я сколачивал первые декорации, состоящие из ширм, обтянутых мешками с мясокомбината.
В день первого представления я топил печи в зрительном зале, расставлял лавки, заправлял керосином лампы и давал первый звонок, изо всех сил тряся обеими руками ржавый колокольчик.
Быстро и совсем незаметно для меня это случайное собрание голодных людей превратилось в самый настоящий театр. Появились афиши, билетеры, занавес, декорации и репертуар, в котором значились и «Последняя жертва», и «Русские люди», и музыкальные водевили.
Днем специально для детей давали сказку «Три апельсина».
Ай как я любил эти дневные представления, эту публику. Нигде и никогда потом я не чувствовал себя таким взрослым и нужным человеком, как тогда, когда, проходя через набитое ребятами фойе, я хозяйским жестом отворял служебную дверцу кулис и скрывался, именно скрывался за ней, ощущая всей кожей спины горящие завистливые взоры своих сверстников.
Мать долгое время не выпускала меня на сцену даже в качестве статиста. Я был рабочим, бутафором, декоратором и всем, чем придется, но за кулисами. Моими партнерами всегда оставались только деревяшки да холсты.
В «Трех апельсинах» был такой потрясающей силы момент, когда заколдованная героиня, наконец освобожденная героем, является перед зрителями. При этом она должна была выходить из разрубленного апельсина.
Огромный фанерный апельсин стоял в глубине у задней кулисы, за ним, скорчившись, пряталась актриса, а в момент открытия кто-то должен был перехватить распахнутые половинки, иначе ни выпустить героиню, ни удержать эту штуку от падения было невозможно. На репетициях я приспособился, лежа на сцене, просовывать руки под задником так, что, ухватившись за рейки, мог точно открыть и держать апельсин, оставаясь невидимым.
На премьере спектакль шел, как говорится, «под стон». В нашем театре это был первый настоящий детский спектакль. Впервые зал до отказа заполнили ребята.
Началась картина с апельсином. Я занял свое место за задником. Теперь, прижавшись щекой к полу, одним глазом я мог подсматривать снизу за тем, что происходит на сцене. Видны только ноги артистов да черный провал зрительного зала.
Десятки раз на репетиции я точно так смотрел из-под задника, спокойно дожидаясь своей реплики, а тут, как только я увидел зал, меня вдруг охватило страшное волнение.
Я почувствовал, что темнота – это люди, лица и глаза, все до единого обращенные в мою сторону.
Они не знают, что апельсин – это я, для них меня нет, есть только этот рыжий шар, от которого все они ждут чего-то невероятного, и совершить это должен и могу только я.
Когда много лет спустя я впервые услыхал строки Пастернака:
На меня наставлен сумрак ночи,
Тысячи биноклей на оси, —
первое, что ударило мне в голову ярко, как вспышка, было именно то видение ног и черноты зала, которое поразило меня на первом представлении «Трех апельсинов» в Бугульме.
За время репетиций я невольно выучил наизусть весь текст этой картины и запомнил все мельчайшие подробности любой мизансцены. На спектакле вроде бы ничего и не изменилось, но каждая произнесенная актерами реплика вдруг приобрела для меня совершенно иное значение. Я как будто сам говорил эти слова и проигрывал все, что надлежало переживать исполнителям.
Казалось, что теперь на сцене все происходит взаправду, и я, хотя и знаю наперед ход событий, почему-то всем существом стремлюсь помочь героям.
Но вот последний шанс, последнее усилие, теперь нужно только разрубить апельсин.
Через щелку я вижу, как ноги принца повернулись в мою сторону.
Я вцепился в деревянные рейки мокрыми от напряжения руками. От страха я совершенно забыл, что кроме меня и деревяшки еще есть актриса, которая, согнувшись в три погибели точно так же, как я, прячется от публики.
Герой медленно приближается к апельсину. Казалось, что пальцами я ощущаю поток внимания, который уперся и давит в мой фанерный щит.
Реплика. Удар деревянной шпаги. Я открываю створки. Секунду-две в зале тишина – и вдруг овация. Грохот, крики.
Я понимаю, что это аплодисменты и визг по случаю появления героини, я понимаю, что все уже случилось и роль моя кончена, но чувства живут отдельно, и сердце прыгает, и я задыхаюсь от радости, потому что я сопричастен случившемуся. Все мое существо, все мои нервы, вопреки рассудку, жадно ловят этот ликующий треск зала, все без остатка отдавая мне одному. И кажется, без меня она бы и никогда не была освобождена и не было бы всего, что случилось.
Это и были те первые аплодисменты, которые в душе я и сегодня считаю своими.