Забвение истории – одержимость историей
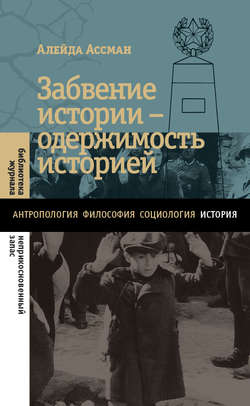
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Алейда Ассман. Забвение истории – одержимость историей
Предисловие к русскому изданию
Формы забвения [2]
Предисловие
Скрещение памятования и забвения
Техники забвения
Стирание
Прикрытие
Сокрытие
Умолчание
Переписывание (палимпсест)
Игнорирование
Нейтрализация
Отрицание
Утрата
Подходы к проблеме и работы предшественников
Семь форм забвения
Автоматическое забвение: материальное, биологическое, техническое
Сберегающее забвение – вхождение в архив
Селективное забвение – фокусировка и значение рамок памяти
Карающее (damnatio memoriae) и репрессивное забвение
Охранительное и совиновное забвение для защиты преступников
Конструктивное забвение – tabula rasa на службе новых начал в политике и биографиях
Терапевтическое забвение – оставить бремя прошлого позади
Резюме
Семь примеров
(Не)видимость памятников: Музиль, Алёша и Карл Люгер
Музиль
Алёша
Карл Люгер
Забыть Ленина – об исчезновении памятников и исторических дат
Памятники Ленину
От межнационального Советского Союза к российской нации
Ленинленд
Лёвен, Сараево, Пальмира – вандализм и разрушение материального культурного наследия
Забытая Первая мировая война
Библиотека Лёвена
Сараево
Пальмира
В тени Холокоста – Армения, гереро и нама: геноциды в начале ХХ века
На полпути между памятованием и забвением: терминологические споры и дипломатическое лавирование
Армянский геноцид: травма и память
От геноцида к мнемоциду
Армянский геноцид как часть немецкой истории
Уничтожение племен гереро и нама – первый геноцид ХХ века
Настоящее и будущее колониального прошлого
Накба и Холокост – палестинские места памяти в Израиле
Пространство и забвение
Земля и три нарратива
«Зохрот»: памятование в виде экскурсий по городу
Забыть или помнить
Удаление краеугольного камня: случай Ханса Роберта Яусса и университета Констанц
Фаза первая: коммуникативное замалчивание с 1960-х до 1980-х годов
Фаза вторая: нарушение молчания в 1980-е и 1990-е годы
Фаза третья: удаление краеугольного камня (2015–2016)
Право на забвение
Проблемы и стратегии забвения
От забвения к памятованию
Новая структура времени?
Хранить и помнить
Заключение
1998 – между историей и памятью [156]
Введение
История в памяти
Воспоминание как возбудитель
Превращение настоящего в прошлое
История памяти
Три формы памяти
Коммуникативная память: индивидуум и поколение
Коллективная память: победители и побежденные, жертвы и преступники
Культурная память: институты, медиа, интерпретации
Ключевые слова дискуссии
Финальная черта
Нормализация
Позитивный и негативный национализм
Моральная дубина
Инструментализация
Ритуализация
Вина и совесть
Стыд, позор, бесчестие
Стыд и вина – две культуры?
1945 – Слепое пятно немецкой мемориальной истории
Час ноль – освобождение или поражение?
Новый человек – маска или характер?
Коллективная вина – немецкая травма?
Томас Манн: «Наш позор предстал теперь глазам всего мира»
Карл Ясперс: «Это ваша вина!»
Эрих Кёстнер: «О чем нельзя молчать и невозможно говорить»
Ойген Когон: «Голос совести не проснулся»
Ханс Шнайдер/Шверте: «Это потрясло меня до глубины души»
Поворотные моменты немецкой мемориальной истории
История в памяти. От индивидуального опыта к публичному инсценированию[360]
Предисловие
Введение. немецкая история – долгая или короткая?
История как прогресс и история как память
Бореровский идеал новой национальной истории
Три измерения мемориальной культуры
Воплощенная история – о динамике поколений
Поколения – «водяной кирпич»
Поколение 45-го года
Хельмут Шельски – портрет скептического поколения
Сцепления между скептическим поколением и поколением 68-го года
Прощание с военным поколением – публичные уроки истории
Расставание с «шестидесятниками»: поколенческие идентичности и эпохальные переломы
Малый бревиарий поколений: обзор семи поколений ХХ века
Резюме
История в семейной памяти: личный взгляд на мировую историю
Начало и конец, разрыв и преемственность
От «отцовской литературы» к семейному роману
Дагмар Леопольд: «После войн»
Штефан Ваквиц: «Невидимая земля»
Резюме
История в публичном пространстве: архитектура как носитель памяти
Послевоенное восстановление и «Новая родина»
Бонн – музеализация временной столицы
Берлин – город как палимпсест
Борьба за новый центр
Восстановление и реконструкция
Пруссия как национальный символ
Дебаты о берлинском Городском дворце
Резюме
Инсценирование истории: музеи и медиальные презентации
Выставки и музеи
Возвращение (региональной) истории: Баден-Вюртемберг под знаком Гогенштауфенов
От региональной к европейской истории: Священная Римская империя германской нации
Национальная история в европейских рамках: бегство и изгнание
Три основные формы исторической репрезентации: нарратив, экспонирование, инсценирование
Магия вещей
О статусе экспонатов
Ретрокультура и волны ностальгии
Инсценирование истории
Немецкая история в (голливудских) кинофильмах
Арены истории: инсценирования на местах исторических событий
Два берлинских арт-проекта Шимона Атти и Софи Калле
Проект «Без границ» пограничного Хельмштедта
Айпод в качестве гида: психологический фильм в Йене – Каспеде и Гузене
«Живая история»: инсценирование истории как перформанс
Перспективы: переизобретение нации
Отрывок из книги
Среди нынешних потрясений, кризисов и конфликтов утреннее радио (25 июня 2019 года) порадовало хорошей новостью: «После пятилетнего перерыва России возвращают право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы». К новости добавлено напоминание: «Совет Европы со штаб-квартирой в Страсбурге является крупнейшей межгосударственной организацией на европейской территории. Созданный семьдесят лет назад, он объединяет 47 стран-участниц. Совет Европы следит за соблюдением прав 830 миллионов граждан».
Обычно СМИ стремятся возбудить людей, для чего предпочитают сообщения, вызывающие шок и тревогу. Но, судя по утренней новостной программе, дела могут обстоять и иначе. Отрадно слышать, что процесс эскалации противостояния способен пойти в обратном направлении. Чем же так важна сегодняшняя новость? Она свидетельствует о том, что полувековые усилия по достижению разрядки напряженности в отношениях между Востоком и Западом не были напрасными. Заключительный акт Хельсинкского совещания, подписанный в 1975 году, изменил политический климат Европы. Отныне политики сделали ставку не на конфронтацию и устрашение, а на меры, формирующие взаимное доверие. Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали тридцать пять стран Восточного и Западного блоков. Этот акт обеспечивал надежность существующих границ и соблюдение прав человека. Не являясь международным договором, он содержал добровольно взятые на себя обязательства государств-участников, что позволяло политикам работать в условиях доверия и безопасности и предоставляло гражданам новые пространства свободы для мыслей и действий.
.....
Для Ницше, как и для Ханны Арендт, тема активной деятельности тесно связана с вопросом забвения. Для Арендт активная деятельность невозможна без забвения, однако она иначе определяла рамочные условия, нежели Ницше. Арендт не имела в виду личность, которая совершает решительный поступок, не жалея других и не учитывая последствий своего поступка; напротив, она имела в виду человека, которого занимает проблема непредсказуемости последствий каждого своего шага. Непреложный закон, что всякое деяние необратимо, а его последствия непоправимы, означает для Арендт, что этот закон может быть лишен силы только прощением и забвением, которые даруются человеку окружающими его людьми. В тот момент, когда я пишу эти строки в купе скорого поезда, я краем уха слышу историю из некоего офиса, где один сотрудник допустил серьезную оплошность. Реакция собеседника была такова: «Этот тип до конца жизни не сумеет загладить свою вину». Вероятно, подобную ситуацию подразумевала Арендт, когда писала: «Не будь у нас надежды на прощение и отпущение вины за содеянное, вся наша способность к действию оказалась бы парализована единственным проступком, от которого мы уже никогда не смогли бы оправиться; мы бы навсегда остались жертвой его последствий, подобно ученику чародея, забывшему волшебное слово, снимающее заклятье»[33]. Активная деятельность возможна в социальном контексте лишь тогда, когда ответственность человека ограничена и существует надежда, что негативные последствия, сопряженные с совершенным деянием, будут прощены и забыты.
Ницше постоянно чествуется в качестве первого теоретика позитивного забвения. Однако защитники забвения существовали и до него. Ранее уже упоминался Ральф Уолдо Эмерсон, американский философ, которым восхищался Ницше[34]. Другим его предшественником был Монтень. Подобно тому как Ницше высмеивал антиквара, беспорядочно собирающего фрагменты прошлого без всякого внимания к критериям отбора и значимости артефактов, Мишель де Монтень критиковал педанта, демонстрируя на этом примере порочность безудержного всезнания: «Голова, забитая всякой всячиной, не становится остроумнее и живее <…> Наряду с растением, поливаемым слишком часто, или лампой, которая гаснет из-за избытка масла, ум тоже страдает от чересчур усердной учебы»[35].
.....