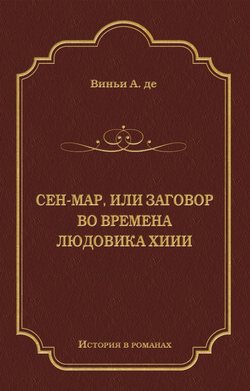Читать книгу Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII - Альфред де Виньи - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава I
Проводы
ОглавлениеFare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee well.
Lord Byron
Прощай, и если навсегда,
То навсегда прощай…
Байрон
Знаком ли вам край, который прозвали садом Франции, край, где так легко дышится среди зеленеющих равнин, орошаемых полноводной рекой? Если вам доводилось путешествовать летней порой по прекрасной Турени, вы долгое время с восторгом следовали по берегу тихой Луары и не могли решить – какому из ее берегов отдать предпочтение, чтобы там забыться вдали от людей возле любимого существа. Когда едешь вдоль медлительных желтых вод прекрасной реки, невозможно оторвать взгляд от очаровательных уголков, разбросанных по правому берегу Долины со множеством уютных белых домиков, вокруг которых раскинулись перелески и холмы, то покрытые желтеющими виноградниками, то усыпанные белыми цветами вишневых садов, старинные стены, увитые молодой жимолостью, сады с кустами роз, над которыми вдруг возносится стройная башенка, – все это напоминает о тучности земли, о древности здешних построек и внушает сочувствие к труду местных предприимчивых жителей. Все пошло им на пользу; любя свой прекрасный край, единственную французскую провинцию, на которую никогда не ступала нога иноплеменного завоевателя, они, видимо, искони заботились о том, чтобы ни малейший клочок земли, ни малейшая песчинка не пропадали зря. Вы думаете, в этой древней полуразрушенной башне живут только отвратительные ночные птицы? Нет. Заслышав топот лошадей, из-за густого плюща, побелевшего от придорожной пыли, высовывает головку улыбающаяся девушка; когда вы поднимаетесь на холм, ощетинившийся виноградными лозами, легкий дымок вдруг оповещает вас о том, что у ваших ног находится печная труба, – оказывается, что даже скала обитаема и что семьи виноградарей ютятся в ее глубоких недрах, где их по ночам укрывает кормилица-земля, которую они заботливо обрабатывают днем. Славные туренцы просты, как их жизнь, ласковы, как воздух, которым они дышат, и крепки, как могучая почва, которую они возделывают. На их смуглых лицах не видно ни холодной неподвижности жителей севера, ни излишней живости южан; в их облике, как и в их характере, есть нечто простодушное, как в истинном народе Святого Людовика[1]: темно-русые свои волосы они все еще носят длинными, зачесывая их за уши, – как на каменных изваяниях наших древних монархов; говорят они на чистейшем французском языке, не растягивая и не глотая слова; колыбель французского языка здесь, рядом с колыбелью монархии.
Зато левый берег Луары кажется внушительнее: вдалеке виднеется Шамборский замок, синие крыши и маленькие купола его напоминают обширный восточный город; в стороне – замок Шантлу, простерший в небе свою изящную пагоду. Неподалеку от этих дворцов более строгое сооружение влечет к себе взор путешественника своим великолепным местоположением и массивным обликом: это Шомонский замок. Воздвигнутый на берегу Луары, на самом возвышенном месте, он опоясывает широкую вершину холма толстыми стенами с огромными башнями; башни кажутся еще выше благодаря аспидным колокольням, придающим зданию монастырский, церковный вид, который присущ всем нашим древним замкам и сообщает пейзажам большинства провинций более величественный характер. Это старинное поместье окружено темными густыми деревьями, которые издали напоминают перья на шляпе короля Генриха; у подножия холма, на берегу, раскинулась живописная деревня, и кажется, будто ее белые домики поднимаются из золотого песка; деревня соединена с замком, который оберегает ее, узкой тропинкой, вьющейся среди скал; на полпути между замком и деревней стоит часовня: направляясь к ее алтарю, сеньоры спускались вниз, а крестьяне поднимались вверх, – это место равенства, как бы нейтральный городок между великолепием и нищетой, не раз воевавшими друг с другом.
Здесь-то, в июньский полдень 1639 года, когда с башни старинного замка, как всегда, прозвонил колокол, сзывая его обитателей к обеду, произошло отнюдь не обычное событие. Многочисленная челядь заметила, что голос маркизы д’Эффиа, когда она читала утреннюю молитву в присутствии собравшихся, звучал не столь уверенно, что на глаза ее набегали слезы, а траурное одеяние было еще строже. И ее слуги, и слуги-итальянцы герцогини Мантуанской, которая временно жила тогда в Шомоне, с удивлением заметили, что в замке готовятся к проводам. Старый слуга маршала д’Эффиа, скончавшегося полгода тому назад, вновь надел сапоги, которые до этого решил не надевать больше никогда. Этот славный малый, по имени Граншан, неизменно сопровождал главу семьи во всех походах и в деловых поездках; в одних он был его оруженосцем, в других – секретарем; он недавно возвратился из Германии и сообщил жене и детям подробности кончины маршала, который умер у него на руках в Луцельштейне; он принадлежал к числу тех преданных слуг, которые стали редки во Франции, – такие слуги горюют горестями своих господ и радуются их радостям, мечтают о женитьбе молодых хозяев, чтобы воспитывать малолетних отпрысков, бранят детей, а иной раз и отцов, жертвуют ради них жизнью, в годины смут служат им без жалованья и работают, чтобы их прокормить, в спокойные времена всюду их сопровождают, а на обратном пути, завидев замок, говорят: «Вот наши виноградники». У него было мужественное, очень смуглое незаурядное лицо и серебристо-седые волосы; несколько еще не побелевших прядей, как и густые брови, придавали ему на первый взгляд чуть суровый вид; но это первое впечатление смягчалось незлобивым выражением глаз. Голос его, однако, был грубым. В тот день он очень торопил с обедом и лично распоряжался челядью, одетой, как и он сам, во все черное.
– Живее, живее, – говорил он, – подавайте обед, а Жермен, Луи и Этьен пусть седлают своих коней; нам с господином Анри к восьми часам надо быть далеко отсюда. А вы, господа итальянцы, доложили вашей молодой госпоже? Бьюсь об заклад, что она сидит и читает со своими дамами где-нибудь в парке или на берегу реки. Она всегда приходит к столу после первой перемены, чтобы ради нее все встали со своих мест.
– Дорогой Граншан, не говорите так о герцогине, – шепотом сказала проходившая мимо молодая горничная, – она чем-то очень расстроена и, вероятно, не выйдет к обеду. Santa Maria![2] Мне вас так жаль! Выезжать в пятницу, тринадцатого числа, да еще в день святых великомучеников Гервасия и Протасия! Я все утро молилась за господина де Сен-Мара, но, признаться, никак не могла отогнать от себя этих страхов; а госпожа моя, хоть и знатная дама, того же мнения, что и я; поэтому не делайте вида, будто вас это не касается.
Тут молодая итальянка заметила, что широкие двери гостиной распахнулись, и это так испугало ее, что она птичкой порхнула через большую столовую и скрылась в коридоре.
Граншан не обратил внимания на ее слова, так как был всецело занят приготовлениями к обеду; он выполнял важные обязанности мажордома и строго посматривал на слуг, проверяя, все ли они на местах; когда обитатели замка один за другим вошли в столовую, сам он стал за креслом старшего сына хозяев; за стол село одиннадцать человек – мужчин и женщин. Последней вошла маркиза под руку с красивым, пышно одетым стариком, которого она посадила слева от себя. Она поместилась в большое золоченое кресло во главе длинного прямоугольного стола. Другое кресло, несколько пышнее орнаментированное, стояло справа от нее, но оно оставалось пустым. Молодому маркизу д’Эффиа, занявшему место напротив матери, полагалось разделять с нею обязанности хозяина дома; ему было не более двадцати лет, и лицо его казалось незначительным; серьезность и изысканные манеры юноши обличали в нем общительный характер – и только. Его сестра, четырнадцатилетняя девушка, два провинциальных дворянина, три молодых итальянца из свиты Марии Гонзаго (герцогини Мантуанской), компаньонка, гувернантка маршальской дочери и местный аббат, старый и совсем глухой, – вот и все общество. Место слева от старшего сына тоже оставалось незанятым.
Перед тем как сесть, маркиза перекрестилась и вслух прочитала Benedicite[3]; остальные также осенили себя крестом – кто широким движением, кто только на груди. Этот обычай сохранился во многих французских семьях вплоть до революции 1789 года; кое-кто блюдет его и сейчас, но больше в провинции, чем в Париже, и не без некоторого смущения и ссылки на доброе старое время; причем, когда это делается при постороннем, люди улыбаются, как бы извиняясь: ведь и хорошее вызывает краску смущения.
Маркиза была женщина величественная, с прекрасными большими синими глазами. На вид ей не было и сорока пяти лет; но горе надломило ее, она ступала медленно и говорила с трудом, а если ей случалось повысить голос, она затем на мгновение закрывала глаза, склоняла голову и прижимала руку к груди, как бы умеряя острую боль. Поэтому она была рада, что гость, сидевший слева от нее, по собственному почину завладел разговором и с невозмутимым хладнокровием поддерживал его в течение всей трапезы. То был престарелый маршал де Басомпьер; он был совсем седой, но сохранил удивительную живость и моложавость; в его благородных, изысканных манерах, как и в одежде, было нечто от старомодного щегольства, – он носил брыжи а-ля Генрих IV и фестончатые манжеты, по моде минувшего царствования, что в глазах придворных франтов являлось непростительным чудачеством. Теперь такой наряд нам кажется не более странным, чем многое другое; но так уж повелось, что в любую эпоху потешаются над привычками отцов, и лишь на Востоке, кажется, не подвержены этому заблуждению.
Стоило только одному из итальянцев спросить у маршала, что он думает об отношении кардинала к герцогине Мантуанской, как старик воскликнул со свойственной ему непринужденностью:
– Ах, сударь, у кого вы спрашиваете? Мне ли уразуметь новые порядки, которым теперь подчинена Франция? Нам, старым соратникам покойного короля, непонятен язык, на котором ныне изъясняется двор, а ему непонятен наш язык. Да что я! Теперь в нашей унылой стране вообще не говорят, при кардинале все предпочитают хранить молчание; этот надменный выскочка[4] взирает на нас как на древние фамильные портреты да время от времени рубит кому-нибудь из нас голову, но девизы наши, к счастью, остаются. Не так ли, дорогой Пюи-Лоран?
Гость, к которому обратился маршал, был почти его ровесник; но, как человек более сдержанный и осторожный, он в ответ пробормотал нечто невнятное, однако знаком обратил внимание маршала на то, как помрачнела хозяйка дома, когда он напомнил о недавней кончине ее супруга и непочтительно отозвался об ее друге, министре; но это было всуе – ибо Басомпьер, довольный полуодобрением, залпом осушил большой бокал вина, которое он в своих «Мемуарах» расхваливает как средство против чумы и осторожности, откинулся назад, предоставляя лакею снова наполнить бокал, после чего еще удобнее устроился в кресле и пустился в разглагольствования:
– Да, все мы здесь лишние; намедни я это сказал моему другу герцогу де Гизу, которого они совсем разорили. Они отсчитывают минуты, которые нам осталось жить, и трясут песочные часы, чтобы время шло поскорее. Когда господин кардинал замечает, что где-нибудь собрались три-четыре видные фигуры из числа преданных покойному королю, он сознает, что ему не под силу сдвинуть с места эти железные монументы и что тут требуется рука великого человека; он спешит пройти мимо и не решается помешать нам, ибо мы-то его не боимся. Ему все кажется, что мы затеваем заговор; да вот и сейчас, говорят, речь идет о том, чтобы запрятать меня в Бастилию.
– Что же вы не уезжаете, господин маршал, чего ждете? – спросил итальянец. – Только Фландрия, кажется мне, может служить вам убежищем.
– Ах, сударь, вы меня плохо знаете. Вместо того чтобы бежать, я был у короля перед его отъездом и сказал, что прибыл для того, чтобы избавить от труда меня разыскивать, и что если бы я знал, куда он собирается меня упрятать, то сам бы в то место отправился, дабы не пришлось меня туда везти. Он был ко мне очень добр, как я и ожидал, и сказал: «Неужели, старый друг, ты мог подумать, что у меня такие намерения? Ты же знаешь, я люблю тебя».
– Поздравляю, дорогой маршал, – сказала госпожа д’Эффиа ласково, – по этим словам я узнаю доброту короля, он помнит, как любил вас его отец, покойный король; кажется, он даже даровал вам все, о чем вы просили для ваших близких? – добавила она не без умысла, чтобы он сказал еще что-нибудь в похвалу королю и перестал столь громогласно выражать неудовольствие.
– Что и говорить, сударыня, – продолжал маршал, – Франсуа де Басомпьер лучше, чем кто-либо, ценит его достоинства; я буду до конца верен ему, ибо был душою и телом предан его отцу; и клянусь, что, по крайней мере с моего согласия, ни один из членов моей семьи не нарушит своего долга по отношению к королю Франции. Хотя Бестейны и были иностранцы-лотарингцы, все же, черт возьми, рукопожатие Генриха Четвертого навсегда завоевало нас: самым большим моим горем было то, что мой брат умер, служа Испании, и я еще недавно написал племяннику, что лишу его наследства, если он перейдет к императору, как разнесся о том слух.
Один из дворян, до сих пор не вымолвивший ни слова, но выделявшийся своим нарядом со множеством лент, бантов и шнурков, а также орденом святого Михаила, черная лента которого виднелась у него на шее, кивнул головой и заметил, что именно так должен рассуждать каждый верноподданный.
– Право же, господин де Лоне, вы сильно ошибаетесь, – возразил маршал, которому вспомнились предки, – люди нашего круга могут быть подданными только по велению сердца, ибо по милости Божьей мы родились такими же полновластными сеньорами своих земель, как король – сеньор своих. Когда я приехал во Францию, у меня не было иных намерений, как только развлекаться здесь вместе с моими приближенными и пажами. Я замечаю, что чем дальше, тем больше у нас об этом забывают, особенно при дворе. Но вот входит молодой человек, и весьма кстати – он послушает меня.
Действительно, дверь отворилась, и вошел довольно статный юноша; он был бледен, волосы у него были темные, глаза черные, он казался грустным и рассеянным: то был Анри д’Эффиа, маркиз де С е н-М а р (имя это происходило от названия родового имения); костюм на нем и короткий плащ были черные; кружевной воротничок спускался на грудь; маленькие сапоги с широким раструбом и со шпорами так стучали по каменным плитам гостиной, что шаги его слышались издалека. Он направился прямо к госпоже д’Эффиа, отвесил глубокий поклон и поцеловал ей руку.
– Итак, Анри, лошади уже оседланы? – спросила она у него. – В котором часу вы уезжаете?
– Тотчас же после обеда, матушка, если позволите, – ответил он с церемонной почтительностью, в духе времени.
Затем он подошел к господину де Басомпьеру, поздоровался с ним и занял место слева от старшего брата.
– Итак, вы уезжаете, дитя мое, – сказал маршал, продолжая есть с аппетитом, – вы едете ко двору; в наши дни это скользкая стезя. Мне жаль вас: двор не остался таким, каким был прежде. Раньше он был просто гостиной короля, где король принимал друзей, равных ему по рождению: дворян из знатных семей, пэров, которые посещали его, чтобы засвидетельствовать свою любовь и преданность; они играли с ним в карты, сопутствовали ему в увеселительных прогулках и ничего от него не получали, кроме позволения повести за собою вассалов и вместе с ними сложить голову на королевской службе. Почести, которых удостаивался знатный человек, не преумножали его богатства, потому что за эти почести он расплачивался из собственной мошны; каждый раз, когда я получал чин, мне приходилось продать какое-нибудь имение; звание полковника швейцарских стрелков обошлось мне в четыреста тысяч экю, а ради крестин ныне здравствующего короля я заказал себе платье в сто тысяч франков.
– Однако согласитесь, что никто этого от вас не требовал, – сказала хозяйка дома, рассмеявшись, – о великолепии вашего одеяния, расшитого жемчугом, мы слышали; но я бы очень сожалела, если бы и теперь была такая мода.
– Не беспокойтесь, маркиза, времена былой роскоши уже не вернутся никогда. Конечно, мы совершали тысячи безрассудств, но они доказывали нашу независимость; будьте уверены, тогда у короля не отнимали слуг и слуги были связаны с ним лишь узами любви, но король венчал их коронами герцогов и маркизов, где алмазов сияло не меньше, чем на монаршем венце. Излишне доказывать, что тогда честолюбие не могло захватить все сословия, ибо такие расходы были по плечу лишь людям богатым, а золото не валяется под ногами. Знатные роды, которые теперь с таким ожесточением уничтожаются, не страдали честолюбием, не требовали от правительства никаких должностей и зачастую сохраняли место при дворе только по праву рождения, существовали сами по себе и, подобно одной из таких семей, говорили: «Королем я не могу быть, герцогом не желаю, я – Роган». Так было со всеми семьями, которые довольствовались своей знатностью, и сам король однажды подчеркнул это в письме к своему другу: «Для дворян вроде нас с вами – деньги не имеют значения».
– Однако, маршал, такая независимость не раз порождала междоусобные войны и бунты, например, бунт господина де Монморанси, – холодно и подчеркнуто вежливо прервал его господин де Лоне, вероятно не без намерения подзадорить старика.
– Черт возьми! Сударь, мне прямо-таки нестерпимо слышать такие суждения! – воскликнул пылкий маршал, подскочив в кресле – Все эти бунты и войны, сударь, ничуть не умаляли основных законов государства и не более расшатывали трон, чем чья-либо дуэль. Среди всех этих крупных вожаков партий не нашлось бы ни одного, который в случае удачи не положил бы свою победу к ногам монаха, ибо все они знали, что остальные дворяне их ранга сразу же отступились бы от них, как только оказалось бы, что они враги законного государя. Все эти люди поднимали оружие лишь против крамолы, не против королевской власти, и после междоусобицы все снова становилось на свое место. А вы что сделали, подавляя нас? Вы отрубили руку у королевской власти и ничего не даете взамен. Да, теперь я не сомневаюсь, кардинал-герцог до конца осуществит свое намерение, знатные семьи покинут свои земли, лишатся своих поместий, а тем самым лишатся и своего могущества; королевский двор теперь не что иное, как дворец, где все чего-то добиваются. Потом, когда при дворе останется только королевская свита, он превратится просто в прихожую; знатные имена послужат к облагораживанию пошлых должностей; но кончится тем, что в силу неумолимости обратного воздействия должности опошлят знатные имена. Когда дворянство лишится семейных очагов, его могущество превратится в ничто и будет зависеть только от полученных должностей, и если народ, на который дворянство уже не будет иметь никакого влияния, вздумает взбунтоваться…
– Какой вы сегодня мрачный, маршал! – прервала его маркиза. – Надеюсь, что ни я, ни мои дети не доживем до этого. Я слушаю вас и не узнаю вашей обычной жизнерадостности; а я-то надеялась, что вы напутствуете моего сына. А с вами что, Анри? Почему вы такой рассеянный?
Взгляд Сен-Мара был обращен к большому окну столовой; он с грустью смотрел на великолепный пейзаж, расстилавшийся перед его глазами. Солнце сияло во всем своем великолепии и заливало золотом и изумрудом песчаный берег Луары, деревья и лужайки; небо было лазурное, река – прозрачно-желтая, островки – ослепительно зеленые; за их округлыми очертаниями виднелись высокие треугольные паруса торговых судов – словно флот, притаившийся в засаде.
«О природа, природа! – думал он. – Прекрасная природа, прощай! Вскоре мое сердце утратит непосредственность и перестанет понимать тебя, и тогда ты будешь нравиться только моему взору; сердце это уже сгорает от глубокой любви, а рассказы о столкновениях человеческих интересов зарождают в нем какую-то неведомую тревогу; итак, надо ступить в этот лабиринт, я погибну в нем, быть может, но погибну ради Марии…»
Тут он очнулся, услышав обращение матери, и сказал, чтобы не обнаружить слишком ребяческое сожаление о разлуке с прекрасными родными местами и семьей:
– Я думал, сударыня, о том, по какой дороге лучше ехать в Перпиньян, а также о дороге, которая снова приведет меня к вам.
– Не забудьте, что вам надо ехать на Пуатье и по пути повидаться в Лудене с вашим бывшим наставником, добрым аббатом Кийе; он преподаст вам полезные советы относительно двора, он в отличных отношениях с герцогом Буйонским, и даже если он вам не будет особенно полезен, все равно вы должны его почтить вниманием.
– Так, значит, мой друг, вы едете на осаду Перпиньяна? – вновь заговорил старый маршал, которому уже начинало казаться, что он слишком долго пребывает в молчании. – Какое это счастье для вас! Черт возьми! Осада! Вот прекрасное начало; когда я прибыл ко двору, чего бы я ни дал, только бы участвовать в осаде вместе с покойным королем; я предпочел бы, чтобы меня выпотрошили в бою, а не на турнире, как это случилось. Но тогда было мирное время, и, чтобы не огорчать семью своим бездельем, мне пришлось отправиться в Венгрию воевать с турками. Как бы то ни было – от души желаю, чтобы король встретил вас так же ласково, как меня встретил его отец. Конечно, король – человек доблестный и добрый, но его, к сожалению, приучили к холодному испанскому этикету, который служит помехой сердечным порывам; недоступным видом и ледяным обращением он сковывает и самого себя, и окружающих; что касается меня, признаюсь, я все жду хоть краткой оттепели, но тщетно. При жизнерадостном и простом Генрихе мы привыкли к другим манерам, и нам, по крайней мере, не возбранялось говорить, что мы любим его.
Сен-Мар смотрел в глаза Басомпьеру, видимо, для того, чтобы заставить себя слушать его рассуждения, потом спросил, чем отличалась речь покойного короля.
– Живостью и прямотой, – ответил тот. – Однажды, вскоре после моего приезда во Францию, я в Фонтенбло играл с ним и герцогиней де Бофор, ибо, как он сказал, ему хотелось выиграть у меня мои червонцы и прекрасные португалеры. Он спросил, что меня побудило приехать во Францию. «По правде говоря, государь, – ответил я ему откровенно, – я приехал не для того, чтобы поступить к вам на службу, а просто для того, чтобы некоторое время пожить при вашем дворе, а затем – при испанском; но вы так пленили меня, что я уже никуда не поеду, а если вам угодно принять меня на службу, я готов вам служить до последнего вздоха». Тут он обнял меня и сказал, что лучшего покровителя мне и не найти, – такого, который полюбил бы меня больше, чем он; увы!., я в этом вполне убедился… и я, со своей стороны, всем пожертвовал ради него, вплоть до любви, и готов был бы принести и большую жертву, если бы было что-либо большее, чем отказ от мадемуазель де Монморанси.
Глаза маршала увлажнились; зато молодой маркиз д’Эффиа и итальянцы переглянулись и не могли сдержать улыбку при мысли о том, что теперь принцесса де Конде далеко не молода и не красива. Сен-Мар поймал их взгляды и тоже улыбнулся, но горькой улыбкой. «Неужели правда, – думал он, – что у любви такая же судьба, как и у моды, и достаточно нескольких лет, чтобы и платья, и чья-то любовь стали посмешищем? Счастлив тот, кто не переживет своей юности, своих мечтаний и унесет в могилу все свое сокровище!»
Но, сделав над собою усилие, он прервал поток этих печальных размышлений и сказал, чтобы бравый маршал не заметил насмешливого выражения на лицах гостей:
– Значит, с королем Генрихом разговаривали очень непринужденно? Быть может, в начале царствования ему необходимо было ввести такой тон, а когда его власть упрочилась, он изменился?
– Нет, нет. Всегда, до последнего дня наш великий король оставался тем же; он не стеснялся быть человеком и с людьми разговаривал мужественно и ласково. Господи! Да я будто сейчас вижу, как он в карете целует герцога де Гиза в самый день своей смерти. Король обратился ко мне с какой-то остроумной шуткой, а герцог ответил ему: «По-моему, вы один из самых приятных людей на свете, и судьба предназначила нас друг для друга, ибо будь вы простым смертным, я во что бы то ни стало взял бы вас к себе на службу, но раз по воле Божьей вы родились могущественным монархом, мне поневоле пришлось служить вам». О великий муж! Как оправдалось твое предсказание! – воскликнул Басомпьер со слезами на глазах, быть может возбужденный уже не первым бокалом вина. – «Когда вы меня лишитесь – тогда узнаете мне истинную цену».
Во время этого рассказа присутствующие вели себя по-разному соответственно своему положению в обществе. Один из итальянцев делал вид, будто занят беседой с дочкой маркизы, и оба они втихомолку смеялись; другой итальянец ухаживал за глухим стариком аббатом, который приложил руку к уху, чтобы лучше слышать, и был единственным из гостей, кто внимательно слушал маршала; Сен-Мар, вызвав Басомпьера на воспоминания, вновь впал в меланхолическое раздумье, подобно тому как игрок смотрит по сторонам, пока брошенный им мяч не придет обратно; его старший брат с прежней невозмутимостью исполнял обязанности хозяина; Пюи-Лоран с озабоченным видом глядел на маркизу: он был всецело предан герцогу Орлеанскому и опасался кардинала, а у хозяйки дома вид был расстроенный и тревожный. Не раз неосмотрительно оброненное слово напоминало ей то о смерти мужа, то об отъезде сына, а еще чаще ее охватывало беспокойство за Басомпьера – как бы он не сказал чего-нибудь, что могло бы ему повредить, и она время от времени толкала его локтем, смотря на господина де Лоне, которого мало знала, но не без некоторых оснований считала сторонником министра; однако такому человеку, как маршал, всякие предостережения были бесполезны; казалось, он их не замечает; наоборот, он говорил громким голосом, умышленно поворачивался к этому дворянину, и именно к нему была обращена его речь, подкрепленная смелыми уничтожающими взглядами. Зато де Лоне старался казаться безразличным и держался с подчеркнутой вежливостью, как бы со всем соглашаясь, – и так продолжалось до той минуты, когда распахнулись настежь двери и слуга доложил о герцогине Мантуанской.
Застольный разговор, который мы здесь подробно передали, все же длился недолго, и, когда прибытие Марии Гонзаго принудило всех подняться со своих мест, обед еще не дошел до середины. Герцогиня была невысокого роста, но превосходно сложена, и хотя глаза и волосы у нее были совершенно черные, от нее веяло ослепительной свежестью. Маркиза слегка приподнялась, отдавая дань ее положению, и поцеловала ее в лоб, отдавая должное ее доброте и цветущему возрасту.
– Мы долго ждали вас сегодня, дорогая Мария, – сказала она, усаживая герцогиню рядом с собой. – Вы останетесь со мной, чтобы заменить мне уезжающего сына.
Молодая герцогиня покраснела и потупилась, чтобы скрыть заплаканные глаза, затем робким голосом произнесла:
– Так и должно быть, сударыня, сами вы заменяете мне мать.
Сен-Мар, сидевший на другом конце стола, побледнел от брошенного ею взгляда.
Появление герцогини Мантуанской изменило направление разговора; он перестал быть общим, каждый вполголоса стал беседовать с соседом. Один только маршал время от времени произносил несколько слов, вспоминая великолепие прежнего двора, или турецкую войну, или турниры и скупость нынешнего двора; но, к его великому сожалению, никто не поддерживал его. Когда часы пробили два удара и все уже собрались выходить из-за стола, на большом дворе появилось пять лошадей; на четырех из них сидели закутанные в плащи и хорошо вооруженные слуги, пятую лошадь, вороную и очень резвую, держал под уздцы старик Граншан – то был конь его молодого хозяина.
– Вот ваш боевой конь! – воскликнул Басомпьер. – Он оседлан и взнуздан. Что ж, молодой человек, теперь вам остается только сказать, как сказал старик Маро:
Прощай же, двор, прощайте, все вы,
Прощайте, дамы, жены, девы!
Прощай, увы, на долгий срок
Жизнь без трудов и без тревог!
Прощайте, танцы и фигуры,
Кадансы, такт, и па, и туры,
Прощай, и скрипка и гобой!
Нас барабаны кличут в бой![5]
Эти старинные стихи и самый облик маршала рассмешили весь стол, кроме трех человек.
– Господи Иисусе! Мне кажется, – продолжал он, – будто и мне, как ему, только семнадцать лет; он вернется к вам, сударыня, весь в галунах; пусть его кресло до тех пор пустует!
При этих словах маркиза вдруг побледнела и, заливаясь слезами, вышла из-за стола; вслед за ней встали и все остальные; она с трудом сделала два шага и без сил опустилась в другое кресло. Сыновья, дочь и молодая герцогиня окружили ее; среди вздохов и всхлипываний, которые вдова маршала тщетно старалась сдержать, они расслышали ее слова:
– Простите!., друзья мои… это безрассудство… это ребячество… но теперь я так слаба, что не могу совладать с собой. За столом нас оказалось тринадцать, и причиною этому были вы, дорогая герцогиня. Но, с моей стороны, очень нехорошо, что я при нем показала себя такой малодушной. Прощайте, дитя мое, дайте я поцелую вас, и да хранит вас Бог! Будьте достойны своего имени и своего отца.
Потом она, смеясь сквозь слезы, как выразился Гомер, встала и отстранила его, сказав:
– Ну-ка, дайте посмотреть, каков вы верхом, прекрасный всадник!
Притихший путник поцеловал руки матери и отвесил ей низкий поклон; он склонился также, не поднимая взора, и перед герцогиней; потом почти одновременно обнял старшего брата, пожал руку маршалу, поцеловал сестру в лоб и вышел; мгновение спустя он уже сидел на коне. Все подошли к окнам, выходившим во двор; одна только госпожа д’Эффиа осталась в кресле – ей было дурно.
– Он пошел галопом, это добрая примета, – весело сказал маршал.
– Боже! – вскричала герцогиня, отпрянув от окна.
– Что такое? – испугалась мать.
– Ничего, ничего, – ответил господин де Лоне, – в воротах лошадь господина де Сен-Мара споткнулась, но он вовремя натянул поводья: вот он нам машет с дороги.
– Опять дурное предзнаменование! – проговорила маркиза, удаляясь в свои покои.
Вслед за ней разошлись и остальные – кто молча, кто тихо переговариваясь.
День в Шомонском замке прошел грустно, за ужином царило молчание.
В десять часов вечера старый маршал в сопровождении камердинера направился в северную башню, расположенную возле ворот и наиболее удаленную от реки. Было невыносимо жарко; старик распахнул окно, накинул на себя просторный шелковый халат, поставил на стол увесистый светильник и пожелал остаться в одиночестве. Окно выходило на долину, освещенную неверным светом молодого месяца; по небу тянулись тяжелые облака, и все располагало к грусти. Хотя Басомпьер по характеру своему отнюдь не был мечтателем, все же ему вспомнился разговор за обедом, и он мысленно стал перебирать свою жизнь и те печальные перемены, которые внесло в нее новое царствование, царствование, словно дохнувшее на него дыханием невзгод: смерть любимой сестры, дурное поведение наследника, утрата поместий и благоволения двора, недавняя кончина друга, маршала д’Эффиа, в комнате которого он сейчас находился, – все эти мысли исторгли у него невольный вздох; он подошел к окну, чтобы подышать свежим воздухом.
В эту минуту ему почудилось, будто со стороны леса слышится топот кавалькады, но тут пронесся порыв ветра, и маршал решил, что топот ему только померещился; потом все сразу затихло, и он тут же забыл об этом. Он еще некоторое время наблюдал за тем, как огоньки светильников мелькали в окнах лестниц и блуждали по дворам и конюшням и, наконец, гасли один за другим. Затем он снова опустился в большое, обитое штофом кресло, облокотился на стол и погрузился в размышления; вскоре он вынул из-за пазухи медальон на черной ленточке и прошептал:
– Приди, мой добрый старый государь! Приди! Побеседуй со мной, как часто беседовал когда-то; приди, великий монарх, и забудь возле меня свой двор, посмейся в обществе истинного друга; приди, великий муж, и посоветуйся со мной относительно властолюбивой Австрии; приди, непостоянный поклонник, и расскажи о искренних своих увлечениях и простодушных изменах; приди, бесстрашный воин, – крикни мне снова, чтобы я заслонил тебя в бою! Ах, почему не мог я сделать этого в Париже! Почему не принял на себя поразивший тебя удар![6] Пролилась твоя кровь, и мир лишился всех благ твоего царствования…
Слезы, капавшие из глаз маршала, затуманили стекло медальона; он стал стирать их благоговейными поцелуями, но тут дверь порывисто распахнулась, и маршал схватился за шпагу.
– Кто там? – воскликнул он в недоумении. Но он еще более изумился, когда увидел перед собою господина де Лоне; тот подошел к нему, держа шляпу в руке, и не без смущения проговорил:
– Господин маршал, сердце мое преисполнено скорби, но я вынужден объявить вам, что король мне приказал вас арестовать. У ворот вас ожидает карета и тридцать мушкетеров монсеньора кардинала-герцога.
Басомпьер не встал с кресла; в левой руке он еще держал медальон, в другой – шпагу; он с презрением протянул ее вошедшему и сказал:
– Сударь, я знаю, что зажился на свете; об этом-то я сейчас и размышлял; во имя великого Генриха я покорно вручаю эту шпагу его сыну. Следуйте за мной.
Когда он произносил эти слова, взгляд его был так тверд, что де Лоне пришел в полное замешательство; он пошел вслед за маршалом, понурив голову, словно сам был арестован этим благородным старцем, а тот, схватив факел, спустился во двор и увидел, что ворота отворены конными гвардейцами; они перепугали всех обитателей замка, но именем короля приказали соблюдать полнейшую тишину. Карета стояла наготове и помчалась, окруженная многочисленными всадниками. Маршал, сидевший рядом с господином де Лоне, задремал, убаюкиваемый покачиванием экипажа, как вдруг чей-то мощный голос крикнул кучеру: «Стой!» Но тот продолжал гнать лошадей; тогда раздался пистолетный выстрел… Карета остановилась…
– Заявляю вам, сударь, что это делается без моего участия, – сказал Басомпьер.
Он высунулся в окошко и увидел, что находится в лесу, на такой узкой дороге, что конной страже не объехать кареты, – для нападающих это было огромным преимуществом, ибо мушкетеры не могли выступить вперед; маршал старался разобраться в том, что происходит, а в это время какой-то всадник, отражая длинной шпагой удары, которые пытался нанести ему один из мушкетеров, подъехал к карете, крича:
– Выходите, выходите, господин маршал!
– Что такое! Это вы, Анри, вертопрах, так проказничаете? Господа, господа, оставьте его, это ребенок.
Тут де Лоне приказал мушкетерам отступить, и все получили возможность разглядеть друг друга.
– Что за нелегкая занесла вас сюда, – продолжал Басомпьер, – я думал, вы в Туре, а то и дальше, и исполняете свой долг, а вы вернулись, чтобы совершить такое безрассудство!
– Я вернулся сюда один не ради вас, а по секретному делу, – ответил Сен-Мар, понизив голос, – но вас везут, по-видимому, в Бастилию, следовательно, я могу быть уверен, что вы об этом никому не скажете; Бастилия – храм молчания. Однако, если бы вы захотели, – продолжал он, – я освободил бы вас из рук этих господ; кругом такой густой лес, что никакой лошади не пройти. Я узнал от одного крестьянина, что вас схватили в доме моего отца, и это – оскорбление, нанесенное нашей семье даже в большей степени, чем вам.
– Это сделано по приказу короля, дитя мое, а его волю мы должны уважать; приберегите свой пыл для служения ему, тем не менее я благодарю вас от всего сердца. Дайте руку и предоставьте мне продолжать сие милое путешествие.
Де Лоне добавил:
– Да будет мне позволено сказать вам, господин де Сен-Мар: король лично уполномочил меня заверить господина маршала, что он огорчен этой необходимостью и просит господина маршала провести несколько дней в Бастилии только из опасений, как бы его не вовлекли в какое-нибудь неправое дело.
Басомпьер ответил, громко рассмеявшись:
– Видите, друг мой, как теперь опекают молодых людей; берегитесь!
– Ну, что ж, поезжайте, – сказал Анри, – не стану разыгрывать из себя странствующего рыцаря ради тех, кому это нежелательно.
Карета помчалась дальше, а Сен-Мар тем временем углубился в чашу и глухими тропками направился в замок.
У подножия западной башни юноша остановился. Он был один – Граншан и остальные сопровождавшие его остались позади; не слезая с коня, он вплотную приблизился к стене и приподнял подъемную решетку на одном из окон нижнего этажа; такие решетки еще можно встретить в некоторых старинных зданиях.
Было за полночь, луна скрылась в тучах. Только хозяин и мог найти дорогу в такой тьме. Башни и кровли слились в одну черную громаду, которая еле выделялась на чуть более светлом небе; в заснувшем замке не было видно ни единого огонька. Сен-Мар надвинул на лоб широкополую шляпу, закутался в просторный плащ и стал тревожно ждать.
Чего он ждал? Зачем вернулся? Из-за окна послышался еле внятный шепот:
– Это вы, господин де Сен-Мар?
– Увы, кто же еще может тут быть? Кто, словно злоумышленник, подъедет к отчему дому, но не войдет в него и не попрощается еще раз с матерью? Кто, кроме меня, вернется, чтобы пожаловаться на настоящее, без надежды на будущее?
Нежный голос за окном задрожал, в нем ясно послышались слезы:
– Анри, Анри! На что вам жаловаться? Разве я не сделала больше, гораздо больше, чем было в моих силах? Разве я виновата в том, что, себе на несчастье, родилась дочерью монарха? Разве может человек выбрать себе колыбель, разве можно сказать: я хочу родиться пастушкой? Вам хорошо известно, как тягостна судьба принцесс: сердце у них похищают при рождении, всему миру известен их возраст, их уступают по договору, словно город, и им никогда не дозволяется плакать. С той поры как я знакома с вами, чего только я не делала, чтобы приблизиться к счастью и удалиться от трона. Два года я тщетно боролась против неумолимой судьбы, которая отделяет меня от вас, и против вас, который отвлекает меня от долга. Вы сами знаете, я хотела, чтобы меня сочли умершей; да что говорить – я почти желала восстания! Быть может, я благословила бы удар, который лишил бы меня титула, как я благодарила Бога, когда мой отец был свергнут с престола; но двор удивляется, королева требует меня; наши мечты развеяны, Анри; мы слишком долго грезили, пора обрести мужество и очнуться. Не вспоминайте больше эти два прекрасных года. Забудьте обо всем и помышляйте только о вашем великом намерении; живите одной-единственной мыслью, будьте честолюбивым… честолюбивым ради меня…
– Неужели все надо забыть, Мария? – ласково проговорил Сен-Мар.
Она ответила не сразу:
– Да, все, как забыла я сама. – Потом она добавила горячо: – Да, забудьте наши счастливые дни, наши долгие вечера и даже наши прогулки в лесу и у пруда, но помните о будущем; поезжайте. Ваш отец был маршалом, – станьте чем-то еще большим, коннетаблем, первым человеком при дворе. Поезжайте, вы молоды, благородны, богаты, отважны, любимы…
– Навеки? – спросил Анри.
– На всю жизнь и на веки вечные.
Сен-Мар встрепенулся и, протянув руку, воскликнул:
– Хорошо же! Клянусь Пресвятой Девой, имя которой вы носите, вы будете моей, Мария; или же голова моя скатится на эшафоте.
– О небо! Что вы говорите! – воскликнула она, высунув из окна белую ручку, чтобы пожать его руку— Нет, вы не сделаете ничего предосудительного, поклянитесь мне в этом; вы всегда будете помнить, что король Франции – ваш властелин; любите его больше всего на свете – после той, которая пожертвует ради вас всем и будет томиться, дожидаясь вас. Возьмите этот золотой крестик, держите его у сердца, на него пролилось много моих слез. Помните, что если вы когда-либо окажетесь виноватым перед королем – я буду плакать еще горше. Дайте мне кольцо, которое блестит у вас на пальце. О боже, и моя и ваша рука в крови!
– Пустяки! Эта кровь пролилась не ради вас; вы ничего не слышали час тому назад?
– Ничего; а сейчас – вы ничего не слышите?
– Нет, Мария, – только шорох ночной птицы на башне.
– Говорили о нас, я в этом уверена. Но откуда же кровь? Скажите скорей и уезжайте.
– Да, уезжаю; вот облако – оно снова дарит нам темноту. Прощайте, ангел небесный, я буду постоянно взывать к вам. Любовь влила в мое сердце честолюбие словно жгучий яд; да, я впервые чувствую, что возвышенная цель может облагородить честолюбивые помыслы. Прощайте, я еду, чтобы выполнить предначертание судьбы!
– Прощайте! Но думайте и о моей судьбе!
– Наши судьбы ничто не разъединит.
– Ничто, – воскликнула Мария, – разве что смерть!
– Больше смерти я боюсь разлуки, – сказал Сен-Мар.
– Прощайте, я трепещу, прощайте, – прозвучал нежный голос.
И над двумя еще соединенными руками стала медленно опускаться железная решетка.
Тем временем вороной конь не переставая бил копытами о землю и беспокойно ржал; взволнованный всадник пустил его в галоп и вскоре прибыл в Тур, Сен-Гасьенскую колокольню которого он увидел еще издали.
Старик Граншан встретил своего молодого господина не без воркотни, а узнав, что тот не намерен остановиться на ночлег, вовсе разошелся. Отряд сразу же отправился дальше, а пять дней спустя спокойно, без всяких приключений вошел в Луден, древний город провинции Пуату.
1
Имеется в виду король Франции Людовик IX (1226–1270).
2
Пресвятая Мария! (ит.)
3
Католическая молитва перед трапезой.
4
Речь идет о кардинале Ришелье, который по происхождению принадлежал к среднему дворянству, а не к дворянской аристократии.
5
Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, стихи даются в переводах В. Левика. (Примеч. ред.)
6
Король Генрих IV был убит католическим фанатиком Равальяком в 1610 г.