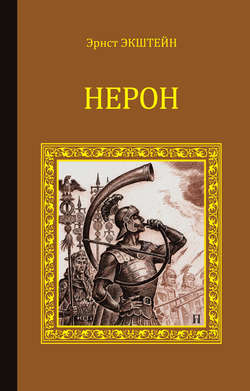Читать книгу Нерон (сборник) - Альфред Рамбо, Эрнест Лависс - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Эрнст Экштейн. Нерон
Часть первая
Глава II
ОглавлениеИмператорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.
Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.
Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.
Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы возвратить ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же, – только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.
И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека – щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые, – она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя, – повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами о общем благе. При этом, он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша…
– О чем ты задумалась, мать? – спросил император по-гречески. – Ты не примечаешь поклонов сенаторов…
– В самом деле? Я не видала никого…
– Нам встретился Тразеа Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно скрылась за занавеской.
– Тебе так показалось, – возразила Агриппина. – Хотя та рассеянность простительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности и, сказать правду, она сильно заботит меня.
– Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик? «Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!
Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.
– Тем не менее я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не примечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах, доверься моей искушенности! Допусти меня действовать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон – цезарь только по нашей милости! И если они замыслят мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!
– Клавдия? – с изумлением повторил император.
– Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.
– Сенека рассказывал мне другое, – возразил Нерон.
Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:
– Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это…
– Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..
Императрица затрепетала.
– Нисколько не догадываюсь, – отвечала она, закрывая глаза.
– Так тебя щадили, – продолжал Нерон. – Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.
– Это мне известно, – прошептала Агриппина, – но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.
– Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.
Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдалицу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:
– Как понравилась тебе белокурая девушка, просившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?
– Я не обратила на нее внимания.
– По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статую Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!
– Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удается тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть на половину восхищался так Октавией!
– Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза…
– Послушаюсь! Точно это наказание – жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!
– Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье, – сдержанно произнес император. – Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.
– Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энний.
– Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней сообразно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.
– Пустяки!
– Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условностей.
– Так Сенека и этому учит тебя? – с досадливым смехом спросила Агриппина. – Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.
– Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью, на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?
– Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежечасно рискующему забыться в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя – прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девчонке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.
Нерон улыбнулся.
– Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!
– Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? – с раздражением спросила Агриппина. – Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.
– Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повиновение советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.
– Я не знаю, какой повод имеешь ты… – начала императрица с гневом.
– Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.
– Но ведь ты видишь, – живо возразила она, – как я далека от личного честолюбия! Иначе, разве я так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как императрице, принадлежит значительная роль, которая…
– Могу себе представить, – усмехнулся Нерон. – Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.
– А если бы она и делала все это, что тут худого?
– Худого? – повторил император. – Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, Даже когда я был еще мальчиком. Полагаю поэтому, что наши взгляды одинаковы.
– А именно?
– Я не верю народным сказкам.
– Да? А чему же ты веришь?
– Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства – суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.
Агриппина долго молчала.
– Знаешь, сын мой, – сказала она наконец, – ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.
Нерон улыбнулся.
– Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это нисколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в вола Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!
Агриппина пожала плечами.
– Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта – две разные вещи.
– Истинно верующий верует и в фантазии, – возразил Нерон. – Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.
– Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя, – заметила императрица. – Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранникам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность и спокойствие ума, уменье пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет их.
– Октавия? Тихая Октавия?
– Она тиха только в твоем присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь ее чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, еще ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твое равнодушие, она давно порвала бы все.
– Это было бы самое лучшее! – задумчиво прошептал Нерон.
– Это было бы твоей гибелью! – вскричала возмущенная Агриппина. – Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменился. И так как тебе не удается роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь ее.
– Мать! Ведь мне дан был еще год сроку.
– Это слишком долго!
– Но ты дала слово.
– Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму еще ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной…
– Тогда придет конец моей весне! – вздохнул император. – Ну, мы еще поговорим об этом!
Носилки остановились перед дворцом.
Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространявшемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.