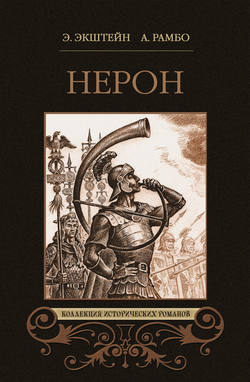Читать книгу Нерон (сборник) - Альфред Рамбо, Эрнест Лависс - Страница 8
Эрнст Экштейн. Нерон
Часть первая
Глава VII
ОглавлениеФлавий Сцевин встретил императорскую фамилию со свитой при входе в дом.
Пока императрица-мать, опираясь на руку Ацерронии, величаво выходила из носилок, рослые преторианцы медленно проходили под украшенной живописью аркой ворот. Не будь розовых гирлянд, обвивавших их шлемы и копья, шествие их походило бы на занятие неприятельской крепости.
Старый сенатор Флавий Сцевин невольно выразил удивление при таком неожиданном зрелище и заметившая это Агриппина, смеясь, сказала ему:
– Наши воины будут служить, кстати, и украшением твоего пира. Я люблю бряцание оружия под весенними цветами. Прошу тебя распорядиться людьми по твоему усмотрению. Смешай их с рабами; собери вместе при играх; приставь их в виде почетного караула к наиболее достойным из твоих гостей; ты долен распоряжаться ими. Они будут повиноваться беспрекословно.
Наполовину обманутый искусным притворством Агриппины, Флавий Сцевин старался убедить себя, что это была действительно лишь милостивая учтивость.
Скоро, однако, ему пришлось разочароваться. На роскошно округленном подбородке императрицы мелькнуло едва приметное насмешливое подергиванье, и выражение злобы убедило Флавия в том, о чем он должен был бы догадаться с самого начала.
Через своих многочисленных шпионов Агриппина знала, что Флавий Сцевин был отъявленным врагом ее властительных стремлений и что вместе с другими значительнейшими сенаторами, как Бареа Соран, Пизо и Тразеа Пэт, он даже неоднократно измышлял средства и способы к низвержению ее первенствующего влияния.
Не отступившая бы ни перед каким преступлением в защиту своего положения, – за что ручалось ее прошлое, остававшееся тайной лишь для Нерона и его супруги – Агриппина от своих противников ожидала такой же решительности и, вступая в логовище льва Флавия, она желала обеспечить себе благополучное из него возвращение.
Пока она, со свойственной ей величественной благосклонностью обратившись к супруге Флавия Метелле, осведомлялась о ее здоровье, хозяин дома приветствовал императора и юную Октавию. Обычай требовал, чтобы в подобных случаях римский цезарь целовал сенаторов. В эту пустую церемонию Нерон вложил такое теплое чувство, которое ясно доказало присутствующим его сыновнее уважение к Флавию. У кроткой Октавии Флавий Сцевин поцеловал руку и глаза его засияли при ласковом привете краснеющей императрицы. Октавия всегда была его любимицей. Он не подозревал ее страданий и считал ее союз с Нероном воплощением тихого счастья.
С горьким ожесточением Агриппина видела, что Флавий Сцевин и не думал отходить от молодой четы, когда Метелла обратилась к ней с приглашением войти в дом.
– Повелительница Агриппина, – сказала она, – если тебе угодно, войдем!
Несмотря на известное ей нерасположение Флавия, Агриппина тем не менее ожидала, что ее введет хозяин дома, а не Метелла, эта ширококостная, преждевременно состарившаяся дочь лавочника (в действительности же Метелла происходила из семьи одного из значительнейших судостроителей и судовладельцев Остии), плебейка, ребенком чинившая старые паруса, а теперь задиравшая нос, точно ей еще в колыбели была обещана обшитая пурпуром тога ее будущего супруга.
Подавив свой гнев, Агриппина заставила себя улыбнуться и величаво прошла в двери.
Обширный коринфский атриум Флавия Сцевина был уже полон блестящей толпой именитых гостей. Сенаторы с женами и дочерьми; всадники, отличившиеся на государственной службе; верховный жрец; жрец трех высших божеств, городской префект; несколько южно-италийских крупных землевладельцев; клиенты, занимавшие видное положение, – все они пестрыми группами двигались по наполовину покрытому навесом помещению.
В нескольких шагах от остиума стоял человек среднего роста, необычайно энергичной и резкой наружности. Сверкавшие умом глаза напоминали Сенеку, но в лице и в осанке выражалось гораздо более непреклонной воли, чем у государственного советника. Эта выдающаяся личность был Тразеа Пэт, суровый судья Агриппины, пламенный патриот, возлагавший все свои надежды и упования на Нерона и вынужденный видеть, как честолюбивая императрица-мать, вопреки явному и тайному противодействию, все-таки распоряжалась существеннейшими государственными делами, поощряла продажность и разврат, раздавала влиятельные должности своим жалким креатурам и даже государственного советника терпела только потому, что односторонность его философии делала молодого императора неспособным к проявлению каких бы то ни было практических способностей. При входе императрицы-матери Тразеа Пэт едва приметно наклонил голову, но на встречу молодой четы он поспешил с еще большей живостью, чем это сделал Флавий. Заключив в объятия стройную фигуру Нерона, он с благоговением трижды поцеловал его в лоб.
При виде этого благороднейшего из римлян Октавией овладело сильное волнение, грудь ее бурно вздымалась и, казалось, самообладание покинуло ее. Ее задумчиво-печальный взор скользнул по лицу супруга. Никогда еще он не был так несравненно прекрасен, и она готова была воскликнуть: «Я отдала бы все радости земные за то, чтобы в пятьдесят лет ты мог обернуться назад на такую же жизнь, какова жизнь этого Тразеа!»
После того как высокие посетители обменялись несколькими словами с избраннейшими из гостей, веселые звуки труб возвестили начало пира. Приглашенные потянулись парами в каведиум, где под темно-синим весенним небом были расставлены два длинных стола.
Вокруг дорической колоннады, на чугунных подставках горели факелы в рост человека и облака благовонного дыма мягкими волнами поднимались к уже темневшему небосклону. Наверху, на карнизе крыши, сверкали огни меньших размеров. При этом ярком освещении незачем было зажигать бронзовые лампы на роскошно убранных цветами столах. Серебряные чаши, драгоценные сосуды и изящные блюда были увиты душистыми гирляндами из роз и фиалок. Триста роскошных венков предназначались для увенчания пирующих. Лепестки роз и нарциссов усеивали пол, а колонны исчезали под зеленью плюща и аканта. Гости были размещены по местам весьма быстро благодаря проворству и ловкости главных рабов и их помощников. Из сада раздалась нежная южно-испанская мелодия, и в то же время рабы и рабыни начали разливать из этрусских кружек в матовые кубки золотое везувианское вино.
На почетном месте, во главе левого от атриума стола, восседала императрица-мать.
Справа от нее находился Афраний Бурр, слева – хозяин дома Флавий Сцевин.
Во главе второго стола сидел император между Октавией и супругой хозяина дома. Обычного, поперечного соединительного стола, на этот раз не было.
Так как одни лишь внешние стороны столов уставлены были скамьями, внутренние же, по римскому обычаю, оставались незанятыми, то Флавий и жена его Метелла не имели соседей. Ряд гостей с одной стороны заканчивался Бурром, с другой – супругой императора.
Соседом Октавии был стоик Тразеа Пэт; возле него сидела богатая египтянка по имени Эпихарис; потом Анней Сенека, а слева от него сорокалетняя жена одного из сенаторов.
С самого начала обеда, когда подали лукринские устрицы и азиатские морские тюльпаны, Пэт вступил в беседу с молодой императрицей.
Октавия обратилась к нему с пустым, вежливым вопросом о недавних играх в цирке, приведших весь Рим в лихорадочное волнение, так как до сих пор еще не выяснилось, кто победил: Фульгур ли Тигеллина или Флава Аницета. Для решения этого мирового вопроса назначен был комитет, где выслушивались свидетели, точно дело шло об уголовном процессе. Пока все шансы были на стороне Аницета, и это тем более сердило сторонников Тигеллина, что Аницет был морским офицером. Незадолго перед этим он командовал флотом при Мизенском мысе и по особому случаю проживал теперь в Риме, где немедленно начал оспаривать всеми признанное первенство агригентца…
Тразеа Пэт улыбнулся на вопрос Октавии, точно не веря в искренность ее любопытства и отвечал таким же тоном, каким сказал бы: «Да, повелительница, погода превосходная».
Октавия рассеянно кивнула и задала второй вопрос; после нескольких уклонений разговор коснулся неистощимого предмета: императора Августа и его изумительных деяний для развития мировой империи.
В разговоре этом приняли участие Нерон и соседка Тразеа – египтянка Эпихарис. Даже сам государственный советник Анней Сенека скоро прервал пустую болтовню своей соседки слева, чтобы при случае вставлять меткие эпиграммы и замечания.
Серьезное направление беседы заставило Нерона почти забыться и вообразить себя в рабочем кабинете дворца, где в течение последних недель философ непрерывно толковал ему о том, что жизнь состоит в отречении, обуздании страстей и исполнении долга.
При этом воспоминании, среди празднично-веселого общества, на молодого императора внезапно напало тоскливое ощущение безграничной пустоты.
В самом деле, поразительные противоречия, открывшиеся его глазам, должны были взволновать художественно-отзывчивую душу Нерона.
Здесь, на верхнем конце стола, произносили чуть ли не целые поучения из области сумрачной Стой, а там дальше раздавались шутки и смех, подобно журчанью болтливого ключа в тибурских садах.
Красивые юноши предупредительно склонялись к своим цветущим соседкам, и между этими молодыми, веселыми парочками невидимо точил свои стрелы крылатый божок.
Пожилые гости оживленно толковали о прошлом, рассказывали забавные эпизоды из их службы в Сицилии или Малой Азии, осушали кубок за кубком и, как бы в извинение себе, цитировали слова греческой застольной песни: «Nyn chre methyskein…»
А вот сидит влюбленный, вечно ревнующий Ото, буквально беспрестанно поглядывающий на свою очаровательную жену Поппею Сабину!
Она была довольно далеко от него, за столом императрицы-матери, и рядом с ней сидел опасный Тигеллин! Поппея Сабина была действительно очаровательна с ее томными глазами и милой манерой склонять набок увенчанную цветами головку. В обладании ею Ото должен был найти полное счастье, и ревность его объяснялась именно этим счастьем: чем дороже сокровище, тем больше забота о его сохранности.
Софоний Тигеллин только что сделал какое-то, должно быть, очень приятное замечание, потому что Поппея, бросив из-под ресниц взгляд лукавого сатира, после мгновенного колебания обнажила свои жемчужные зубки и разразилась таким задушевным смехом, что у ее обуреваемого опасениями супруга Сальвия Ото вся кровь бросилась в голову.
До сих пор Нерон полурассеянно смотрел на смеющуюся красавицу; теперь же взор его остановился на ней с большим вниманием.
Через двадцать лет цветущий ротик этой самой Поппеи Сабины будет обрамлен отвратительными морщинами, лучезарные глаза покраснеют, розовые щечки иссохнут… Лицо ее станет похожим на лицо облысевшего философа – советника Сенеки…
Но тогда она по праву скажет себе: «Я насладилась всем, что мне дала эта преходящая жизнь! Я выпила чашу до дна, прежде чем безжалостная судьба вырвала ее из моих рук! Я не знала страданий из-за того, что называется идеей!»
Мысли императора, казалось, нашли себе таинственный отголосок в душе Поппеи. Доселе всецело предававшаяся обаянию Тигеллина, она вдруг взглянула на Клавдия Нерона и встретила его печально-задумчивый взор.
Яркая краска вспыхнула на ее лице; голова, шея, даже плечи покрылись румянцем, а при мысли, что Нерон должен это заметить, она пришла в неописуемое смущение, изумившее Тигеллина, который шепнул:
– Госпожа, что случилось? Или прекрасная Поппея нездорова?
Она быстро овладела собой.
– Вечный смех бросился мне в голову, – шутливо отвечала она.
– О, я понимаю упрек, – возразил Тигеллин. – Но видишь ли, благородная Поппея, моя должность становится такой серьезной, торжественной и возвышенной, что по временам я должен давать волю моим порывам. Смех сделался нынче редкостью в обиходе у цезаря. Если это еще продлится, то я буду поглощен бездной меланхолии или же примкну к стоикам.
– Это звучит крайне смешно.
– Ты думаешь? Но я говорю правду. Я примечаю свое духовное окостенение. Поэтому я и пользуюсь всякой возможностью и случаем, как например сегодня, чтобы помочь такой прелестной эпикуреанке, как Поппея, в применении на практике ее житейской мудрости.
– Я эпикуреанка? Впрочем, пожалуй… Почему бы мне не быть ею? Разве жизнь наша не достаточно мимолетна? Стоит ли печалиться? Стоит ли еще сгущать ее мрак? Как жаль цезаря, которого Сенека втянул в эту пустыню! Нерон так молод и создан для счастья! Посмотри на его глубокие черные глаза! Они божественны!
– Какое воодушевление! Если бы ты думала обо мне хоть наполовину так благосклонно, клянусь Зевсом, я совсем обезумел бы от счастья и блаженства!
– Не притворяйся! – отвечала Поппея. – Ты, общий любимец, в одном этом каведиуме насчитывающий целые дюжины приятных воспоминаний! Ты, чьи заманчивые приключения известны даже в далекой Испании и Лузитании… Но оставим этот опасный предмет! Лучше последуй дружескому совету, – потому что я тебе друг, несмотря ни на что…
– Весьма обязан! И ты советуешь мне?..
– Основательно противодействовать влиянию Сенеки и его философской бессмыслицы.
– Но как же сделать это?
– Смешно! Убеди императора, что можно быть великим правителем, замечательным мыслителем и благодетелем своего народа, оставаясь в то же время рассудительным человеком! Смотри, вот опять черты его подергиваются дымкой печали, которую я замечаю уже не впервые. Право, если бы меня не удерживали обычаи и глупые общественные приличия, я встала бы без всяких околичностей, положила бы ему руки на плечи, и… и… утешила бы его.
– Да? А что сказала бы ты ему?
– Цезарь, сказала бы я, отчего болит твое сердце? Отчего ты не смеешься? Отчего нахмуриваешь лоб? Оглянись вокруг себя! Ты окружен молодостью, веселостью и красотой! Наслаждайся вместе с нами тем, что нам приносит крылатый час! Будь человеком среди людей! Вот что я сказала бы ему, вкрадчиво и искренно, и, внимая мне, быть может, он сообразил бы, что ведущую к вечному мраку дорогу разумнее усыпать розами, чем слушать глубокомысленные размышления своего министра и при этой чудной музыке сидеть с видом осужденного.
Тигеллин усмехнулся.
– Это была бы действительно гениальная выходка, достойная нашей прелестной Поппеи! Так презри же общество и его глупые толки! Ступай и попытайся!
– Но легче сказать, чем сделать. Ты не принимаешь в расчет гнева моего мужа. Ото распял бы меня за это… Вообще прошу тебя, золотой Софоний, не склоняй ко мне так усердно твою умащенную благовониями голову! Я вижу, Сальвий Ото уже бросил на меня свой взгляд балеарского бойца… Ты ведь понимаешь? Взгляд, равносильный балеарскому свинцовому шару! Уже на днях, в доме Пизо, он нашел, что ты слишком глубоко заглядываешь мне в глаза. А ведь ты знаешь, я позволила тебе быть только моим братом и другом…
Тигеллин нахмурился.
– Я позабыл, – насмешливо отвечал он. – Прости за минутную забывчивость. Ты была так… оживлена, говоря о Клавдии Нероне. Императору-философу, которого тебе хочется обратить на путь истины, ты, конечно, позволила бы больше, чем ничтожному агри-гентцу. Это я прекрасно понимаю! Каждому по чину и достоинству!
– Что такое? Что дает тебе право на эти злые замечания? Обуздай свой язык, бесстыдный человек! Хотя все привыкли многое прощать тебе, но нельзя же прощать все!
И снова устремив на Нерона полустыдливый взор, она вздохнула и мечтательно, как бы говоря сама с собой, продолжала:
– Вот разница между чистотой и испорченностью. Цезарь говорил со мной всего лишь три или четыре раза в жизни: но будь он в десять раз ближе ко мне, чем этот ужасный Тигеллин, все-таки я уверена, никогда он не принял бы такого нахального тона. Он уважает, он чувствует, он понимает. Он бог там, где вы все только бренные, рожденные из праха люди!
Между тем Нерон с каждой минутой становился все молчаливее и мрачнее. Он уже не слушал возвышенную беседу Октавии с Тразеа Пэтом. В ушах его шумели лишь волны звуков без смысла и значения, глухих и далеких, словно доносившихся из бесконечного пространства. Мысли его опять перенеслись к тому дню, когда он помиловал отпущенника Артемидора. Он снова видел очаровательную девушку с чудными белокурыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он слышал ее сердечный голос, моливший о сострадании. Да, это была она, единственная, несравненная.
Она упала на колени перед императорскими носилками, простирая свои белоснежные руки, – он видел все это, как на картине! Вдруг прекрасный образ исчез и его заменил еще прекраснейший… О! Этот час истинного счастья! Он стоял в палатке египетского кудесника рядом с Актэ, и тот же голос звучал еще глубже и обворожительнее в его трепетавшем страстью сердце.
Актэ! Невыразимо любимая Актэ! Зачем ты исчезла так же, как появилась, подобно однодневному весеннему цветку или мимолетному дыханию эфира, умчавшемуся, едва коснувшись пылающего лба?
Странно! В это мгновение ему показалось, что наконец он нашел разгадку: она бежала от него, от любви к нему, а не к кому-нибудь другому. Она поняла его обожание и хотела избежать предстоявшей неминуемой страшной борьбы.
Он взглянул на горделивую Агриппину.
Да, неумолимая мать осудила бы его любовь!
Отпущенница, бывшая рабыня!
Она едва позволила бы ему сделать ее только своей возлюбленной, а женой – никогда. Конечно, Актэ не могла знать, на что он дерзнул бы ради нее; она не подозревала, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, ни перед каким разрывом, только чтобы завоевать ее для себя. Безумная! Зачем скрылась она с этим загадочным «Прощайте все!» Одна строка; одно откровенное слово – и все могло бы еще устроиться.
Он думал и думал, пока им вновь не овладели сомнения. Наза-рянин-мыслитель Никодим утверждал, что бегство Актэ для него совершенно необъяснимо. Даже он не мог понять эту девушку, которую он однако знал уже давно.
Загадка так и оставалась загадкой для печального императора. Он сознавал только одно: что равнодушен ко всему миру, в котором для него существовало только одно счастливое и вместе с тем горестное воспоминание. Какая грустная, безутешная участь! Будь Актэ его женой вместо женщины, совершенно его не понимавшей и при всей своей сердечной доброте оскорблявшей его заветнейшие чувства, как благодатно расцвело бы божественное создание его царствования! Счастье и любовь были бы его вдохновенными руководителями в том, что он совершал теперь с таким трудом и усилиями, движимый лишь холодным учением своего советника и фантастическими намеками Никодима.
Да, он победил бы! Он сделался бы бессмертным творцом славной эры свободы и братства людей! Назарянское небо с его кротко-ясным примирением ведь было действительностью в глазах белокурой Актэ!
Нерон сжал рукой лоб.
Он, первый между римлянами, повелитель обширного, могучего государства, простирающегося от столпов Геркулеса до отдаленной Месопотамии, обожаемый своим народом, богатствами превосходящий царя Лидии, молодой, полный бурных жизненных сил в стремлении к всему доброму, благородному и прекрасному – каким бедным и одиноким был он на своем лучезарном престоле!
Внезапно наступившая тишина заставила его очнуться.
Веселый шум, наполнявший украшенный цветами каведиум, мгновенно замолк.
Флавий Сцевин, высоко подняв правой рукой увитый розами кубок, провозгласил тост за всеобожаемого, августейшего, счастливого Нерона.
Ловким оборотом вплетя в этот тост Октавию и императрицу-мать, он снова обратился исключительно к высокой особе императора, призывая всевозможные благоговения богов на его дорогую, лучезарную, юношескую главу. Буря восторженных кликов последовала за мастерской речью, в которой особенно ярко вырезалось то место, где оратор произнес: «Нерон, Октавия, а за ними благородная мать, воспитавшая образец таких превосходных качеств».
Приверженцам Сцевина, враждебным императрице-матери, это за «за ними» показалось верхом ораторского искусства. В этих словах чувствовалось весьма прозрачное напоминание гостям и вообще всему Риму о необходимости деятельной поддержки противников Агриппины для освобождения Нерона от чрезмерного влияния честолюбивой и тиранической женщины.
В то же время это был первый после долгого промежутка ясный намек по адресу Агриппины, приглашавший ее к добровольному отречению от того, что римляне находили невыносимым игом. Теперь же этот намек имел еще другую цель.
В начале следующей недели в сенате назначено было важное политическое совещание.
Дело шло о раздоре с соседним германским племенем хаттов и легко могло привести к объявлению войны, несмотря на старания римского коменданта крепости Могунтии по возможности удовлетворить справедливым требованиям германцев.
Все надеялись, что из прямодушной речи Флавия императрица поймет общее желание видеть в сенате императора одного и освобожденного от ее опеки.
Оглушительные клики смолкли. Призвав на помощь все свое самообладание, Агриппина принудила себя улыбнуться, в то время как глаза ее метали пламя страшной ненависти. Каждый из гостей вылил в жертву богам по несколько капель ароматного вина, после чего с новой силой раздались возгласы:
– Да здравствует цезарь! Да здравствует всеобожаемый, счастливый!
Медленно встав, Нерон молча благодарил гостей движением руки; искренность этих проявлений тронула его до слез, и он не мог овладеть своим волнением. Но слезы его были вызваны чем-то иным, неизмеримо далеким от шумного праздника: то было воспоминание о светлом образе цветущей девушки, горячо любимой и потерянной навеки.