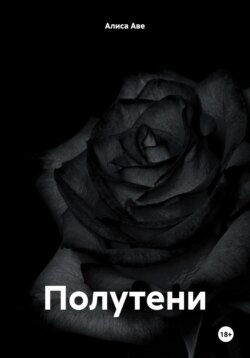Читать книгу Полутени - Алиса Аве - Страница 8
Сказка
Оглавление– Разве же это горе, – сказала лягушка нежно.
Коснулся её Иван – кожа влажная, прохладная, гладкая, не убрал руки. В глаза заглянул – утонул, взгляда не смог отвести от темных омутов: горели в них звезды, со звездами небесными сиянием споря.
Всё знала лягушка. Почему Иван-царевич стрелу золотую в небо пустил, для чего стрела прямо в лапы ей упала. Обещалась теперь тоске Царевича помочь:
– Всем нужна добрая жена, она любое желание исполнить может.
– Будь моя воля, – махнул рукой царевич и понял, что махнул рукой и на желание, и на волю, и на выбор стрелы, – да что тут… младшему сыну один путь.
– Возьми меня, царевич, в жены, – взмолилась тогда лягушка, – не пожалеешь.
Делать нечего, согласился Царевич, завернул находку в белый шелковый платок. Лягушка сидела в платке молча, держала золотую стрелу в лапках всю дорогу. Иван на суженую не смотрел, гнал коня и горестные мысли. Ждали его холодные объятия ночей.
Смех гремел в царских палатах громче колоколов свадебных. Царь взирал на невест старших сыновей благосклонно, стать девичью видать ещё с ворот: взмыленные кони гнулись под тяжестью полнокровных девиц, тянулись за ними телеги с приданым. Не пожалел царь, что отдал стрел заветных. Всего три оставалось у него, ведающих цель. Покойная жена, добрая женщина, принесла с собой не шелка, не жемчуга, не меха соболиные, – колчан со стрелами. С чем нашёл, такую и взял.
– Натяни тетиву и пусти в ту сторону, куда сердце потянет, – говорила жена в первую ночь в покоях царских, – да держи в голове заветную мысль.
Прирастала земля с каждой пущенной стрелой, с востока и запада, с богатого севера, с дикого юга. Желал царь укрепления власти. Из двенадцати стрел за три года шесть истратил: шли на поклон к нему гонцы с дарами, приходили волхвы да колдуны, славили силу великую, леса полнились зверьем, реки рыбою, только жена не тяжелела. В высокое небо отправил царь со стрелой просьбу сердечную, счастья женского для жены пожелал. Трижды возводил лук к небесам, троих сыновей жена принесла в мир, да на третьем истончилась. Всё металась в горячке, твердила про утекающую воду, умения отобранные.
– Из чего стрелы твои, душенька? – спрашивал царь.
– Сбереги последние для сыновей, – стребовала жена последним вздохом, – стрелы им благословением материнским станут.
Хранил царь стрелы до заветного дня. Старел, дряхлел, ждал дня встречи с покойницей-женой, никак не наступал час, вот и решил царь поторопить судьбу. Не подвели стрелы старших братьев, только младшего завели в болото.
– Чего ты желаешь, супруг мой? – шептала лягушка.
Кожу лягушачью сорвала с себя, как платье подвенечное скинула. Распрямила белые плечи, повела молочным бедром, жаром губ дохнула, и разомлел Иван. Виделись ему воды темные, поднимались волны, возносили его и затягивали в глубину, в прохладу, подбирались к груди, вытесняли душу шёпотом.
– Хочу я здоровья для батюшки-царя, – отвечал Иван всем сердцем горячим, тянулся к жене молодой. Мысли по воде кругами расходились:
«Старшему брату земли достанутся, поведёт свою жену по красным коврам, из сундуков её золотом крыши терема покроет, венцом царским плешь прикроет, да и будет судьбы вершить не своим разумом, женой да братом средним подсказанным. Разорит накопленное за годы правления отца, порвут на клочья царство враги очнувшиеся».
– Царь-батюшка велел тебе к утру ковёр сшить, – вспомнил Иван.
Холодны поцелуи лягушки, от них по коже мороз укусами в кровь пробирался, качался Иван на волнах, а лягушка, с глазами ночи черней, над ним раскачивалась. Песню пела, ворожила словами да ласками.
– Я нить к нити плету, заплетаю,
Забираю печаль, забираю.
Вместо горькой этой печали
Я тебе сладкий сон напеваю.
Я тебе жизнь сотку красной нитью,
А к утру вновь лягушкою быть мне…
– Я развею чары, – обещался Иван водам, – К ногам твоим царство положу, только нет у меня царства.
– Не кручинься Иван-царевич, утро вечера мудренее.
Ковром Царевны-лягушки покрыли тело старшего сына, царь пожелал, чтобы искусное шитьё грело бездыханное тело первенца. Жену его, дородную боярыню, выволокли из светлицы едва живую. Коса русая растрепалась, в руках ковёр, на котором алое солнце садилось в кровавое море. Клялась она, что не убивала мужа, в ту ночь не спали они вместе, пришла она в опочивальню мужа и увидела, как обнимает он призрачный женский силуэт, жадно целует и зовёт возлюбленной. «Повезло же дурню», – повторяла она без конца мужнины слова. Но пятна крови на ковре, на измятой сорочке, на холёных пальцах, траурной каймой под ногтями, кровью чертят следы босых ног путь от светлицы к опочивальне.
-Я опару готовлю с любовью, с любовью,
Я прильну, мой супруг, в твоём сне к изголовью,
Белу грудь я покрою огнём поцелуев,
Я в болоте год к году сидела, тоскуя.
Подниму я дворцы как венец караваю,
Все, что снится тебе, все, что хочешь ты знаю.
– Хочу сына, назову в батюшкину честь. И дочь с огневыми глазами и статью твоей, сердечко мое, – выпалил Иван в сахарные уста своей лягушки.
«Средний брат рад, благословение царское к нему перешло. Жена у него, даром что купчиха, науськивает, да поучает: Ваньку в дальние земли отправить, дань собирать, там глядишь и пропадёт братец. Боле не на кого оглядываться, не с кем мериться будет, а в скорости и царь-батюшка отойдёт, совсем старик исхудал.
Младшему кроме бога не на кого надеяться, да и бог любит первенцев. Хорошо, что с доброй женой в земли дальние».
– Не кручинься, – молвила Лягушка, обняла за плечи, голову, косами украшенную краше любого кокошника, на грудь положила, пальцами волновала, губами ласкала, – ты меня из болота вызволил, я за тобой хоть в огонь.
В огне печи поднимался каравай, отец испытывал невесток на свой лад.
Утром среднего брата искали, да не нашли нигде, жена его в платье золотом шитом сама хлеб свой вынесла. Дочь купеческая рукастая, хлеб пышный, царь кусок отрезал и обмер. Была у среднего царевича примета на пальце указательном – родинка чёрная. Упал кусок хлеба на пол, царь отбросил каравай, а в нём сыновий палец. Отыскали среднего царевича в конюшне, изрубленного, истерзанного.
– Ведьма! – кричал царь, ногами топал, – К старшей её, на хлеб, на воду! Сжечь обеих по утру!
Рвалась жена среднего сына из рук стражников, била себя в грудь, в любви клялась, самого царя в убийстве царевича обвиняла:
– Что же ты, старый, творишь? За власть держишься мертвой хваткой! Берегись, Ванюша, он и тебя со свету сживет.
Высоко вился дым, доносил крики женские до богов, в небесах прятавшихся.
Расползлись по царству слухи, что царь силу и молодость у сыновей своих отбирает. К одному духа злого подослал, другого собственными руками изничтожил. Жалели младшего, Иванушку-Царевича, и ликом он мил, и словом добрым одаривал люд, и на расправу был не скор, выслушивал да правду искал. Такого ещё быстрее царь со свету сживет, ведь власть она всякого развращает и близкого врагом делает. Вспомнили, что и от жены царь-батюшка избавился, как сыновей она нарожала. Вспомнили и то, что жену он в плен взял, повстречал в лесу, да там и сделал своей.
Царь по сыновьям слез не лил, на тризне по среднему закусывал караваем Царевны-Лягушки. Жаба Ванькина, даром что зелёная, и ткать, и печь умела – не пропадёт младшенький с доброй женой.
Сам же царь топил горе в вине да на жемчужной груди девицы, что повадилась к нему к рассвету ходить.
– Откуда ты такая, чернобровая? – спросил он в первый раз и больше не спрашивал.
Тело млело, наливалось соками юности. Напевала на ухо царю девица, всё про желания выведывала.
– Чего желать в преклонных летах? – удивлялся царь, – Передать земли хочу в руки надёжные, знать бы какой из сыновей не подведет.
Да только сны ночь колдовала странные, томящие: «Руки не болят, колени не хрустят, глаза вновь небес синей, не талая вода. Идет царь молодым по золоту полей, подле лебедью плывёт чернобровая девица, коса до земли. Поле ширится, не поле вовсе, народ колосьями множится, царю кланяется, славит его как бога среди богов. К чему богу приемники, куда взор его падет, там и власть его».
Дрожали палаты царские, гости под столы заползли, царь державой отгородился, один Иван-Царевич сиял пятаком чищенным. Знал, кто терему резному мчится, ему на гордость, другим на зависть. Вошла Царевна-Лягушка во дворец, запахло первоцветами, запели над ней птицы, сердца застучали неверно. Под руки взял её Иван, к отцу подвёл.
– Вот жена моя добрая!
Ахнул царь: чернобровая, коса длинная до пола вьётся, глаза – омуты манящие.
«Не бывать Ваньке царем! Отошлю прочь, а лягушку его подле себя оставлю!»
«Как смотрит, как смотрит, старый черт, словно забыл, что седьмой десяток разменял».
– Я белой лебедью, я сизой горлицей,
Полечу-поплыву над околицей,
Загляну в окна, в очи милые,
Прогоню из души грусть постылую.
Загляну в сердце красное, лживое
И желание коршуном вырву я.
Подплыла Лягушка к царю, обвила руками-змеями, поцеловала в сухие губы. Блеснул нож, кинулся Ваня на отца. Вспомнил царь молодые годы, заслонил грудью девицу, выхватил кинжал с пояса, бросился на сына. Улыбнулась царевна тайком. Увидели гости, как подбежал царь к танцующей Лягушке, к ногам её упал и дух испустил. Уронил Иван чашу, полилось вино со стола, потекло рекой по полу.
– Чего ты желаешь, супруг мой, – вопрошала Лягушка.
– Царь-батюшка пир устраивает, народ повеселить, хочет, чтобы и ты пришла. Да только как я тебя покажу. Приди на пир лягушкою, красавица ты лишь для меня, под крылом ночи.
«Он отнимет тебя у меня. И царство отнимет. И жизнь».
Царский венец горел на рыжих волосах Ивана, рука, сжимающая скипетр, дрожала. Всё знала Лягушка, не говорил Иван ни слова, смотрела Царевна в глубину его жара любовного, читала в стонах. Не подвела, добрая жена.
– Напою-расскажу я про девицу,
За которой тьма полозом стелется.
Как родной отец дочь проклял свою,
Захотел владеть её силою,
Захотел владеть красотой её,
Среди всех богатств выше всех ценил,
Захотел навеки в рабыни взять,
Выпить досуха, волшебство отнять.
Ночью скинула царица лягушачью кожу.
– Что же, царь мой, Иванушка, всё исполнено? – стояла Царица новая за мужниной спиной, в шитых золотом одеждах, в венце с изумрудами.
Иван-Царь жене руки целовал, со своих пальцев перстни снимал, на тонкие персты нанизывал.
– Не зря в народе говорят, добрая жена и при смерти мужа спасёт.
– Верно, – рассмеялась Лягушка, – Поцелуй же меня, дорогой супруг!
Слаще этого поцелуя не знал Иван, растеклась прохлада по губам, скользнула в рот, заполнила затхлой водой легкие. Вспомнил царь Иван болото, вспомнил как кричала жена старшего брата про женский силуэт, как слова повторяла «повезло, дурню», как смотрел царь-батюшка на Лягушку с узнаванием.
– А ты чего желаешь, Лягушка? – спросил он тогда, ещё несчастным Царевичем, на болоте невесту, развернув платок.
– Исполнить обещание матери, – проквакала Лягушка.
Ой, была у меня свет-любовь матушка,
Поделилась она со мной знанием,
«Все живое вокруг, даже камушки,
Все душой горит – ярким пламенем».
Ты люби, дочь моя, землю милую,
Ты люби, дочь моя, воду чистую,
Они делятся с нами силою,
Они делятся с нами мыслями».
Только злой колдун, отец мой родной,
Не терпел её силу добрую,
Да к тому же пленён был моей красой,
Что змеёю звал, им рожденною.
Он забрал у матушки знания,
Да отправил прочь, в земли соседские,
Но она взяла в приданное
Стрелы острые, стрелы меткие.
Стал отец меня золотом пленять,
Троном из кости, новым именем.
«Подзабудь, просил, ты старуху мать,
Я бессмертие нам выменял».
Отказала отцу, да за матерью –
Только как я могла отказать ему.
Превратил он меня в жабу хладную,
И забрал мою девичью магию.
Вместо скипетра держала Царица в руках золотую стрелу. Вышла на балкон, стрелу на запад направила.
– Чего ты желаешь, отец? – закричала Царица вдаль.
В ответ подбросил шапки народ, восхваляя красоту и величие госпожи своей.