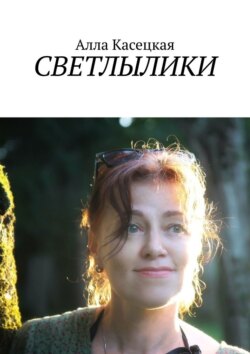Читать книгу Светлылики - Алла Касецкая - Страница 5
Сила слова
ОглавлениеЖил в нашей деревне дедко Коука. Да-да, так и звали его все. Что за странное имя? – спросите вы. А имя-то на самом деле у него было самое обычное – Николай. Колка. Но дедко все слова имеющие в середине букву «Л» произносил на свой манер – буква «Л» превращалась у него в нечто среднее между «В» и «У»: слово «палка» звучало как «паука», «ёлка» – «ёука», «волки» – «воуки», ну, и так далее. Дед был пришлый, в нашей деревне так не разговаривали, но деда все величали на его же манер, как сам представился. Никто никогда не называл его ни Колькой, ни Николаем – Коука и Коука…
Работал дед Коука пастухом, пас частное стадо. До того, как дед появился в деревне, коров, коз да овец деревенские пасли сами, по очереди – сколько голов на одном дворе, столько дней семья и пасёт, затем очередь следующего двора. Не всем это удобно было, особенно у кого ребятишек не народилось, или совсем ещё малыши, которым стадо не доверишь. Выкручивались взрослые, как могли. На работу надо выходить и стадо личное пасти надо, поэтому и перепрашивались, и договаривались – очередь путалась, сбивалась, переругаются, бывало, все. И вот тут-то появился дедко Коука, как палочка-выручалочка. Как-то само собой всё сразу и уладилось.
Откуда дедко пришёл в нашу деревню, никто не знал. Дед сам не рассказывал, хотя уж больно словоохотлив был, а эту тему ни-ни. Но никто и не выпытывал. Видят: хороший человек, с добром пришёл – чего зря пытать. Хотя нет-нет, а между собой деревенские и сплетничали про деда: уж больно он не похож был на наших местных стариков. Маленький, сухонький, жилистый. Кожа такая тёмная – загорелая ли, задубелая ли, а как кора старого дерева, и такая же шершавая, морщинистая. Головёнка у деда была маленькая, череп лысый, весь в каких-то буграх, да в светлых ниточках шрамов, и без малейшего намёка на хоть какие-то волосёнки. Да и вообще, с растительностью у деда совсем беда была – ни тебе бороды, ни усов, даже бровей и тех не наросло. Зато уж ручищи у него были – будь здоров! Огромные, как от другого человека-великана приставленные. Пальцы цепкие, узловатые, тёмные, почти чёрные, похожие на корни старого-старого дуба. Силища в этих пальцах таилась неимоверная: мог дед ими легко пятак в трубочку скатать, или гвоздь «сотку» запросто вокруг пальца обмотать. И была ещё одна странность у деда: никогда он с мужиками деревенскими в бане не мылся. Кто-то пустил по деревне слух, что дед весь в каких-то наколках, да шрамах страшных, что не простой он, а из «этих»… Каких «этих», не пояснялось, а особенно при нас, детях, такие разговоры и вовсе затихали.
Денег деду за работу не платили, зато кормили в каждом дому по очереди. Одёжу деда Коуки женщины деревенские тоже в чистоте и порядке держали – чинили-латали, когда понадобится, стирали, бывало, отдавали от мужей своих обутку, которая ещё справная была. Ночевал дедко по началу тоже по очереди в каждой избе, но потом, как клуб в деревне образовался, выделили деду там угол и определили на ставку ночного сторожа. Так и прижился дед Коука в деревне. Своим стал. Любили его деревенские, уважали за добрый, лёгкий нрав, за рассудительность и смекалку житейскую. Многие за советом обращались в трудный час – никому дед не отказывал. А уж мы, ребятня так и вовсе хвостом за ним ходили. Как начнёт дедко сказки-байки-небылицы рассказывать, так откуда что брал? Мы уши развесим, слушаем – не заметим, как время пробежит. Женщины деревенские смеялись:
– Тебе, дедко, пора ещё полставки детсадовского воспитателя выделять.
Детского садика в деревне не было тогда – мы, малышня, сами себе предоставлены были. Росли, как трава в поле.
А тут случай такой приключился. Мама на работу пораньше убежала, брат с мальчишками тоже ещё затемно на рыбалку на дальние пруды ушли. Я до обеда осталась, как говорили у нас, «на домовничанье» – это значит полностью за всем хозяйством смотреть. Дело взрослое, ответственное. Я любила на домовничанье оставаться. Гордилась, важничала – а как же, совсем как взрослая!
Первым делом прошлась по дому. Вроде в порядке всё: пол метён, посуда стоит мытая. Не к чему руки приложить. Выскочила из дома – уж в палисадике или в заулке всегда дело найдётся. Смотрю: черёмуха-то у крыльца вся в чёрных ягодах. Когда и поспела? Скинула я сандальки (босой-то удобнее по деревьям лазать, это всякий знает), взобралась на дерево, оседлала толстую ветку, сижу, ягоды прям с веток скусываю. А они терпкие, во рту вяжут, но сладкиееее. Мммм… вкуснотища! Только косточки поплёвываю, да песни пою. Мне когда хорошо, я всегда «Чепуху» пою – все в деревне знают.
На лугу стоит корова
Она семечки грызёт,
А телёнок с чемоданом
На экскурсию идёт.
Чипу-чипу а – ха-ха!
Чистая чепуха!
Распеваю я во всё горло, а краем глаза вижу: мимо нашей калитки идут Митька с Федькой. Как говорили в деревне про них, два лоботряса деревенских, лет семнадцати-восемнадцати.
Остановились. Переговариваются. Наверно, понравилось, как я пою. Ну, я давай ещё громче орать:
На стене часы висели
Тараканы стрелки съели
Мухи съели циферблат
И часы теперь стоят!
Чипу-чипу а – ха-ха!
Чистая чепуха!
Смотрю, парни калитку открывают, заходят.
– Мелкая, брат-то с матерью где?
– Гоша на рыбалке с мальчишками, а мама в клуб ушла, – отвечаю я с дерева.
Парни переглянулись:
– Значит, одна дома что ли?
– Ага, на домовничанье! – гордо выдаю я, болтая ногами.
Парни зашептались между собой, потом Митька, задрав голову, крикнул мне:
– Больно песенки детские поёшь. Хочешь, мы тебя взрослым словам научим?
Ух ты! Я аж болтать ногами забыла. Взрослые слова!
– Конечно, хочу! кричу я. – Давайте, говорите.
Митька с Федькой заперемигивались, заулыбались:
– Ну, слушай. Только эти слова надо повторять очень громко, каждую букву проговаривать, чтоб всё по-взрослому. Сможешь?
– А то! Конечно, смогу. Я уже почти и так взрослая, на мне весь дом, всё хозяйство.
– Ну, повторяй за нами. Только погромче…
Сидят парни на крыльце и от хохота аж заходятся, от избытка чувств по коленям себя хлопают:
– Во даёт малявка! А ну, давай ещё!
А я и даю, меня дважды просить не надо: уж больно мне нравится слова новые выговаривать. Ёмкие они, яркие, крепкие да терпкие, произносить их одно удовольствие, как будто с хрустом надкусываешь слегка недозрелый плод антоновки и сок во все стороны брызжет.
Наш дом аккурат рядом с магазином стоял. Много народу мимо прошло. Идут, слушают, как во дворе ребятёнок матерно ругается. Головами качают: «Ой, нехорошо как. Ой, недело». А у нас в деревне даже среди мужиков не принято было материться в честной компании. И при детях порядок блюли, и меж собой матюжными словами крепкими не разговаривали.
Вот, кряхтя, медленно сползла с высокого магазинского крыльца бабка Олексевна с туго набитой продуктами авоськой. Сползла, приостановилась дыхание перевести, пот с лица вытереть и затем, так же кряхтя, поковыляла домой мимо нашего палисадика. А там я новые слова выговариваю. Да с выражением, да во весь голос. Бабка Олексевна аж поперхнулась. Остановилась, прислушиваясь – уж не почудилось ли. Нет, не почудилось, и правда, дитёнок ругается. Олексевна дёрнула калитку – заперто изнутри. Подумала: «Странно, если б мать дома была, разве дозволила бы она ребятёнку этакие слова говорить?» Забрала бабка платок за ухо, прислушалась – слышит гогот мужицкий двухголосый. Смекнула бабка, в чём тут дело, скорёшенько посеменила в сторону клуба. Отпыхиваясь, ввалилась в комнатушку за сценой, где обычно сидела моя мама.
– Надежа, ты это, поспешай домой-от. Я хучь и почитай совсем глухая, а и то учуяла: ох, там у тебя девка шибко матюкается. На всю деревню. А эти охламона оба-два хохочут да подначивают. Неделу девку научают.
Мама, охнув, вскочила, задев Олексевну плечом, рванула к выходу.
Подбегая к дому, мать сначала услышала, а потом и увидела такую картину: сижу я на нашей черемухе, лицо от уха до уха ягодным соком вымазано, болтаю босыми ногами и во весь голос слова чуднЫе повторяю. А под черёмухой в траве корчатся от смеха Митька с Федькой.
Увидев разгневанную мать, парни разом затихли. Глаза прячут, понимают, что не дело натворили.
– Тёть Надя, ты это, извини нас. Мы это, не хотели, – одновременно басовито загудели они, как майские жуки.
– Мы это, мы—то, – передразнила их мать, – не хотели они! А что вы хотели? Нет бы, делу какому учить ребёнка, так нет. Разве у вас на дело-то ума хватит? Месяц чтоб я вас в клубе не видела! Ни в кино не пущу, ни на танцы!
Страшнее наказания для парней и не было. Но препираться не стали: знали, что виноваты. Втянув головы в плечи, оба понуро побрели к калитке.
Мама протянула ко мне сильные руки:
– Ну, прыгай давай.
Я с визгом и хохотом нырнула вниз.
– Мама, ты слышала? Слышала? – захлёбываясь от восторга, тараторила я. – Ты слышала, какие слова я выучила? Хочешь, тебе ещё расскажу?
Я совсем уж было собралась повторить новые слова маме, но она меня остановила, строго посмотрев мне в глаза:
– Лялька, это плохие слова. Их говорить не надо. Они мерзкие и злые! Парни просто… – мать на секунду замялась. – Парни просто над тобой пошутили немного.
Я на секунду даже дышать перестала: как же так? Как же злые, когда нам только что было так весело? Все же только что радовались и смеялись… Надо мной смеялись, выходит. Всё стало совсем не радостно и не весело. У меня задрожал подбородок, оттопырилась нижняя губа, и я заревела от обиды и полного разочарования во взрослых.
Мама прижала меня к себе и, поглаживая по спине, понесла в дом. Там она налила мне чаю и даже выдала из секретных запасов конфету «Мишка на дереве», что у нас бывало только по особым случаям. Это меня здорово утешило. Всё ещё хлюпая носом, я хрустела конфетой, запивала её чаем и одновременно болтала под столом ногами.
– Лялька, мне на работу надо, – сказала мама. —Ты надень сандальки и поди погуляй. К Митьке с Федькой на пушечный выстрел не подходи. И слова злые не говори никому. Хорошо?