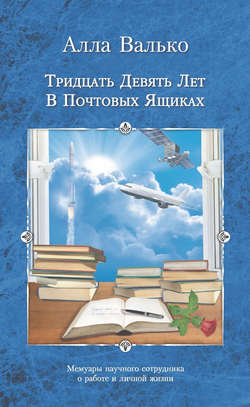Читать книгу Тридцать девять лет в почтовых ящиках - Алла Валько - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Почтовый ящик № 993
Глава 4
Мои ангелы и демоны
ОглавлениеНа работе временами наступало затишье, которое сменялось периодами напряжённой работы. Руководитель нашей группы Юра Ушанов направил меня в патентную библиотеку, дав задание изучить необходимые материалы и разработать конструктивную схему прибора “Двухрежимный двухстепенной прибор: датчик угловой скорости – гиродемпфер”, а также подготовить его описание и формулу изобретения. Эта работа была успешно выполнена, и мы с Юрой написали отчёт, получили очередное авторское свидетельство на изобретение и написали статью в отраслевой журнал. В апреле 1968 года я закончила Центральные курсы повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников по вопросам патентоведения и изобретательства в Институте патентоведения и могла уже самостоятельно и грамотно составлять описания наших изобретений, когда было необходимо получить на них авторские свидетельства.
Когда я заканчивала МВТУ, заведующий нашей кафедрой, доктор технических наук Дмитрий Сергеевич Пельпор посоветовал нам не торопиться с поступлением в аспирантуру, рекомендуя сначала набраться опыта практической работы. Со времени окончания мной училища прошло уже шесть лет, и я начала серьёзно подумывать о поступлении в аспирантуру. На нашей фирме профильной дисциплиной была теория автоматического регулирования (ТАР). Однако, учась в МВТУ, я усвоила её очень плохо. Несмотря на то, что я как прилежная студентка сидела на первом ряду и всё старательно записывала, я мало что понимала из услышанного во время лекции. Вместе с тем, практически все студенты мало работали с книгами, поскольку преподаватели ценили, чтобы студенты, в первую очередь, присутствовали на лекциях. Однако одновременно и уловить смысл излагаемого на лекции, и записать услышанное, и начертить схемы устройств было просто невозможно. Нужна была значительно более серьёзная работа – работа с книгой, культуры которой у нас не было.
На экзамене по ТАР наш преподаватель Ильин, очень приятный человек и хороший лектор, был весьма удивлён моим бессвязным ответом. Но, посмотрев в зачётку, где у меня были одни пятёрки (с четвёртого курса я постоянно получала повышенную стипендию), тоже поставил “отлично”. Эта пятёрка и по сей день торчит у меня, как кость в горле. Я и свою гироскопию сдавала преимущественно по конспектам, но там была другая логика, видимо, более мне близкая. Впоследствии я, естественно, всю жизнь училась, читала, изучала, анализировала литературу по разным дисциплинам, словом, всю жизнь не расставалась с технической книгой.
Первые четырнадцать лет моей трудовой деятельности в почтовом ящике были временем строгого режима, когда ни пакет молока нельзя было вынести за проходную, ни опоздать даже на минуту, иначе снижалась премия всему отделу. Опоздать было нельзя – это правда, зато можно было вовремя пройти через проходную и в периоды отсутствия работы (а случалось и такое) ничего не делать на рабочем месте. Кто-то читал художественную литературу, кто-то доигрывал партию в шахматы, не завершённую в обеденный перерыв, кто-то даже втихаря вязал. Я, по складу своего характера, этим временем распорядилась другим способом: я готовилась к поступлению в аспирантуру, а потом работала над диссертацией.
Поступать в аспирантуру по специальности ТАР из-за незнания этого предмета для меня не представлялось возможным. Аспирантуры же по специальности “Гироскопия” на нашем предприятии не было, поэтому мне нужно было идти на родную кафедру в МВТУ. Сначала было необходимо выбрать тему диссертации. Одно время я склонялась к мысли, что я не прочь заняться термокомпенсированными демпферами, тем более, что на эту тему у меня уже был написан отчёт, получено авторское свидетельство и опубликована статья. Я просмотрела много технической литературы по разного рода демпфирующим устройствам и различного типа токоподводам, написала рефераты с учётом проведённых мной по обеим темам исследований и поехала с ними в МВТУ на консультацию к доктору технических наук Евгению Александровичу Никитину. Просмотрев мои материалы, Никитин предложил мне остановиться на токоподводах. Предполагалось, что в диссертации будут рассматриваться токоподводы произвольной формы, а не просто стержни или пружины.
Некоторое время по окончании МВТУ на нашей фирме работал Виктор Журавлёв, который параллельно учился на механико-математическом факультете МГУ. Виктор сразу же выделился среди нас своей подготовленностью в области математики. Как-то начальник нашего отделения Арон Самойлович Липкин попросил меня решить задачу, связанную с избыточностью получения информации о движении чувствительного элемента гирокомпаса. Я чувствовала, что не обладаю необходимыми для решения этой задачи знаниями и мне, возможно, потребуется много времени, чтобы разобраться в проблеме и получить разумный ответ. Я честно сказала об этом Липкину и предложила ему поручить решение этой задачи Виктору, что тот и выполнил блестяще спустя всего неделю. Тогда я поняла, что среди нас находится если уж не гений, то, во всяком случае, весьма одарённый человек.
Я поделилась своими соображениями на этот счёт с Идой Ивановной Воскресенской, которая незадолго до этого перешла к нам из другой фирмы – почтового ящика № 228. Ида Ивановна была на одиннадцать лет старше меня, но в своей карьере не преуспела. Более того, окончив МВТУ по специальности “Оптические приборы”, она работала с гироскопами, что явно мешало её продвижению, хотя она была достаточно амбициозна и в работе проявляла целеустремлённость. Услышав моё мнение о Журавлёве, она фыркнула: “Да ничего особенного. Все мы одинаковые”. Но тут она сильно ошиблась. Вскоре Виктор поступил в аспирантуру Института проблем механики Академии наук СССР, успешно защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Впоследствии он стал заведующим кафедрой теоретической механики в самом элитном, с моей точки зрения, вузе страны – Московском физико-техническом институте. Был избран членом-корреспондентом АН СССР. Сейчас он академик Российской академии наук, автор многих статей и монографий.
Именно Виктор посоветовал мне ознакомиться с теорией тонких стержней, разработанной в докторской диссертации члена-корреспондента АН СССР Евгения Павловича Попова, который являлся также одним из основоположников теории автоматического регулирования и теории автоматического управления, в том числе летательными аппаратами. В момент подготовки к моему поступлению в аспирантуру Евгений Павлович был заведующим кафедрой на механическом факультете МВТУ.
Мне предстояло подать документы в приёмную комиссию аспирантуры МВТУ, ныне МГТУ. Самым главным документом, как оказалось, для меня стала характеристика с места работы. Получить её было большой проблемой. В 1966 году наш почтовый ящик N 993 был переименован в Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ). Эта аббревиатура полностью совпадала с аббревиатурой Центрального научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, что давало нам повод для разного рода шуток на эту тему. Я полагаю, что получить характеристку из института акушерства и гинекологии мне было бы значительно проще. Поскольку заместитель директора ЦНИИАГ по кадрам и режиму Николай Андреевич Марков наотрез отказывался подписывать сотрудникам характеристики во внешние организации, то я решила не искушать судьбу и воспользовалась опытом нашей сотрудницы Евы Краснолобовой, которая, намучившись с получением характеристики несколькими годами раньше, всё же поступила в аспирантуру МВТУ по специальности “Гироскопия”. Я подписала характеристику у начальства рангом пониже, не поставив об этом в известность Маркова, и начала готовиться к вступительным экзаменам по истории КПСС и теории гироскопических устройств.
Сдавать вступительный экзамен по английскому языку мне было не нужно, поскольку, ещё учась на вечернем факультете в инязе, я сдала кандидатский минимум. Готовилась я к экзаменам в аспирантуру весьма основательно. На экзамене по истории КПСС я не написала на экзаменационном листе ни единого слова, потому что моим мыслям было слишком тесно в рамках этого листа. Когда в середине своего ответа по билету, рассказывая о событиях, последовавших вслед за буржуазной февральской революцией, я произнесла слова “коалиционное правительство”, принимающий экзамен доцент, член приёмной комиссии, прервал меня и поставил оценку “отлично”. Экзамен по специальности я тоже сдала успешно, хотя и не столь блистательно. Итак, в 1967 году я поступила в заочную аспирантуру МВТУ.
В первый год пребывания в аспирантуре мне предстояло сдать два кандидатских минимума: по специальности и по философии. При подготовке к сдаче кандидатского минимума на занятиях по теме “Сознание” я позволила себе нарушить жёсткие каноны марксистко-ленинской идеологии, заявив, что сознанием обладает не только человек, но в той или иной степени и представители животного мира: дельфины, высшие обезьяны, а также некоторые породы собак. Затем я сказала, что невозможно представить себе, чтобы существовал скачок сознания от нуля в животном и растительном мире до максимума у человека, иными словами, должны существовать промежуточные формы сознания. Это сейчас всем известно, что сознанием обладает даже клетка организма, а тогда шёл 1968 год, и за отступление от общепринятых представлений можно было жестоко поплатиться. Услышав мою тираду, преподаватель философии пришёл в негодование, однако голоса не повысил и дал мне короткую, но весьма хлёсткую отповедь. Во время оплачиваемого отпуска для подготовки к сдаче кандидатского минимума я с упоением читала первоисточники по философии и хотя, естественно, всё прочитать не успела, но чувствовала, что подготовилась к экзамену совсем неплохо. Тем не менее, мне пришлось довольствоваться оценкой “хорошо” из-за негативного отношения к моему вольнодумству преподавателя философии.
Кандидатский экзамен по специальности принимал назначенный моим научным руководителем Владимир Александрович Бауман. Он не был специалистом в той области, которой мне предстояло заниматься, но он устраивал меня тем, что не мешал мне работать: не торопил меня и не навязывал своих идей. Я рассчитывала, что моим научным руководителем будет Евгений Александрович Никитин, но этого не случилось.
После сдачи кандидатских экзаменов я приступила непосредственно к работе по теме диссертации. Со всем пылом души я начала изучать теорию тонких стержней и пыталась применить её к решению задач, связанных с вычислением моментов сопротивления токоподводов произвольной формы. Кроме того, моя работа в это время была связана с проектированием, сопровождением изготовления и сборки макета для испытания различных схем токоподводов, а также собственно с исследованием на этом макете различных схем подпайки токоподводов в гироскопах. Подвижная часть макета была чрезвычайно хрупкой, поскольку исследовались токоподводы, изготовленные из сусального золота сечением 0,01×1 квадратных миллиметров и длиной тридцать-сорок миллиметров. Макет был установлен на массивной плите – фундаменте, не связанном со зданием, в подвальном помещении, что предохраняло его от внешних воздействий. Проводя испытания, я собирала экспериментальный материал для своей диссертации.
Это не давало покоя Иде Ивановне, которая тоже хотела защитить кандидатскую диссертацию по результатам исследования прибора под названием “мёртвое тело”, в котором не было вращающихся частей, в отличие от гироскопов, где ротор гиродвигателя обычно вращался со скоростью 24000 об/мин., а в гиродвигателе ИАВ – даже со скоростью 86000 об/мин. “Мёртвое тело” было изготовлено из кварца и подвешено на струне в поддерживающей жидкости. Однако, поскольку ожидания начальника лаборатории Николая Васильевича и исполнителя работы Иды Ивановны получить на этом приборе требуемую точность не оправдывались, ей хотелось насолить и навредить мне. К этому времени, защитив кандидатскую диссертацию, Юрий Иванович Ушанов стал начальником крупного приборного отдела, в состав которого вошли конструкторский отдел и исследовательские лаборатории, и Ида Ивановна заменила его в должности руководителя сектора, став моим непосредственным начальником и превратившись в терроризировавшую меня злобную фурию.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу