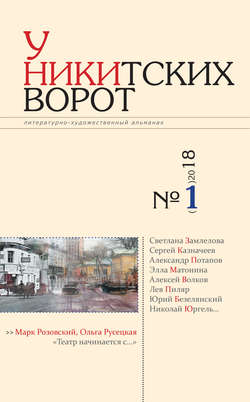Читать книгу У Никитских ворот. Литературно-художественный альманах №1(3) 2018 г. - Альманах - Страница 4
Публицистика
Сергей Казначеев
«Так что ж ты медлишь, русское ничто?»
Эссе
ОглавлениеКазначеев Сергей Михайлович родился в селе Ундоры, на Волге. Служил в армии. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор пятнадцати книг в разных жанрах. Доктор филологических наук. Член Экспертной Комиссии совета по книгоизданию Правительства Москвы – руководитель секции «Москва в классической русской литературе». Заместитель председателя Совета по прозе при Союзе писателей России.
Загадка греховного вавилонского башнетворения и последующего смешения языков, приведшего к роковому чаромутию, многие столетия тревожила умы многих поколений мыслителей и писателей разных племён и культур. В наши дни, когда недопонимание в жизненно необходимых сферах языка и существования грозит обернуться планетарной катастрофой, особенно важно разобраться в элементарных значениях самых простых слов и их значений.
Названием для данного эссе послужила строка из знакового стихотворения Юрия Поликарповича Кузнецова «Последний человек» (1994).
Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: – Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.
Глухие услыхали человека,
Слепые увидали человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: – Эй, калека!
А что такое русское ничто?
– Всё продано, – он бормотал с презреньем,
– Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем -
Вот что такое русское ничто.
Глухие человека не слыхали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
– Так что ж ты медлишь, русское ничто?![1]
Глубинный смысл поэтической символики несколько (и, как кажется, вполне сознательно) затемнён автором. В самом деле, что имел в виду Ю. Кузнецов, употребляя это ответственное и многозначное слово? Ведь в разных культурных контекстах оно способно приобретать самые разнообразные значения и смыслы.
Любопытно, что, перемещаясь от Запада на Восток, мы обнаруживаем: понятие «ничто» кардинально меняет свой смысл, постепенно наполняясь конкретным и весьма значимым содержанием: если в Европейской цивилизации за этим словом преимущественно закрепляется значение пустоты, зияния, отсутствия, то в дальневосточных и индийских философско-религиозных системах ничто приобретает сакральный оттенок, сближаясь с важнейшим термином буддизма – «нирваной» (растворение, угасание), которая является состоянием, к которому должен стремиться человек для полного слияния с мирозданием.
Античная философия и эстетика достаточно подробно проработала эту категорию. Платон в «Государстве», к примеру, утверждал, что единое не есть бытиё, но, в отличие от общего, которое представляет собой нечто, выступает как ничто. Своеобразное понимание отрицательного термина можно найти у Демокрита, Прокла, Аристотеля и других мыслителей. Для периода зрелой классики античной философии характерно внимание к материи, которая вечна и неуничтожима. Так, скажем, А. Ф. Лосев подчёркивал аристотелевское понимание проблемы, как «Всякая вещь есть нечто; и ответом на то, что такое это нечто, является эйдос…»[2] Атрибутом всякой вещи становится то, что Лосев обозначает таким калькирующим термином, как «чтойность», качество, которого, разумеется, лишено понятие «ничто». Однако диалектический принцип, которого придерживались Платон и его последователи, с необходимостью включал ничто в круговорот мироздания, и оно играло важную роль в процессе «становления чтойности». Иными словами, для динамики претворения эйдоса в вещь крайне важен этап, когда ничто превращается в нечто. В дальнейшем ничто станет важным звеном в диалектическом принципе отрицания отрицания, который тоже является манифестацией процесса становления.
В этом ракурсе рассматривает проблему Г. В. Ф. Гегель. Согласно его учению, ничто, которое он сравнивает с буддийской нирваной, выполняет важнейшую функцию в процессе становления наличного бытия. С одной стороны, по Гегелю, бытиё противоположно ничто, с другой – это состояние необходимо при осуществлении материи. Нехитрая схема:
Чистое бытиё → Ничто (становление) → Наличное бытиё
даёт возможность предположить, что вещь может опредметиться (превратиться из ноумена в феномен) только благодаря переходу через промежуточную фазу уничтожении (отсутствия). Кстати, физики-ядерщики говорят примерно о том же, когда интерпретируют факт перехода электрона с одной орбиты на другую, так же как для электричества (направленного движения частиц) необходимо наличие вакансий («дырок»).
Но, пожалуй, наиболее развёрнутый анализ философской категории «ничто» был предложен И. Кантом. Во многих его работах, особенно в «Критике чистого разума», содержатся своего рода дифференциации этого многоуровневого понятия. Кант четверояким образом интерпретирует смысл ничто:
1) Пустое понятие без существующего предмета (ens rationis), голое создание ума, которому ничто предметное не соответствует;
2) Существующий перед нами предмет, лишённый понятия (nihil privatium);
3) Пустое созерцание без существующего перед нами предмета (ens enagmatium);
4) Пустой существующий перед нами предмет, лишённый понятия (nihil negativum).
В этом списке дефиниций нечётные определения противопоставлены чётным: если первые действительно относятся к гносеологической сфере чистого разума, то вторые наделены таки некоторой долей онтологической предметности («чтойности»), поскольку голое мышление и созерцание трудно представить себе продуктивным, то пустой или лишённый понятия предмет вполне возможно наполнить некоторым реальным содержанием при помощи того же разума. Словом, и в европейской понятийной системе ничто тоже порой предстаёт потенциально содержательным.
В большинстве европейских языков лексемы, олицетворяющие ничто, звучат почти как однокоренные образования: nothing (англ.), nichts (нем.), nada (исп.), niente (итал.), nic, nicośč (польск.), нiщо (укр.); исключением в этом ряду выступает французское rien. Английское nothing, таким образом, можно перевести буквально как «не-вещь» (вспомним неологизм Оруэлла «нелица»), что тоже отсылает к древнегреческой трактовке термина. Кроме того, следует учитывать то, что аналогом слова ничто можно считать и русскую форму ничего. Шекспировский король Лир в негодовании отчитывает любимую прежде дочь Корделию с помощью характерного оборота: «Nothing can come of nothing» («из ничего и выйдет ничего», вариант Б. Л. Пастернака). В русском языке, как мы далее убедимся, между двумя этими словами существует весьма существенная разница. Отметим лишь, что в данном контексте шекспировское слово обладает всеми признаками пустоты, лакуны, отсутствия конкретного наполнения, выразившимися в акте лишения дочери доли наследства в ответ на то, что сама Корделия не сочла нужным всуе расточать хвалы горячо любимому отцу. Ничто, таким образом, выступает в этой трагедии как движитель сюжета.
Крайняя европейская точка зрения на ничто была сформулирована в рамках древнеримской культуры. Латинское слово nihil, по сути дела, стало международным знаком всеобъемлющего отрицания. На русской почве с лёгкой руки И.С. Тургенева и его героя Базарова понятия «нигилизм», «нигилисты» получили широчайшее хождение в среде образованной публики. Опасная энергия полного отрицания встретила как поддержку в лице радикально настроенных лиц, так и резкую критику людей положительного склада в виде целого шлейфа антинигилистических сочинений («Асмодей нашего времени» В. И. Аскоченского, который предшествовал тургеневскому роману, «На ножах» и «Некуда» H. С. Лескова, «Преступление и наказание» и «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Бродящие силы» В. П. Авенариуса, «Санин» М. П. Арцыбашева и т. д.).
Динамика общественно-политического развития в стране, к сожалению, показала, что предупреждающие месседжи не были восприняты должным образом: нигилистические тенденции оказались превалирующими, что вылилось и в кровавые террористические акты, и в революционные государственные перевороты. Отрицательная энергия продолжала актуализироваться и в последующие времена, так, например, В. В. Маяковский уже в 1915 году декларировал:
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделал,
Ставлю «nihil»[3].(«Облако в штанах»)
Чем, к сожалению, эта отрицательная интенция обернулась для самого поэта, всем хорошо известно.
Как уже было сказано, перемещаясь с Запада на Восток, ничто приобретает всё более наполненную содержанием форму. Ветхий Завет не содержит прямых указаний на эту категорию, однако описание Земли накануне акта сотворения мира очень похоже на отрицательное состояние: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною…» (Быт., 1, 2). Здесь нет указаний на материал, из которого Бог произвёл на свет всё сущее, в том числе и сам свет, но сам процесс напоминает актуализацию материальных начал из ничего.
Теоретик и практик суфизма иранский поэт Джалаладдин Руми в своём колоссальном труде «Маснави-йи манави» оперирует парными понятиями «быть» и «не́быть», где второе существительное по смыслу близко к понятию ничто, но обладает большими потенциальными возможностями:
Смышлён и знающ он (разум – С. К.), но не́бытью не является,
покуда ангел нетом не станет, Ахриманом является.
Он словом и делом нам другом бывает,
Но лишь в (экстатическое) состояние ты войдёшь, как нетом он бывает.
Нетом бывает, так как он не превратился из быти в не́быть.
Поскольку по воле [своей] нетом не стал он, то неволен изрядно…[4]
Как видим, не́быть у Руми, наделяясь содержанием, приобретает черты слова нет в значении существительного (см. у В. И. Даля: «У нас всякого нета припасено с лета»[5]. С помощью экстатического состояния быть способна, пройдя стадию не́быти, обратиться нетом, одушевиться и одухотвориться, лишившись при этом личной свободы. Такова цена превращения Ахримана (злого духа) в ангела.
В буддизме и даосизме, напомню, понятие «ничто» приближено к состоянию нирваны – способа достижения блаженства путём растворения в мире, полного слияния с ним. Бесконечная череда перерождений (сансара), приносящая душе неисчислимые страдания, может быть прервана благодаря нирване, достигаемой с помощью медитаций и другой духовной практики. Основоположник даосизма мудрец Лао-цзы неоднократно говорит о том, что дао (Путь, главная категория этого верования) пусто и даже ничтожно:
В мире все говорят, что моё дао великое,
Хотя и похоже на ничто.
А оно великое именно потому,
Что в действительности непохоже
На великое.
Если бы оно было похоже на великое,
То уже давным-давно стало бы ничтожным[6].
Казалось бы, такого рода понимание мировых процессов в корне расходится с европейской традицией. Но, как отмечал академик С. Ф. Ольденбург, «при всех несомненных отличиях Востока от Запада Восток свою духовную жизнь строил и строит на тех же общечеловеческих началах, как и Запад, живёт по тем же общечеловеческим законам исторического развития»[7]. И видимая ничтожность дао в значительной степени сходится с европейской практикой аскетизма, которая была свойственна большинству философско-религиозных доктрин.
Космогонический миф буддизма и даосизма, базирующийся на представлении об иллюзорности материального мира, во многом строится на возникновении Вселенной из пустоты. Кришна создаёт миры, играючи. Правда, в индуизме есть и другой символ рождения мира: из золотого яйца волшебной птицы. Аналогичные образы есть в германской, славянской и финской мифологии: «…прилетает орлица, соответствующая голубям карпатской колядки, садится на колени Вяйнемёйнена и несёт яйца, из которых потом созданы были солнце, луна и звёзды»[8]. Впрочем, особого противоречия в двух мифологических сюжетах нет: вспомним, как часто в сказках золото обращается в прах, исчезает, становится аналогом ничто. У редактора афанасьевского трёхтомника – Юрия Кузнецова, кстати, архетип «яйцо» тоже встречается неоднократно: злая птица из стихотворения «Мужик» после неудачной попытки уничтожить героя тоже
…Снесла всему начало -
Равнодушное яйцо[9].
Но вернёмся в Россию. Само геополитическое положение нашей страны (евразийство) предполагает некий синтез восточных и западных точек зрения, и это на самом деле так. Но не только. В русской фольклорной, художественной и лингвистической традициях мы находим широчайший спектр значений, закреплённых за понятием «русское ничто (ничего)», которые актуализируются, смотря по контексту употребления. В. И. Даль трактует ничего как форму родительного падежа слова «ничто», ставшую наречием, и закрепляет за ней такие значения, как «пусть, не тронь, не мешает, сойдёт с рук, порядочно, сносно, годно, авось пройдёт»[10]. Но есть и другие сферы применения.
В народном сознании, например, так обозначаются вещь, предмет или обстоятельства (но в любом случае нечто, а не отсутствие), не имеющие существенного значения: «– А ты не боишься? – Ничто (ништо)!» или трактуется как нечто, обладающее несомненными достоинствами: «– Как тебе невеста? – Ничего». В стихотворении Владислава Артёмова, симптоматично названном «Вещь», читаем:
Я ходил, глядел
Два часа на него,
Как он вещью владел,
Ничего, ничего…[11]
В некоторых случаях отрицательное слово ничего и его производные и вовсе играют особо значимую роль. Просторечные формы «чё» и «ничё» в народной песне приобретают черты эвфемизмов, необходимых в такой деликатной сценке, как объяснение в любви:
– Милый, чё, да милый, чё
Навалился на плечо?
– А я, милая, ничё,
Я влюбился горячо…
Мы понимаем, что парню нелегко отважиться на признание, и он, выигрывая время, чтобы собраться с духом, прибегает к словечку, которое упрощает ситуацию, для того, чтобы подняться до выражения высокого чувства.
Иногда слово ничего конденсирует в себе некоторую агрессивную энергию, необходимую для временно отложенного действия, когда будущая угроза мщения пока прячется под неопределённым выражением: «Ну, ничего!..» в значении: «Погоди, ты у меня ещё получишь!» «Пустое», внешне нейтральное слово, таким образом, получает дополнительную и недвусмысленно выраженную экспрессию.
Полезно напомнить, что в русском переводе и английское слово nothing как бы обрусевает и приобретает исконно русское звучание. Король Лир у Шекспира, на слова любящей дочери Корделии о том, что она не хочет попусту славословить отца, произносит ей жёстокую отповедь: «Nothing will come of nothing» (обезумевший монарх устами Б. Пастернака изъясняется: «Из ничего и выйдет ничего…»).
Бывают ситуации, когда «ничто/ничего» и вовсе наделяются свойствами своеобразной мантры, заклинания, способного выручить человека в критической ситуации. Известно, что Отто фон Бисмарк в молодые годы выполнял ответственные поручения в России. Сохранилась историческая байка, в которой, впрочем, нет ничего фантастического. Однажды будущему рейхсканцлеру пришлось студёной зимой ехать через ночной лес. Лошади сбились с пути, мороз усиливался, начиналась метель. Молодой немец в ужасе следил за действиями возницы, который время от времени повторял: «Ничего, ничего…» Некоторое время спустя удалось выбраться к жилью, опасность миновала. Рассказывают, что многие годы спустя, заняв высший государственный пост в Германии, Бисмарк в минуты опасного затруднения расхаживал по кабинету и, к удивлению подчинённых, повторял непонятное для них слово: «Нитцшего… нитцшего…»
Словом, в русском языке понятие ничто/ничего обладает безусловной смысловой и почти материальной наполненностью. И вот теперь самое время обратиться к текстам Юрия Кузнецова. Вполне закономерно, что в творчестве такого темпераментного и силового поэта нашлось место для множества отрицательных местоимений и наречий. Автор, резко и энергично реагировавший на любой внешний раздражитель, не мог не выражать своего негативного отношения к тому, что было для него неприемлемым. Но, что характерно, конкретная форма ничто достаточно редка в его лексике. Чаще встречаются слова никогда, никто и, естественно, ничего. В ранней поэме «Дом» Кузнецов напрямую говорит о многозначности этой словоформы:
Что в этом слове ничего -
Загадка или притча?
Сквозит Вселенной из него,
Но Русь к нему привычна…
Оно незримо мир сечёт,
Сон разума тревожит.
В тени от облака живёт
И со вдовой на ложе.
Преломлены через него
Видения пустыни,
И дно стакана моего,
И отблеск на вершине,
В науке след его ищи
И на воде бегущей,
В венчальном призраке свечи
И на кофейной гуще.
Оно бы стёрло свет и тьму,
Но… тайна есть во мне.
И с этим словом ко всему
Готовы на земле[12].
Легко убедиться, что в этом перечислении присутствуют многие стержневые образы поэзии Кузнецова. А вот собственно ничто, сознавая его повышенную значимость, он словно бы приберегает для более серьёзного повода.
Тем не менее, в знаковой балладе «Четыреста» мы сталкиваемся со случаем, чрезвычайно наполненным смыслово, – для изображения четырёх сотен погибших солдат поэт прибегает к неожиданному образу:
В одной зажатые горсти
Лежат – ничто и всё[13].
Как видим, тут уже есть подступ к диалектическому толкованию непостижимого единства противоположностей – ничто и всё.
Кульминацией в интерпретации категории «ничто» в отечественной духовной практике стало стихотворение «Последний человек». Написано оно было в 1994 году, ставшем одним из пиков кризиса русской идеологии. Дело в том, что в период с 1991 по 1993 год общество пребывало в состоянии идеологической прострации. Демократы ещё не могли поверить, что кормило власти прочно перешло в их руки, а патриоты продолжали слепо надеяться на некий реванш. Год 1994-й показал, что установленный в стране и мире новый порядок – всерьёз и надолго. Юрий Кузнецов, обладавший особого рода чувствительностью к общественно-политическим пертурбациям, понял динамику изменений раньше многих соотечественников. Вот почему ещё в 1993 году из-под его пера выходит немало стихов эсхатологической направленности: «Последняя ночь», «Ад над нами», «Плач о самом себе», «Что мы делаем, добрые люди?», «Федора», «Утешение», «Вечный изгнанник», «Заклятие в горах», «Сербская песня» и др.
Особое место в этом ряду занимает притча «Последний человек». Пожалуй, ни в одном другом месте отчаяние автора не высказалось в такой законченной, прочувствованной форме. Его герой (язык не поворачивается назвать его лирическим) возвращается с собственных поминок, ощущая собственное бессилие и ничтожество перед лицом воспреобладавших сил – глума и рынка. В определённой мере он сродни персонажу из стихотворения «Завещание» (1974). Но если тот нищий предстаёт полностью смирившимся и способен только на то, чтобы вытряхнуть снег из шапки, то теперь герой Кузнецова, которого дразнят калекой, готов признать, что отныне он – ничто, но с достоинством добавляет, что он – русское ничто.
Разумеется, это определение требует некоторого разъяснения, которое было предпринято выше. «Глухие», «слепые» и «немые», как поэт обозначает большую часть своих соотечественников, требуют от героя ответить, что за смысл вкладывает он в свою формулировку. И тогда «бормотание» человека, проигравшего в поединке со смертью, приобретает стальную чеканность:
С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем -
Вот что такое русское ничто.[14]
Напомним, что примерно в те же годы над судьбой Родины напряжённо размышляют многие русские поэты, например, Николай Тряпкин:
Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли…
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли![15]
Но если Тряпкин лишь с горечью стенает по поводу поругаемого Отечества, то Кузнецов грозит с кончиной России гибелью всему миру. Подобно чёрной дыре или воронке на месте тонущего «Титаника», наша страна, по мысли поэта, способна увлечь за собою в бездну всю мировую цивилизацию, а может быть, и Вселенную. Русское ничто представляется ему эсхатологическим символом, который определяет судьбы мироздания. Трудно сказать, насколько Кузнецов соотносился с восточной или западной традицией в понимании ничто, но при его энциклопедической начитанности сомневаться в его осведомлённости не приходится.
Согласно фольклорному принципу повтора, глухие, слепые и немые не прислушались к предостережению героя этих стихов, зато
…Все остальные закричали:
– Так что ж ты медлишь, русское ничто?[16]
Со всегдашней русской запальчивостью публика выказала готовность уничтожить весь мир, раз на планете Земля не осталось достойного места для такой страны, как Россия.
Полагаю, что в те годы близок был к такой точке зрения и сам поэт. Но судьбою ему было предназначено прожить ещё почти десять плодотворных лет. В конце 90-х он уже говорил Станиславу Куняеву, что нужно «прорваться в XXI век», и это ему удалось, хотя и ненадолго. Становилось ясно, что карта России ещё не бита, и есть пути для Возрождения и Преображения. Но и тревожные предчувствия прошли не навсегда: чего стоит тот энтузиазм, с которым человечество и Россия, в том числе, недавно готовились к концу света. Прогнозировать будущее всегда чревато. Как знать, может быть, человечеству придётся ещё раз вспомнить о том, что же такое есть русское ничто. Русская поэзия со времён Ломоносова, Пушкина, Тютчева и Блока всегда отзывчиво реагировала на эти глубинные волны. Не был в этом ряду исключением и Юрий Кузнецов.
Сегодня, в начале века XXI, все эти вопросы приобретают особую, принципиальную остроту. В ситуации, когда наша страна находится в состоянии небывалого идеологического и информационного прессинга со стороны наших западных «партнёров», когда наш народ и выбранную им власть пытаются шельмовать и третировать самые ничтожные «шавки» Европы и Америки, вопрос о всепланетной роли и миссии русского духовного и животворящего «ничто» актуален, как никогда. Многим кажется, что оно по-прежнему бездействует или медлит. Но на самом деле эта сжатая пружина пребывает в состоянии постоянной боевой готовности, и как только возникнет необходимость применения этой потенциальной энергии, нет никаких сомнений, что эффект от её применения превзойдёт все ожидания.
1
Кузнецов Ю. П. Стихотворения, М., 2011. С. 300–301.
2
Лосев А. Ф. История античной философии. М., 2005. С. 62.
3
Маяковский В. В. Избранные сочинения в 2-х тт. М., 1982. С. 29.
4
Джалал ад-Дин Руми. Маснави-йи ма'нави. Первый дафтар. СПб, 2007. С. 146.
5
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1979. С. 563.
6
Дао дэ цзин: современный перевод с комментариями. М., 2006. С. 50.
7
Цит. по: Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980. С. 6.
8
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2, М., 1995. С. 238.
9
Кузнецов Ю. П. Стихотворения, 2011. С. 216.
10
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1979. С. 548.
11
Артёмов В. В. Светлый всадник. М., 1989.
12
Кузнецов Ю. П. Прозрение во тьме. Краснодар, 2007. С. 412–413.
13
Кузнецов Ю. П. Стихотворения, М., 2011. С. 91.
14
Кузнецов Ю. П. Стихотворения, М., 2011. С. 300.
15
Наш современник, 1993, № 12. Обложка.
16
Кузнецов Ю. П. Стихотворения, М., 2011. С. 301.