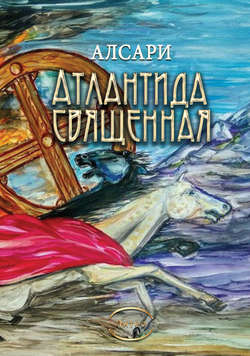Читать книгу Атлантида священная (из действительности доисторических времен) - Алсари - Страница 3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОглавлениеГолос Атласа вернул царя к действительности земной. Но – вернул обновленным, вернул полного сил и ожидания чего-то непременно героического, что он теперь в состоянии совершить.
– Ну что, пришел в себя? – слова титана раскатывались эхом в соседних ущельях, хотя заметно было, что он говорит далеко не в полную силу, сдерживая себя из опасения навредить. – Теперь понимаю, что сталось с атлантами, если даже лучший и высочайший из них… Зачем же ты призвал меня, коль встреча со мной тебе опасна?
– Прости, великий Аттли, – голосом охрипшим, но бодрым, произнес царь Родам. В опаленной его глотке звуки продирались через боль, которую невозможно было явить наружу, – хотя что могло быть тайною для Атласа? – Не буду отнимать у тебя много времени и отягощать своими делами, – они теперь почти сплошь – земные…
– Говори! – пророкотал титан.
Царь Родам помолчал. Начало было неожиданным, в своих мыслях об этой встречи он готовился к разговору. Представлял, как поделится с высоким посланцем своими опасениями насчет того, что атланты – почти все – начали снижать уровень собственных возможностей, духовных и физических. И вдруг – такой поворот событий! Что же это: выходит, что и он, царь всего населенного земного мира, великий и непревзойденный, которому подвластны все, кого он желает видеть подчиненными, повелевающий не только земными подданными, но и стихиями с их невидимыми для землян духами, – и он тоже не может больше соответствовать эталону атланта, он, который есть само совершенство, космический посланец, бог?.. Бог – это для человеков – постарался он уточнить мысль, – на самом же деле – не совсем бог. Так, что-то среднее: полубог. И кто это придумал…
– Да уж, конечно, не ты, – Атлас перешел на мысленный диалог. – Тебе бы дай волю, так ты, пожалуй, и всевышним бы себя прозвал, что скажешь?
Царь Родам был сбит с толку. Пожалуй, это с ним случилось впервые в жизни. И – именно в такой момент!..
Непонятно было – то ли Атлас ни во что его не ставит, – опять? – одернул его вновь невидимый внутренний наставник, невесть откуда вдруг взявшийся, – или же он… Ну конечно, над ним подтрунивают!
– Пожалуй, оно-то еще серьезнее, чем я думал, – вновь подал голос Атлас. – Великое право – доверять своим ближайшим. Но, – если желаешь, чтобы дело составилось по-настоящему, так, как ты его задумал и направил, – нельзя отдавать его исполнение другим, хотя бы и самым-самым… Говорю это для тебя, царь, чтобы ты принял это к действию. Все делай сам. Только своей энергией, от начала до конца. Иначе будешь раскаиваться; как я сейчас раскаиваюсь в том, что оставил дело своих рук и мысли своей, поверив в то, что преемники мои доведут его до конца… И достойные все были, эти преемники, а вот поди ж ты! Аттитлан гибнет…
Царь Родам был потрясен. Гибнет! Атлантида гибнет, – верно ли он понял, не ослышался ли? Эти его смутные опасения, недовольство всеми вокруг – значит, они подсказывали ему действительно нечто страшное, что приближается, затягивая всех в какую-то паутину, из которой не вырваться?.. А он-то пришел сюда, чтобы пожаловаться милостивому Отцу на непослушных овечек его стада!
– Не прерывай меня, – напомнил условие Атлас. – Ты совсем разучился слушать. Да и понимаешь с трудом. Это – не в укор. Укоров не будет: поздно. Теперь надо суметь спасти то, что еще можно спасти. Садись и запоминай.
Родам оглянулся, ища, на что бы присесть, раз уж велит, но Атлас с неподдельным огорчением добавил:
– Мало того, что Фохат стал для тебя непереносим, – Фохат, высшая энергия, без которой немыслима сама жизнь, – так ты еще и разучился подставить под себя стул?!
Он махнул рукой – показалось, что на Родама с его возможностями, – однако стул, настоящий деревянный стул, хоть и простой, без резьбы, но добротный, появился подле царя. Тот, в конец пристыженный, но сохранивший внешнюю невозмутимость, поблагодарил Атласа и сел: взяла свое царская привычка не терять достоинства ни при каких обстоятельствах. Даже при таких, как встреча с Атласом.
Царь Родам глубоко, с затяжкой вздохнул, после чего его дыхание надолго приостановилось. Казалось даже, что оно исчезло вовсе, – но это только казалось: на самом деле функции дыхания перешли вместе с полетом сознания на высший, духовный план. Все его существо подчинялось теперь центрам, составляющим триаду верховного сознания, неподвластного земным, животным сигналам.
Внезапно мысль его, под воздействием огненной силы Атласа, обрела четкость и ясность – и легко полилась потоком считываемых сверх-идей, отличить которые от собственных всегда возможно не только по их несравненной глубине, но и по необычности формы:
– Во времена, теряющиеся в дали сотен тысячелетий планетного исчисления, когда из Зерна Жизни, проросшего на Земле, оплодотворенной Небом, развились и размножились сменявшие много раз друг друга виды, – один из них, наиболее опередивший своих сородичей по развитию заложенного в них содержания, был отмечен Советом Семерых как возможный объект дальнейшей эволюции.
Эволюция… Долго, долго еще невежество будет заключать это понятие в рамки развития физической формы, связывая с ее приспособляемостью к жизни развитие разума, или интеллекта, что в равной степени составляет физическое явление, призванное облегчить существование. Но разум – это всего лишь высшая земная ступень животного инстинкта, изначально приданного всему живому.
Нечто совершенно иное по качеству, вибрациям и возможностям – это сознание. То самое сознание, которое, будучи воспринято вначале хотя бы одним человеком, особь за особью, род за родом вводит все человечество в общую семью Космического Сознания, – великое Общее Поле взаимосвязанностей, где нет расстояний, нет самого понятия времени, ибо все в одном, и одно во всем, – но не в обособленности. Потому что здесь нет тайн. Допущенные в эти сферы прекрасно знают, что не существует такой тайны, которая бы не открылась, – она во мгновение ока станет явной для сознания, обратившегося к ней. Раз нет тайн, – значит, нет ухищрений, обмана, – и попросту зла как такового. Это Царство Истины. И все мировое содружество следует этому закону. Собственно, Закон – един. Множество частностей его, придуманных человеками – это всего лишь попытка расчленить великое тело Истины. А ведь если следовать всего лишь одному этому незыблемому правилу, – можно не задумываться об остальном в жизни…
Истина – это доброта и любовь Бога, заключенные в сердце человека, на какой ступени развития он ни стоял бы. И если это сердце открыто всему, что составляет жизнь, – Бог действует через такое сердце на мир, окружающий человека.
Но – в общей массе, – человек закрывает, почти неминуемо, сердце свое для добра, и, поддавшись неким вредоносным силам, внушающим ему думать только о себе, заботиться о себе – и трудиться, опять же, только на собственные потребности, сам себя этим человек отвергает от истинного благополучия, как земного, так и духовного, – ибо если закрыто его сердце для добра, которое есть одно на всех, то закрыто оно и для принятия в себя помощи Всевышнего, его животворящего луча…
Одним словом, эволюция Космоса – это то же, что эволюция сознания. А само сознание можно представить как одухотворенный интеллект. Цель велика: ввести человека в общее духовное поле, и дальше – дать ему возможность расширять свое сознание до уровня космического. Это – как бы цель-максимум на нынешний Великий Круг, который необозрим по количеству земного времени, но конечен с точки зрения Беспредельности, в которой эта эволюция продолжается.
Действительно, – каждому свое. И неисчислимы в Космосе уровни развития сознаний, как беспредельно и число атомов, несущих в себе зародыш первозданной жизни. Подобно любому семени, жизнеспособность атомов необычайно продолжительна. Ведь они, появившись на свет сразу после протонов, нейтронов и электронов, несут в себе, в закодированном виде, историю всей жизни во Вселенной. Историю не только прошлого, но и будущего, – того пути, по которому пойдет, должна пойти эволюция. Все это чрезвычайно просто, как просто все, что исходит от Истины: биологическое состояние любого организма зависит от того, каким образом простейшие атомы первозданных, стихийных элементов – например, воды или воздуха – образуют в нем сложные соединения.
Да, именно атомы представляют собой ископаемые Космоса, реликты Великого Огненного Начала…
Эволюция – явление всеобщее. Не только на уровне планеты, но и Вселенной – и выше, – она осуществляет потенциальные свойства каждой системы, от верха до низа. Эволюция, таким образом, это планомерная расшифровка генетического кода. Коды атомов, сочетающихся в строго определенные молекулы, дают жизнь бесчисленным их видам, сразу же образующим свои собственные, но также загодя спланированные задания.
Эволюция плотно-материального состояния так же не лишена порядка и красоты, как и эволюция всех других, более тонких, или «невидимых», как любят говорить на Земле, видов материи. Да, материи, ибо в мироздании все материально, но материя различна сама по себе. Материя более организованная, а, значит, и прошедшая свой путь эволюции с оценкой «отлично» (потому что двоечников в следующий класс здесь не переводят), достигшая уже определенной высоты в эволюции не только физической, но и, куда реже, – духовной, в силу своего высочайшего сознания добровольно берет на себя заботу о тех, кому предстоит еще только вступить на этот путь, – путь совершенствования, путь развития человеческих цивилизаций.
Ибо что такое цивилизация без сознания? Какой бы сверхразвитой интеллектуально она ни была, но стоит уйти из жизни носителям знания, – как исчезает все, исчезает даже из памяти народной. Что может остаться? Лишь несколько самых выносливых строений…
Да и те, утерявшие своих создателей, а с ними и секреты построения, вызывают в следующих поколениях лишь удивление и недоумение, – и ничего больше.
Конечно, в более отдаленные и просвещенные времена начнут понимать, видя их, что жили на Земле люди с поистине божественными возможностями, которые они стремились передать человекам, лишенным еще тогда искры божьей.
Но из животных в люди – путь непростой. Здесь необходима помощь со стороны. Непосредственная жертва…
* * *
Не впервые Картлоз приближался к Посейдонису морем, но каждый раз зрелище, которое открывалось глазу, было заново поражающим…
Корабль уже замедлил свой ход, чтобы дать возможность пассажирам, облепившим поручни всех трех палуб, насладиться панорамой. У капитанов Атлантиса была своя традиция: приостановиться как бы в изумлении перед тем, как на горизонте, там, где сливаются ярко-голубым цветом небеса и море, вечно сияющие и одинаково лазурные, начинало особенно посверкивать и блистать. И хотя не было ни на одном судне ни единого человека, который бы не знал доподлинно, что этот ослепительный свет исходит от орихалковой стены, окружающей Верхний Город, – средоточие и главный оплот Атлантиса, – а также от наверший его дворцов и храмов, капитан неизменно провозглашал в громкоговоритель голосом зычным и волнующе-низким:
– Атлантис! Атлантис, достопочтенные господа! Приближается главное чудо земли, город, по красоте и великолепию достойный своего создателя, великого титана Атласа, чье имя носим мы, жители этой благословенной земли, – и восприемника его могущественного бога Посейдона! Возблагодарим же небесных покровителей наших за счастливое плавание и благополучное прибытие к родным очагам. Гостей же попросим присоединиться к нашей благодарственной молитве и принести свою посильную жертву охраняющим нас богам, дабы и впредь они не лишали нас своей защиты!..
Картлоз, стоявший рядом с капитаном, с одобрением проводил взглядом золотой перстень с красивейшим сапфиром, который тот, показав всем в поднятой руке, с размаху бросил далеко в море. Этот перстень не давал Картлозу, в общем-то довольно безразличному ко всякого рода драгоценностям, покоя в течение всего плавания, а оно было долгим, и продолжалось полный месяц, если считать по старинному атлантскому календарю, – двадцать дней. Раньше, до Катастрофы, этот путь, говорят, проделывали шутя: каких-то четыре-пять дней от Тарса! Теперь же, когда мореплавание едва-едва возобновляется за столбами Мелькарта, – океан, сплошь забитый глубоководным илом и ставший вязким, как жидкая грязь, от рассеянного в воде и воздухе материка очистился, слава Единому, – от того же Тарса можно, идя сразу к северу, все по-над берегом, добраться до студеных полярных вод, которые (говорят же: нет худа без добра!) после исчезновения Атлантиды заметно потеплели. Будто и вправду, как утверждает капитан, теплое течение от самой середины земли Мус, не чувствуя теперь для себя преграды, вырвалось на свободу и направилось топить льды на северо-восток.
Картлоз усмехнулся: много им там дела, теплым водам, точить ледяные громады – это тебе не то, что согреть воду в кружке! Хотя – что ж, за последние пару лет, как он впервые сумел пройти этим путем, – изменения в тех местах огромны. Пожалуй, никакие расчеты не смогут дать полного прогноза очищения северных земель ото льда: так быстро, и еще с ускорением, идет процесс.
Конечно, в древности атланты знали, – с их-то возможностями! – что под северной ледяной шапкой, пусть и не сплошь, – но находится земля. Или огромный остров, или же материк. По всей вероятности, все же – последнее, иначе острову пришлось бы быть слишком узким и растянутым. Ведь полосу земли, освободившуюся от ледового панциря, еще голую и очень неприветливую (Картлоз даже поежился при одном этом воспоминании) проходили в течение нескольких дней. Он помнил, какая это была безрадостная пора: дул попутный ветер, но парусов не поднимали и шли машиной на самых малых оборотах: места совсем новые, лоций – никаких, хоть движение, слава Единому, здесь довольно уже оживленное. Все – благодаря атлантам из Посейдониса. Ведь доверять на море, – как, впрочем, и на суше, – теперь можно только им: все остальные, заводнившие Срединное море, принадлежат морским разбойникам, бродягам, потерявшим свою землю, как и многие другие, но избравшим для себя самый легкий путь к обогащению. Интересно, где же они обитают? Ведь должна же быть суша, на которой они могли бы обсушиться и обогреться, да и детей народить. Нельзя же без этого человеку, если он человек, конечно. Да и их эти ужасные заработки: для чего-то они ведь им нужны? Даже пропить их, и то нужно место на суше, где только и растет виноград, – из моря вина не выжмешь и не выпаришь…
Драгоценности, за которыми охотятся, в основном, эти бродяги, тоже нужно обратить в товар, или хотя бы в эти… каури, кажется, так называют маленькие красивые ракушки, которые вывозят только с одного места, – где-то на экваторе, чуть ли не посередине между Ливией, с ее восточной стороны, и Мусом, – с его запада. Незаметно, а смотри ты, дорожают эти белые, с коричнево-радужным переливом, и крепкие, как электрон, небольшие завитки, которые нельзя ни подделать, ни заново воспроизвести. Говорят, на тех островах их чуть ли не лопатой гребут, но монополию держат… А кто, собственно, в этом монополист?
Картлоз перебрал в уме всех известных ему в деловой сфере, кто мог бы придумать такое гениальное применение морским ракушкам, как всемирная форма товарообмена и, к тому же, наладить их вывоз при соблюдении полной тайны. Наконец он пожал плечами: при всей своей осведомленности в мировых торговых делах, он вынужден был признать свое поражение в этом, таком пустяковом с виду, случае. Он постарался отогнать от себя эту неприятную мысль, – и здесь его, восточного атланта, обходят. И кто? Знать бы… Почти наверняка – эти выскочки-коротышки из Ливии. Теперь уже и не поймешь, как их называть, и какого они родуплемени. Кто-то говорил, что они – не коренные жители ливийского побережья, хотя это и так понятно. Где сейчас сыщешь собственно коренных жителей? После того, как все земли, пригодные для жизни, заселены были беглецами из Атлантиды. Вот и эти, – Картлоз усмехнулся названию – финикийцы. Хотя сами себя они так не называют, а упорно зовут себя: ханаан, по имени своего родоначальника, которого, кстати, никто не знает. Хурры, которые когда-то исконно жили на всем побережье юга Срединного моря, теперь теснятся слабыми кучками то там, то здесь, в самых неудобных местах проживания. Зато все еще сохраняют свое лицо. Остальные из них, те, которые слились с пришлыми из Атлантиды племенами человеков, прикоснувшихся к жизни богов, и от этого ставших только спесивее, – те совсем потеряли память о себе.
Да, все смешалось в мире, а уж о чистоте крови и говорить не приходится…
Размышления его прервал капитан, жестом призвавший и своего почетного пассажира принять участие в жертвоприношении. Картлоз и виду не подал, что не видит смысла в этой пустой трате зачастую неповторимых по красоте и совершенству исполнения драгоценных изделий. Он вынул из одного отделения широкого пояса крокодиловой кожи загодя для этого случая припасенный прозрачный мешочек, не спеша, под заинтересованными взглядами сгрудившихся вокруг соседей, развязал много раз обвитую шелковую ленту на нем – и церемонным жестом, высоко подняв мешочек, высыпал его содержимое в море. Картина была прелестна: разноцветные камни, все ограненные или же просто отполированные, рассыпая вокруг себя снопы радужных искр, беззвучно и мягко, точно в растопленное масло, погрузились в зеленоватую, травяного оттенка и такую же прозрачную, как хризолит, воду. Здесь было довольно глубоко – как везде, где пронеслось огненное дыхание божьего гнева, – но дно уже обозначалось тем, что отражало солнечные лучи.
Дождь подарков богу Посейдону уже закончился, и Картлоз немного пожалел, что за своими думами пропустил зрелище редкой красоты. Но тем значительнее оказалось его приношение: всеобщее внимание теперь было приковано к разлетевшимся от удачного броска и долго еще видимым под водой камням купца.
– Эоэ! – зычно крикнул капитан. – Хорошее предзнаменование! Господин наш Посейдон принял все жертвы! Чувствуете ли вы радость? Это не ваша личная радость! Нет, это великий и могущественный изо всех богов, чью силу перенимают все, кто ступает на землю его острова, или хотя бы приближаются к ней с добрыми намерениями. Это Он одаряет вас своей могучей радостью, несравнимой по силе ни с каким земным чувством! Посейдон принимает вас! – и без всякого перехода он неожиданно изрек:
– Господа! Наш благословенный богом корабль в обратное плавание к Таршищу, или Тарсу, как вам будет угодно, отправляется через месяц. Через месяц, господа, день в день и час в час, мы отплываем обратно. Поспешите, кто еще не успел этого сделать, занять себе каюты поудобнее, хотя у нас все места, даже в трюме, где помещаются ваши грузы, удобны! Можете спросить у своих мешков и корзин! Ха-ха-ха!..
Под аккомпанемент раскатистого баса, усиленного рупором, матросы, предводительствуемые деловитым молодым помощником капитана, успели уже убрать паруса, а в последнюю минуту – и опустить крытую лестницу для удобства пассажиров. Сами-то они просто перепрыгивали через борт, когда это было нужно. Как сейчас, например: корабль шел впритирку к каменной пристани, а на ней уже ждали матросы, чтобы, подхватив концы, брошенные с носа и нормы, закрепить их на огромных бронзовых тумбах, впаянных каким-то чудом в красноватый базальт природного мола. Картлоз сверху наблюдал эту картину. Он не торопился сходить вниз, в толчею галдящей публики, отчего-то спешащей непременно в первых рядах сойти на землю. Можно было представить, как им опостылел этот корабль, в течение долгого месяца бывший им гостеприимным и устойчивым домом на ненадежной, текучей стихии.
– Ну что? – раздался бас капитана, и рука его дружески обняла Картлоза. – Не торопимся? Ну и правильно. Здесь, у нас, может, самое интересное только начинается! – и он слегка потряс своего привилегированного пассажира.
Картлоз поморщился от такой вольности: он не переносил фамильярности в любом ее виде, пусть она даже исходит от атланта, которому повезло родиться в северной части материка. Конечно, эти атланты сейчас контролируют всю населенную часть земного шара, но надолго ли? От знающих не скроешь, что вся их хваленая сила, их всемогущество, которым они так кичатся, – он пренебрежительно взглянул искоса на добродушного с виду капитана – заключается всего лишь во владении ими Малым Кристаллом…
Но привычка держать под контролем свои действия взяла свое. Спрятав мысли под дружелюбной улыбкой, Картлоз ответил хозяину своего временного дома:
– Я вот и подумываю: не остаться ли мне в моей чудной каюте, с которой я прямо-таки сросся за это время?..
– А что?! – взревел от восторга капитан. – Где ты найдешь еще такие условия?! – он подмигнул Картлозу и снова попытался обнять его, от чего тот увернулся. – Вот только придется на денек перейти в любую другую каюту. Хоть и капитанскую, – он простецки ухмыльнулся, – надо, понимаешь, уборочку произвести на всем корабле. Это – священная традиция, – после плавания очистить каждый уголок, отмыть все: стены, потолки и полы, чтобы можно было провести настоящий очистительный ритуал, – ну, ты знаешь, пригласим жрецов из храма Нептуна и все такое…
Рука его все порывалась к объятиям, и Картлоз не сдержался. Чуть более порывисто, чем было допустимо среди атлантов, он схватил эту широкую ладонь и припечатал ее к борту. Капитан детскими удивленными глазами посмотрел на него и обиженно спросил:
– Ты чего?..
– Да плечо у меня болит… – опомнился Картлоз. – Чирей вдруг выскочил… А ты все трогаешь и трогаешь! Прости меня за резкость, друг Дирей!
– Чирей?.. С чего бы это? Питание у нас было превосходным всю дорогу. Чирей – это неспроста. Вроде бы маленький такой, а зла творит много. Вернее, не сам творит, а рассылает из себя мириады врагов во все стороны организма, внедрившись в какую-то ослабленную точку.
И он даже откинулся, чтобы осмотреть Картлоза получше. Однако тот был уже и сам не рад: он забыл, что эти атланты не болели, и не просто так не болели, но знали секрет быстрого исцеления. Один из многих, исчезнувших из памяти его рода. Их-то и предстояло добыть Картлозу. Секреты, после Катастрофы ставшие недосягаемыми для восточных атлантов, отторгнутых от высшего Знания решением Совета Семерых.
Картлоз уже и не знал, как выйти из этого положения, когда вдруг его взгляд упал на руку Дирея.
– Что я вижу! – с неподдельным изумлением воскликнул он. – Твое замечательное кольцо! Так ты, значит, его не… Молчу, молчу!
И он картинно припечатал пальцы к своему рту, который все больше раздирался в ехидной улыбке: теперь Дирей был у него в руках!
Капитан быстро отдернул руку и даже завел ее за спину, – но было уже поздно.
– Что ты имеешь в виду? – в растерянности его голос как-то сник и потерял свои неподражаемые модуляции. – Кольцо? А что – кольцо?
– Да ты не опасайся меня, друг Дирей, – вкрадчиво заговорил Картлоз. – Покажи-ка мне свое кольцо… Ну, конечно, то самое, настоящее! Я так боялся, что ты не догадаешься бросить в море фальшивое! Ведь там, где ты бываешь, во всех этих лоскутках и обрывках, образовавшихся на месте когда-то единой империи, много всякой накипи всплыло наружу. И уж поддельные драгоценности – это еще не самое трудное и важное для тех, кто желает обогатиться любым путем, – он помолчал, разглядывая кольцо, запавшее ему в душу с первого взгляда на него, еще при посадке на корабль в Тарсе. – Береги его. Другого такого нет и не будет.
Он поднял голову от кольца, которое жадно разглядывал, пытаясь запомнить его, впечатав в сознание. Как его учили, готовя в эту поездку, от которой так много ожидали там, на родине, чье имя он носил…
– Вот я и берегу, – пробормотал капитан Дирей, – потому и не мог пожертвовать его милостивому богу Посейдону. Надеюсь, что он, зная все и понимая, не обидится на меня за это.
– Что это ты, как варвар какой, называешь великого бога то Посейдоном, то Нетуном? – перебил его Картлоз.
– Да все потому, что профессия у меня такая – ездить по всему свету, – Дирей все еще был скован, мысль о разоблачении, которое теперь зависит от этого мозгляка, лишенного благорасположения богов, точила его. – Знаешь ли ты, что Посейдон, да благословит его деяния Всевышний, до Катастрофы владел землей, да, да, именно землей?
– Ты шутишь, можно ли?..
– Эх, и отстали же вы, восточные, в своей изоляции! И времени-то прошло совсем ничего – если сравнивать с Историей, конечно, – а вы, я давно замечаю, совсем закостенели в тех границах, которые тесно сжимали вас и раньше. Но они-то ведь и привели к беде, да и не только вас! Ну, ты понимаешь, я говорю о характере, который определяет отношение к знанию. У вас, восточных, это сделалось…
– Мы, кажется, говорили совсем не о том, – холодно проговорил Картлоз, не глядя на собеседника.
Капитан Дирей осекся. Ему не надо было объяснять, что происходит – знание шестым чувством, слава Единому, не оставило его пока. Недаром им всем: морякам, купцам, просветителям, начавшим выезжать в тот, как бы затерянный, мир, строго-настрого запрещалось во всех контактах с простыми человеками ли, или же вот с такими вроде бы и атлантами, как этот высокомерный и хитроумный восточник, упоминать о Катастрофе. А тем более – распространяться о причинах, вызвавших ее: об этом говорить можно было только со «своими». Уже не раз капитан Дирей убеждался в правильности этого запрета, что особенно касалось таких, как этот, твердолобый. Вот уж поистине верно это их определение: лишение божественных даров выразилось у атлантов, преступно с ними обошедшихся, лишь в одном, но зато стоящем всей земной жизни: боги закрыли в них потустороннее видение, третий глаз, находящийся во лбу. Атлант, лишенный этого дара, становился просто человеком, – нo гораздо хуже: со своими-то не забытыми претензиями…
– Ах, да, мы отвлеклись, – в голосе капитана появилось что-то наигранное, с чем он не мог сладить, но в двух словах вопрос о Посейдоне-Нетуне заключается в том, что…
– Ну, хватит! – зашипел Картлоз и сдавил руку Дирею. – Отдай мне свое кольцо – и никто не узнает о твоем преступлении!
– Ты чего это? Какое преступление? Да у меня этих колец знаешь, сколько? И все настоящие! Пойдем, покажу! Пойдем, пойдем! Ишь, расшумелся! Стража, ко мне!
И капитан пронзительно засвистел в серебряный свисток, постоянно висевший у него поверх блузы, в отличие от амулетов, которые принято было носить прямо на теле.
Но его гость внезапно весело рассмеялся, приведя этим могучего, но простодушного атланта-капитана в некоторую растерянность. Он не мог взять в толк, как это можно было, после всего того, что было тут говорено, – и даже не в словах дело, а в том, что прочувствовал капитан, – так искренно смеяться и вообще делать вид, что ничего не получилось! Слава Единому, который надоумил капитана: послал силу, а вместе с ней и нужные слова, чтобы отвести, если не беду, то целый комок неприятностей…
Картлоз, между тем, чуть не захлебывался от смеха. Он все порывался что-то сказать, но смех, который должен был доказать капитану его искренность, не давал прорваться ни одному слову. Капитан уже несколько отстраненнее, как и полагалось это с самого начала, наблюдал за конвульсиями своего собеседника, когда вдруг вспомнил о своих дальнейших действиях, предписываемых всеведущей инструкцией. Эта инструкция была накрепко впаяна в сознание тех из атлантов, кои уже утеряли естественную связь, непринужденный внутренний диалог между собой, не говоря уже о выходе на Высший План. Она служила как бы напоминанием: в жизни случается не только доброе и открытое, но есть и оборотная сторона этому. И ты, коль скоро вышел на уровень общечеловеческий, в какой-то степени затемнив таким образом свое сознание, должен, общаясь с другими, – будь то человеки или даже твои собратья-атланты – находиться постоянно в боеготовности. Во всех странных, сомнительных для тебя случаях ты можешь безоговорочно передавать свое сознание вверх по Иерархии, – там уж разберутся, что к чему, и укажут тебе, как действовать дальше.
Капитану Дирею, плававшему с самого открытия сообщения между исконной Атлантидой и новыми землями, еще не приходилось прибегать к этому способу. Каждый раз гордость или, скорее, уверенность в том, что можно справиться и собственными силами, удерживала его от дачи условленного сигнала. Но на этот раз он чувствовал, не стоит дожидаться обстоятельного разговора на берегу, в тихом полуподвале каменного дворца. Разговора, бывшего, по его мнению, пустой формальностью, своеобразным отчетом каждого капитана, который надолго выходит в мир, ставший враждебным не только атлантам, но и самому себе.
В этом же случае было нечто, настолько противное самому естеству капитана, в общем-то не гнушавшегося земной жизни, что он вдруг осознал: здесь большая опасность. И опасность, грозящая не ему лично, – об этом не стоило бы и говорить, – но чему-то большему и высшему, чем он один, самому принципу атлантизма, что ли…
Впрочем, капитан Дирей не формулировал так четко своих мыслей. Достаточно было и того, что была создана сама эта идея, – а уж передача ее наверх – она совершалась автоматически, или сама собой, как говорили атланты, не любившие употреблять понятие «автоматизма» в отношении собственного, сверхразумного сознания.
Но, так или иначе, а сигнал был дан. И пока капитан с удивлением, похожим на иронию, взирал на корчи этого своего пассажира, которому он чуть было не открыл своего сердца (вот до чего может довести излишняя доверчивость ко всем, кого ты хочешь почитать за единомышленника!), через его сознание, нисколько его этим не отягощая, – наблюдатели извне вели свой контроль за происходящим. Теперь капитан Дирей мог быть уверен, что не попадет впросак: начиная с этой минуты все, что бы он ни сказал и ни сделал, неощутимо подсказывалось ему кем-то, кто знал больше и видел дальше.
Если бы кто-нибудь сказал ему о насилии над собственной личностью, вряд ли капитан его бы понял. В среде атлантов подобная передача сознания вышестоящим считалась вполне нормальным явлением, и даже была желаема рядовыми атлантами. Условия жизни менялись быстро, борьба с противоположными силами оказалась труднее, чем ожидалось когда-то, и приняла затяжной характер; атланты, все более входившие во вкус земной жизни, уже не всегда бывали уверены в правильности своих поступков и с готовностью обращались к тем, сохранившим чистоту сознания, за направляющим руководством. Пример ужасающего взрыва для всех был напоминанием о том, к чему может привести отрыв от Высшего руководства, которому Единый План, без сомнения, ведом если и не полностью, то в гораздо большей части. «Я сам, я сам», – твердит гордец, и эта самость заводит его совсем не туда, куда бы ему самому хотелось…
Тем временем Картлоз, видя, что его смех вызывает у капитана лишь недоумение, проговорил, вытирая слезы душистым белоснежным платком:
– Ну ты меня и насмешил, друг Дирей! Вы что здесь, все такие?
– Какие? – вежливо переспросил капитан.
– Серьезные! Шуток совсем не понимаете…
– Какие-такие еще шутки? Ты ясно выразился, – и все тут!
– Да пошутил я, слово даю, а ты уж и поверил! – и Картлоз снова прыснул смехом, явно собираясь продолжить припадок показной веселости.
– Я твоих шуток не понимаю. Но ты учти на будущее, раз уж прибыл в Атлантис и собираешься заводить дела с нами: такие шутки тебе могут обойтись очень дорого в следующий раз. Ты что, забыл цену слову? Сказал – и оно отпечаталось. Доказывай потом, что ты «пошутил»!
– Ну я прошу тебя, Дирей, давай забудем об этом, если тебе неприятно. Мог ли я думать?..
– Должен был бы… – пробормотал Дирей, и повернулся, собираясь отойти.
– Постой, постой! – схватил его Картлоз за край капитанской белой с синими полосами по краю туники. – Мы ведь не можем так расстаться: дай мне слово, что не обижаешься на меня.
– Слово? – удивился Дирей. – Мы словами на ветер не бросаемся.
– Ну, хоть пригласи меня еще раз остаться на своем корабле.
– Сделай одолжение, – безразлично ответил ему Дирей, осторожно освобождая свою одежду от назойливых рук Картлоза, – только не трогай меня руками. Ты забываешь, что мы этого не любим.
– И чего это ты все время говоришь о себе во множественном числе?
– Потому что мы – это действительно «мы». Мы все, атланты, – он нехотя поправил сам себя. – Истинные атланты.
Картлоз остановился; Капитан, обернувшийся к нему, успел поймать какой-то непонятный ему, но отталкивающий блеск в его огромных черных глазах. Самопроизвольная дрожь прошла по телу Дирея, такому большому и сильному, доказывая собой его проницаемость для внешних воздействий. Однако, к счастью, это была всего лишь реакция его ауры, отторгнувшей от себя злую силу, исходившую от медоточивого лже-приятеля.
Тут же гримаса боли, которую невозможно было сдержать, исказила черты Картлоза. Согнувшись чуть ли не вдвое, он схватился за правый бок, и дыхание его зашлось. Капитан оказался в двусмысленном положении: с одной стороны, ему полагалось бы, как хозяину дома, где случилась с гостем болезнь, проявить соболезнование и вылечить друга. Но, с другой стороны, это был вовсе не друг, и теперь, когда проявилась его сущность, к нему прикасаться нельзя было, а не то что лечить. Ведь для исцеления другого всегда потребна энергия собственного сердца. Это не возбраняется правилами, как было известно Дирею, но только в случае, если энергии, которые неминуемо придут в каналы целителя по закону обмена: я – тебе свою чистую энергию, ты мне – отработанную, если эти привходящие энергии не будут совсем уж обратного свойства по отношению к твоим собственным. А именно это и наблюдалось сейчас. Капитан нисколько не удивлялся тому, что он столько времени общался с этим восточником, – да и не только с ним, – не ощущая никакого урона для себя. Он знал, что урон, который неминуем при любом общении атланта с излучениями ниже по уровню, легко восстанавливается из Вселенского Источника, если только нет перерасхода. А перерасход получается лишь в единственном случае: если твоя сила уходит как в бездонную бочку, пытаясь заменить собой, своим светом, всю тьму мира, – что невозможно. Потому так упорно советовали жрецы-наставники всем, выходящим во внешний мир, не растрачивать драгоценной силы, дарованной им, на потребу врагам.
Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не появился над палубой мальчик-юнга, подобранный Диреем в порту Тарса и приставленный к делу: паренек был на побегушках. Вот и сейчас, не успев высунуть голову из служебного люка, он затараторил:
– Господин мой, тебя срочно требуют в таможню! Слышишь, иди скорее!
Капитан взглянул на все еще не распрямившегося Картлоза и сказал, стараясь смягчить свой трубный голос:
– Что с тобой случилось?.. Ну, ладно, – мне сейчас, видишь, надо идти, а к тебе я пришлю врача. Договорим после, когда поправишься, – и он сделал знак юнге остаться с больным.
Вздох невольного облегчения вырвался у него, едва он спустился на несколько ступеней, скрывших его от вида Картлоза. Прогрохотав как можно громче по металлической лестнице, чтобы тот слышал, как спешит капитан по важным делам, он другим ходом прошел в свою личную молельню, – крохотную каютку, примыкавшую к его роскошному жилому помещению, – и, запалив лампаду, припал к подножию небольшого золотого изваяния. О чем была его беседа с почитаемой им Всемирной Матерью – осталось навеки неведомым. Но из молельни капитан вышел сосредоточенным и спокойным, казалось даже, что он потерял свою знаменитую беспечность.
Но это только так казалось. Ибо на самом деле капитан не потерял ничего, но даже приобрел. Приобрел ясное понимание происходящего вокруг, – не только вокруг собственной персоны, но гораздо шире и глубже; приобрел уверенность в том, что способен возродить в себе основную силу – владение мыслью и способность мыслить сообща.
Его помощник, которому пришлось самому явиться за патроном, – как будто у него своих дел мало, – застал капитана за переодеванием. Не пристало младшему, хоть по званию, хоть по возрасту, задавать вопросы старшим, но не сдержался Диреев помощник:
– Вы что тут затеяли?! Небось, не на бал вас зовут…
– А вот как раз и на бал, – усмехнулся было капитан. Но тут же, соблюдая ранжир, гаркнул, как на верхней палубе:
– Молчать! Кругом – и вперед… ма-а-арш!
И помощник, молодцевато выпятив грудь, бодро зашагал. Он не смея больше и думать о том, почему же все-таки его хозяин надел свою лучшую тунику, расшитую руками сумерских мастериц, которую он купил, нещадно торгуясь, за баснословную цену – мешок раковин каури, и обновить собирался только в день свадьбы сына. Впрочем, представилось ему, это и к лучшему: взойдет сейчас капитан Дирей, такой представительный и великолепный в своей новой тунике, в этот галдящий закуток, таможню, из которой два выхода: или в рай Атлантиса, или же в загородку для отсылаемых по разным причинам обратно, – и все успокоятся. Чиновники – оттого, что вновь зауважают легкомысленного Дирея, а задержанные, – те просто напросто онемеют при виде чуда: капитана в образе – ни меньше, ни больше, как морского божества, принявшего облик их шумливого и простецкого хозяина в своих, одному ему известных, божественных целях.
И вот так с атлантами всегда, – думал помощник капитана, уроженец Расена, что в предместье Атлантиса, и сам расен, – только успеешь найти с кем-либо из них общий язык, понахвататься каких-никаких навыков, – глядишь, он и оказывает себя как истинный хозяин жизни, до которого тебе, хоть ты лоб расшиби, а не дотянуться. И поделом тебе, глупый ты человечишко. Знай свой шесток и не принижай бога, хоть бы он и был во временной опале…
Радмил, так звали проворного и сообразительного расена, вопреки своим самоуничижающим размышлениям, шагал бодро и даже весело. Словно заряд, наполнивший его молодцеватостью в капитанской каюте, продолжал действовать и даже возрастать, стоило ему отдать должное непревзойденным качествам своего кумира.
Пообещав себе больше никогда не умалять дистанцию между собой и своим богоподобным капитаном, Радмил вступил в помещение таможни. Он сразу же был огорошен яростным криком чиновника:
– Где этот твой?.. Чего ты его не притащил сюда? – Что он мне, докладывает, что ли? – легко поддался настроению разъяренного чиновника Радмил. – На аркане же не притащу его. Как ты думаешь, такого…
Он вовремя осекся. Что ж, человеки так забывчивы…
* * *
Судовой врач, зашедший в каюту Картлоза, видимо, даже не собирался к нему притрагиваться. Он стоял, причесанный и принарядившийся, готовый к сошествию на берег – приказ капитана, конечно, застал его в последний момент. Картлоз искоса взглянул на него, такого спокойного и безмятежного, и злость, поднявшаяся изнутри, заставила его сжать зубы: так красив и безупречно здоров был этот лекарь! Разве он в состоянии понять больного и посочувствовать ему!..
– А вы что же, хотели бы, чтобы все, окружающие вас, мучались вашей болью? – раздался вдруг голос молодого человека. – Неужели вам от этого было бы легче?
– Что вы тут выдумываете… Я ничего не говорил. Оставьте ваши домыслы…
Врач взялся за табурет, опрокинутый Картлозом в пароксизме боли:
– Позволите присесть? – спросил он.
Картлоз судорожно отвернулся и застонал сквозь стиснутые зубы. Врач осторожно поставил табурет на ножки, но не стал садиться. Задумчиво он проговорил:
– Вылечить вас будет непросто…
– Ну так лечите же!..
– Для начала вы должны успокоиться. Облегчение придет, не волнуйтесь, ждите его.
– У меня все внутри разрывается, а вы только и делаете, что беседуете… Ну и методы у вас, здешних!
– Что ж, у каждого – свои методы. Мы своими вполне довольны, но если вы не желаете воспользоваться ими, – ваша воля. Могу и уйти.
– Ну и убирайтесь к… У вас даже выругаться – и то нельзя! Хмерти! Куда я попал! Оставьте хоть чтонибудь обезболивающее… Питье, или пилюлю… Ну, надавите же, в конце концов, где надо, чтобы перестало болеть!
Врач, помедлив, достал из поясного кошеля приготовленное лекарство и молча положил его на маленький круглый столик возле лежанки, на которой больной, уже не в силах сдерживаться, катался с боку на бок.
– Вот, примите, – тихо сказал он и отошел снова к двери. – Как правило, мы лекарствами не пользуемся, но вам сейчас не поможет сам господь…
– Но почему?
– Потому, что вы сами этого не хотите.
– Я?..
– Именно. Потому я и держусь от вас на порядочной дистанции: немудро вас вылечить, а самому заболеть, ведь правда?
– Вот оно, ваше хваленое бессмертие! Можно прожить тысячу лет, если так дрожишь за свою шкуру!
– Вы ошибаетесь. Спорить я с вами не имею права, а говорю только потому, что должен вас предупредить кое о чем.
Картлоз и сам не заметил, как поднялся с лежанки. Оправляя за узкий кожаный с серебром пояс свою черную шерстяную рубаху, он проговорил, все еще сбиваясь на крик:
– Какая забота! И чему обязан?
– Рад, что вам лучше, – голос врача был неизменно ровен. – Теперь садитесь и выслушайте меня.
Машинально Картлоз сел. В удивлении от того, что не чувствует больше никакого страдания, только что отнимавшего у него самое желание жить, он ощупал руками свой бок, покрутился вправо-влево, выделывая конечностями замысловатые движения, доказывающие его полное выздоровление, пока наконец не свалился с неустойчивого табурета. Благо, что полы в его каюте были застланы пушистой обивкой, не только уничтожающей на себе пыль и мелкий мусор, но и амортизирующей при ходьбе или падении, как сейчас. Безличная сила мягко подняла его в воздух и поставила на ноги, – так, что самому горе-акробату осталось всего лишь выпрямиться.
Врач невозмутимо наблюдал за упражнениями своего пациента. Наконец он проговорил:
– Успокоились?.. Ваше самочувствие удовлетворяет вас?
– О, дорогой друг…
Врач неуловимо отклонился от объятий, которые должны были показать меру благодарности Картлоза, и голосом, не допускающим никакой фамильярности, начал:
– Вижу, что вы поняли основной принцип исцеления, который мы применяем. Не буду вдаваться в подробности, которые вас только утомят, но обязан сделать кое-какие разъяснения. Вы вступаете на территорию Атлантиды, и должны теперь постоянно соразмерять не только свои поступки или слова, – но и самые мысли с той атмосферой благожелательности, которой, вы скоро это почувствуете, напоена эта земля. Придется погасить в себе некоторые привычные вам, как представителю расы, приведшей материк к гибели, импульсы. Буду говорить прямо: это импульсы, обратные самому качеству энергий нашего острова и всех, кто живет на нем. Злоба и недоброжелательство в любых видах могут породить взрыв энергий, хотя бы на самом личном уровне. Вам понятно?
– В общем-то да, но насколько это относится именно ко мне, не знаю…
– Сейчас поймете. Удар, который вы получили – не преднамерен. Кто-то, чья энергия сильнее вашей, потому только, что более очищена (и тут и дальше я пользуюсь и буду пользоваться моральными категориями, вы понимаете?), отослал вам вашу же мысль. О качестве ее можете судить по той боли, которую вы испытывали недавно.
– Но, позвольте, со мной такого никогда не было. А ведь если это «моя мысль», как вы утверждаете, это означало бы, что я должен бы был испытывать нечто подобное все время, постоянно. Не так ли?
И Картлоз картинным жестом предложил врачу ответить. Тот невозмутимо продолжал свое:
– Собственные мысли никогда не мешают тому, от кого они исходят. Но, отторгнутые защитной сетью ауры, в которую они были посланы, эти мысли с удесятеренной силой несутся обратно, по закону бумеранга. О результатах не стоит говорить.
– Что же – допустим, что это все так и есть, – мне нельзя вообще ни с кем беседовать здесь? Может, посоветуете запереться в этой каюте и в страхе дожидаться, когда этот корабль отправится обратно?
– Язвительность в тоне Картлоза достигла предела, хотя он и пытался скрыть ее улыбкой.
– Ваше право поступать так или иначе.
– Вы что, серьезно?
– Более, чем вы думаете. Исцеление ваше, которому вы свидетель, – не навсегда, к сожалению. И не вините в этом никого, кроме себя.
– Опять какие-то загадки!
– Для того, чтобы эти «загадки» стали вам понятны, потребовалось бы много усилий с вашей стороны, не говоря о времени. Я пытаюсь вам объяснить хоть что-то лишь потому, что вы – происхождением из атлантов. Между прочим, не думал, что Знание утеряно вами в такой полноте. Конечно, может быть, высший клан, если он у вас сохранился, держит в тайне от общей массы основы бытия, – но зачем? Народ должен быть здоров в первую очередь, – и это не так уж трудно сделать…
Картлоз резко отвернулся от собеседника к окну. Его руки, сцепленные за спиной, яснее слов выдавали волнение своего владельца. Наконец он сказал голосом, неожиданно охрипшим и усталым:
– Вы правы. Мы забыли все. К чему вспоминать, что было, если сейчас мы вынуждены искать по миру секретов не то, что плавки металлов, – об этом вообще никто, кроме вас, не знает, – но даже того, как строить корабли. Правда, апсны, или абиссины, владеют этим ремеслом, но так они и живут на побережье моря.
– Но зачем вам корабли? В горах…
– Завоевать побережье – дело не такое уж хитрое. Если бы у нас был секрет плавки сверхметаллов для постройки летающих машин и… – Картлоз замолчал.
– Договаривайте же, – чуть заметная ирония прозвучала в невыразительном до того голосе атланта. – Для создания снарядов, способных устрашить своей взрывной силой этих несчастных человеков, на которых вы всегда вели охоту? Так ведь?
– Если и так, то – вы правильно заметили: для устрашения. Всего лишь для устрашения. Зачем напрасно проливать кровь и с одной, и с другой стороны, когда можно вполне мирным способом достичь соглашения. Слабый должен подчиниться более сильному. Разве вы не согласны с этим?
– Это уже не философия, – это отдает казуистикой. Разговор наш вышел за рамки приемлемого. Я всего лишь врач, пришедший к вам оказать помощь, – вы не забыли? Так же, как и предостережения в отношении ответного удара.
– Да-да, ответный удар – это реально. Так научите же конкретно: чтo и как мне надо делать, чтобы не подставлять себя под эти ужасные стрелы?
– Повторяться – не в наших правилах. Но на всякий случай – сохраните эту пилюлю, – врач кивнул на крохотный шарик в упаковке, – как я понимаю, она вам вскорости пригодится. Но – имейте в виду: это не панацея, это всего лишь мгновенно снимает боль, сама же болезнь остается и прогрессирует.
– Но меня интересует именно сама болезнь!
– Постарайтесь для начала успокоить себя, – голос врача потеплел, – и не думайте о самом себе слишком много. Знаете, чрезмерная забота о себе-драгоценном приводит только к тому, что сознание замыкается для принятия чего-то ценного из остального мира. А он превосходен, заверяю вас.
– А если думаешь не столько о себе, сколько о собственном городе? О его бедах?
– Как это ни странно, но это одно и то же: что о себе самом, что «только» о своем народе. Остальные вроде бы и не существуют, если следовать этому выбору. А если подумать и о них, других?
– Но ведь они, эти «остальные», они ведь так примитивны! Посмотрите на их быт хотя бы! Они ведь живут, как скот, и часто еще хуже, ибо заботятся о скоте больше, чем о своих нуждах! Вы что же, советуете им уподобиться? Забыть обо всех достижениях своих предков, забыть и не стараться восстановить традиции более высокие, неземные?
– Вы сами сказали: «мы забыли все»… И это ваше высокомерие, не будет ли оно возвращать вас снова и снова к изоляции космической, которая есть не что иное, как обязанность осознать свои ошибки?
– Хотите сказать слово «карма»? Что ж, мне знакомо оно. Не раз слышал. Но не считаю эту доктрину скольконибудь реальной. Извините, но это сказка, а жизнь обнажает все, что есть на самом деле: сущность каждой вещи.
– Наша беседа грозит превратиться в спор, а это бесцельная трата энергии, хотя бы потому, что время – тоже энергия.
– Однако, как же можно выяснить истину, если не в споре?
– Истину каждый должен находить сам, обратившись к себе.
– Извините, не понял, как это. Знаете, мне приходится все растолковывать, вы сами видите!
Терпение атланта было бесконечным или казалось таковым. Картлоз и не предполагал, что играет с огнем, слегка нервничая с этим непробиваемым лекарем, по привычке, которую уже и не осознавал. Так было принято в его среде: идти напролом везде, куда тебя пускают и не пускают, не считаться ни с какими чувствами и соображениями, если они не продвигают к цели. Однако сейчас он смутно начинал понимать, что эта стена – не равнодушия, но какого-то исконного, природного спокойствия – неодолима для него. Никакими наскоками и атаками невозможно было ее пробить. Тут нужен был другой ход…
– Все очень просто. Надо почаще думать. Обо всем, что окружает вас, что происходит. Только так приходит понимание многих вещей, которые казались вовсе вне разумения, – продолжал врач.
– Но… я ведь, кажется, думаю.
– Обычно, – это касается человеческого мышления, да не будет это для вас обидным, – думают как-то мельком: мелькнула мысль и пропала, извините за каламбур. Затем появилась другая – и тоже исчезла. А вот когда заставишь себя додумывать мысль, как бы она ни ускользала, тогда только можно начать овладевать умением мыслить. Таким способом открываются все запоры, все тайное.
– Ну, уж это вы перегнули, пожалуй!
– Попробуйте! Сами убедитесь.
– И насчет тайн тоже? Прямо-таки раз – и откроются?
– Конечно, не на «раз». Может, и не на счет «десять», – это уж, знаете, кто на что способен. На каком порядковом уровне находится его основание, и каков тот трамплин, который дает взлет сознанию.
Картлоз видел, что задерживает врача, но какая-то сила понуждала его еще и еще задавать вопросы, которые и самому ему казались глупыми, и тянуть время. Это было непонятно, потому что он заведомо знал: все зря, и вот так, походя, невозможно было бы ничего узнать, а тем более запомнить. Но могучая притягательность этого гиганта против его воли действовала как магнит, который Картлоз видел как-то в рулевой кабине у капитана…
– Вижу, что вы спешите, но не могу расстаться с вами, – вырвалось у него признание, – так необычно все, о чем вы говорите. Нельзя было бы нам продолжить беседу в другой раз? Мы, собственно, даже не познакомились, – видя, что атлант не торопится с ответом, Картлоз затараторил, стараясь сбить его с толку и подчинить своему желанию. – Я – Картлоз, купец из страны Картилии, прибыл сюда по приглашению уважаемого Гана, для торговых переговоров. Жалею безмерно, что не удосужился беседы с вами во время плавания, – что бы мне заболеть еще тогда? – и он засмеялся, довольный своей шуткой.
– То, что ни один из обитателей этого корабля не болел во все время плавания, – веско сказал врач, – большая похвала моей работе, и я благодарю вас за то, что вы ее отметили. Собственно этой работы никто не ощущал, ведь правда? – не дожидаясь ответа он продолжал чуть оживленнее, чем до того, и можно было понять, что работа – его основное увлечение, и даже больше – смысл всей деятельности. – Вот и хорошо. Если сообщество, доверенное врачу, посещают болезни, значит, он не в состоянии держать равновесие в нем, – в каждом его члене в отдельности и во всех вместе.
Врач помолчал, пристально глядя на Картлоза, от чего тому захотелось вдруг отвести глаза, и закончил:
– Вы же заболели, потому что я выключил защиту, как только корабль пристал к берегу: моя миссия на это плавание закончена.
– А могу ли я надеяться, что обратным рейсом встречусь с вами?
– К сожалению, не могу ответить определенно. Это зависит не от меня.
– Но предполагать-то вы можете?
– Предполагать – да, но не высказываться о своих предположениях.
– Вы меня совершенно очаровали. Подобного разговора у меня не было, пожалуй, за всю мою жизнь, – задумчиво сказал Картлоз и встрепенулся. – А как же мне найти вас? Ведь даже имени своего вы мне не подарили…
– Эсмон. Так меня зовут здесь.
– Мне знакомо ваше имя… Но не припоминаю…Здесь, – говорите вы, а там, – как вас зовут там, в мире нашем?
– О, по-разному. У нас, здешних обитателей, много имен во всех странах. В каждой – свое. Что ж, это и понятно: та Катастрофа, она ведь не только уничтожила общую для всех землю. Чуть ли не каждая семья, вынужденная пробиваться в новых местах в одиночку, образовывала сперва собственное наречие, а затем и свой язык…
– Кроме нашего, картилийского, – быстро вставил Картлоз. – Согласитесь, что он – основа всех языков.
Эсмон поморщился: у него дрогнул уголок губ.
– Опять вы за свое. Я решил уже, что вы достаточно осведомлены. Что же касается нашей возможной встречи, – ваш знакомый, Ган, знает, как меня найти.
И приподняв ладонь в знак расположения, Эсмон повернулся к двери лицом. Картлоз шевельнулся было, чтобы отворить ее перед гостем, оказавшимся столь необыкновенным, – он успел вспомнить, что Эсмон, Эшмун, Эскулап и многие, многие другие – это все имена божественного отпрыска, Бога, владеющего жизнью и смертью всех, совершающих круг рождения. Великий сын величайшего из величайших – бога Апплу, или Аполлона, удостоил его чести беседовать с ним. Картлоз только хотел сказать ему, что престарелый дядя его называл Аполлона в числе своих дальних родственников, но дверь открылась сама собой, пропустила Эсмона, как бы истаявшего мгновенно за нею, и мягко затворилась.
Картлоз с опозданием бухнулся на колени: он помнил, что так поступают те, кто почитает это святое семейство и желает выказать ему свое уничижение. Однако, по правде говоря, никакого особенного почитания Картлоз не испытывал. Встав с колен, он подошел вплотную к двери и сказал ей:
– А что я, хуже? Ну-ка, открывайся!
Но дверь, крепко прикрытая, бездействовала.
* * *
Сознание включилось сразу, едва он проснулся.
Да, как это было ни удивительно, но он спал! Крепко и без сновидений. Впервые за все время, проведенное на горе Мери, царь Родам заснул.
Впрочем, несколько дней без еды и сна ничего не значили для атланта, а тем более – готовившего свой организмк принятию высших энергий. Это было неспроста: информация, которую ему должен был передать Атлас, видимо, была такой напряженности, что его воспринимающий аппарат временно выключили, дабы оградить от сгорания. Все это было понятно и объяснимо: никто из внеземных руководителей не желал бы сожжения тела своего земного сотрудника посредством пожара его тонких энергетических центров. Ведь то, что с легкостью может выдержать огненное зерно в своих сферах, часто оборачивается гибелью для тела физического. Но иного пути нет. В том и состоит главная трудность, что для соединения с высшим огненный дух должен неминуемо пройти через плотную, земную оболочку, хоть она и неприспособленна к огню до времени.
Опасно нести в своем теле огонь. Для того чтобы он стал неопалимым, должно и само тело стать другим, как бы и неземным, огнеупорным в каждой своей клетке…
Не открывая глаз и не меняя положения, он для начала решил выяснить, где находится: от Атласа можно было ожидать всего самого неожиданного. Так и оказалось.
Вокруг было полностью замкнутое пространство. Не считая наглухо закупоренной двери в одной из стен, если это можно было зазвать стенами – никаких швов или стыков между ними. Это, без сомнения, был монолит, однако и не бетон. Камень, определил царь Родам, но камень не просто сложенный плитами, на что такие мастера были атланты. Нет, это было помещение, вырубленное в скале.
Выяснив это обстоятельство и отложив его на второй план, царь взглянул на себя. Он был совершенно невредим, чувствовал себя превосходно. Правда, как оказалось, он лежал в «позе зародыша» – на левом боку, соединив руки и притянув ноги, согнутые в коленях, к опущенной голове. Из инстинктивного ощущения он не стал шевелиться: надо было освоиться в новом месте, осмотреться по-настоящему, понять, что к чему, и лишь только потом можно было открываться; он не сомневался, что за ним наблюдают.
Итак, это была пещера. Но пещера искусственная. Он знал несколько таких мест, где спасались от дикарей жалкие потомки уцелевших атлантоидов. То были целые поселки, вырубленные в неприступных горах, на лицевой стороне отвесной скалы. Однако все они находились далеко от Посейдониса, на противолежащих материках, тогда как у царя Родама было ясное ощущение токов острова, где он родился.
С другой стороны, на Посейдонисе не было, насколько он знал, никаких пещер. То есть, конечно, они были, но эта, в которой он так неожиданно оказался, находилась на поверхности земли: луч царя, как радаром просматривая все кругом, неизменно находил воздух, воздушное пространство на каком-то расстоянии от каменных стен.
И снова царь отложил в сторону, как не готовый к разрешению, вопрос о том, где же он находится. В любом случае ему надо было беречь силы, а напрасные умствования могли бы сейчас только пережечь уйму энергии, так и не дав ответа, время для которого еще не наступило.
Он пошел по пути наилегчайшему – стал примерять свое нахождение к тем пещерам, о которых подумал было в первую очередь: достояние и великая тайна атлантов, государственные подземные склады и жилые помещения царской семьи. Это занятие было сейчас, по крайней мере, полезным в том смысле, что, осматривая подземелья, он одновременно с поисками собственного местонахождения делал как бы ревизию их состояния.
Дело было в том, что остров Посейдонис был в основании своем скалой колоссальных размеров, покрытом синекудрым богом, заботливым к своим чадам, землей, плодородной, тучной, которую прорезала широкая река, до того прямая и полноводная, что ее иноземцы считали за канал. Быть может, этому мнению способствовало то, что от этой реки (которую племена, жившие по ее течению, называли по-разному, искажая каждый на свой манер ее для всех единое имя «Сморода») исходили многочисленные, маленькие и побольше, канальчики, своей сетью покрывавшие в строгом порядке всю поверхность долины Э-неа вплоть до подножия гор. Сморода, Самород, Смарагд или Самара была поистине чудом этого острова, ибо была исторгнута из одного горного ущелья самим богом Посейдоном, прикоснувшимся к земле своим знаменитым, только ему присущим, трезубцем. Великий бог подарил своим подопечным не ручей, способный утолить их жажду и дать мимолетную прохладу, нет. Дар его был поистине божествен: из недр острова вырывалась могучая река, своим неторопливым движением к морю снабжавшая священной водой в избытке всех, кто в ней нуждался. Удивительное дело: Сморода оставалась такой же полноводной, от истоков до устья, даже тогда, когда атланты, искусные, как никто, мелиораторы, прорыли Большой обводной канал, не только напоивший предгорья, но и ожививший сообщение между селениями.
Атлантис слыл не меньшим чудом, чем река: этот поистине необыкновенный город был весь, начиная с верхнего яруса, где обитал царь и ближайшие из его семьи, и кончая пригородами, вольно раскинувшимися вокруг самых нижних из его стен, – построен из камня. Камень для зданий использовался самый разный. Верхний Город недаром по-другому назывался «Белым»: все его дворцы, включая и подсобные помещения, были из известняка, а Храм бога Посейдона потребовал на свою постройку неимоверное количество белоснежного, без единой инородной прожилки, мрамора.
И все это при том, что поверхность острова была на редкость ухоженной и благоустроенной. Ни плетра земли не расходовалось здесь впустую, вплоть до горных лесов, которые, впрочем, тоже шли в дело: стволы деревьев, строго отобранных по сорту и качеству, сплавлялись по Каналу и его сети в самые разные части острова. Так откуда же брался камень, столь разнообразный по цвету и структуре, что цвета белый, красный и черный, а в Нижнем городе и смешанный из всех трех, составляли как бы опознавательный знак Атлантиса?
Секрет был в том, что весь камень доставался изпод земли. Мало того, что чудом была поверхность Посейдониса, но чудом, которое невозможно было бы повторить кому-либо, была и обратная сторона его, вся покрытая сетью подземелий. Эти пустоты, образуемые с искусством, непостижимым для непосвященных, нисколько не нарушали главного во всяком строительстве – равновесия между силами притяжения и отталкивания, ибо являлись плодом точных расчетов гениальных инженеров.
Камень шел в дело, помещения оборудовались под самые различные нужды, и к этому времени, о котором идет повествование, осваивался уже пятый ярус – по направлению вниз – основания острова. Каждый занимался своим делом, и потому никто, казалось, и не замечал этих работ. Но и они, в свою очередь, производились как-то незаметно, буднично: с северной, скалистой стороны Посейдониса, непригодной для судоходства, через тоннели, наполненные сетью механизмов и приспособлений, камень подводился к поверхности, складывался на специально оборудованной площадке, вырубленной в довольно укромном месте, и тут же грузился на особые суда, ни к чему другому не приспособленные. Суда эти, обойдя Посейдонис, приставали к грузовым причалам Атлантиса, где и разгружались.
Вот на эти подземелья и нацелил свою мысль царь Родам. Раз отстранив, как невозможную, свою догадку о том, что находится внутри горы, в самой ее сердцевине, он все же, на всякий случай, искал сам себя в недрах Посейдониса.
Но не себя он там нашел. Он вдруг, сам не веря своим глазам, их особому видению, узрел какое-то, сперва непонятное им действо. Остановил же его внимание вид собственного советника Азрулы, который был облачен в какое-то странное одеяние. Строго говоря, это и одеянием-то нельзя было назвать: на советнике был огромный головной убор, состоящий из разноцветных перьев, лицо его было четко раскрашено знаками, цветом своим и содержанием нисколько не соответствующими истинному его духовному состоянию, а тело его укрывал короткий передник, оставлявший обнаженными его бедра и ягодицы.
Царский советник истово тянул руки вверх, а его поднятая к потолку голова без конца шевелила длинным, ярко намазанным чем-то темно-красным и блестящим, ртом. Этой же краской, и так же беспорядочно, даже неопрятно, был окрашен и подбородок его, и грудь, и кажущийся таким смешным передник. Царь, который и не стал бы останавливаться при виде своего советника – мало ли, по каким делам он находится здесь, – заинтересовался, прежде всего, необычностью всего здесь происходящего. Подивившись на наряд Азрулы, обычно в своей одежде чрезвычайно консервативного, он, уже чувствуя какое-то неосознанное пока беспокойство, обратился к окружающему советника пространству.
Невольно царь напрягся: вокруг этого новоявленного жреца, роль которого, без сомнения, играл Азрула, сгрудились одетые подобно ему мужчины. Лиц их царь особенно не разглядывал: так, приметил нескольких, однако его поразило их общее выражение: сумасшедшинка в глазах.
Но самое поразительное было еще впереди. Проследив за взглядами собравшихся, направленными в одну, казалось, точку, царь увидел то, что уже ожидал увидать.
На круглом валуне, поставленном на каменный же куб, лежало безвольно обмякшее, схваченное внизу за руки и ноги, тело обнаженного человека. Живот его, намеренно оказавшийся на самой вершине этой ужасной пирамиды, был туго натянут. Человек был еще жив, – ясно замечалась мелкая дрожь, волнами проходившая по этому, по всему видать, молодому телу.
Царь Родам вскочил с пола, где он лежал, намереваясь послать разряд в это скопище недоумков. Минута промедления – ему не хотелось уничтожать все в том кругу, а испепеляющая молния не знала разбора, – и он опоздал. Азрула опустил свои заломленные кверху руки, в одной из которых оказался широкий и острый ритуальный нож, сделанный из осколка вулканической смолы, которая тверже стали, и неуловимым движением вскрыл кожу жертвы.
Царь заставил себя досмотреть эту картину до конца. Он не отводил глаз, когда Азрула натренированным движением сунул руку в грудь человека, еще извивавшегося в агонии, и, деловито покопавшись там, начал тащить оттуда нечто, являвшееся, как было понятно, целью всего ритуала. Это нечто не поддавалось, – тканито молодые, эластичные, – как-то отстраненно подумал царь, – и Азруле пришлось погрузить во внутренности, изливающиеся кровью, и вторую свою руку. Помогая себе коленом, которым он заранее уперся в валун, наконец вырвал из груди сердце и, торжествуя, высоко поднял его над головой. Сердце еще билось и трепетало, и брызгало вокруг себя алой кровью, застывающей на лицах и телах всех, кто здесь присутствовал. В дикой радости они старались прикоснуться к нему, чудовищно обнаженному и такому крошечному в огромных окровавленных лапах Азрулы. Они кричали – а, может, даже пели: рты их разевались, непотребно искажая лица, – и, охваченные каким-то общим безумием, приплясывали, образовав круг, центром которого был каменный алтарь.
Царю стало понятно, что за «краска» так неэстетично покрывала лицо и все тело его советника: это жертвоприношение древнему богу недаром уничтоженной Атлантиды, видимо, было уже не первым на этой встрече. Как бы стараясь облегчить царю свое полное разоблачение, Азрула, яростно прокричав что-то в пространство над собою, вперил безумные глаза в кусок плоти в своих руках и – это был, очевидно, апофеоз всего этого действия, – зубами оторвал от него кусок, который (царь это ясно видел) украдкой выплюнул. Никто этого не заметил, потому что некому было наблюдать: всей гурьбой, однако соблюдая какую-то очередь, они, его – царя – приближенные, кинулись отхватывать свою долю.
Царь наблюдал: но нет – никто больше не выплевывал.
* * *
Все увиденное не обескуражило царя Родама. Знакомый не понаслышке с самыми низменными проявлениями человеческого разума, для которого у него было готово снисхождение ввиду его только-только начинавшегося развития, он, тем не менее, не ожидал застать своего советника и иже с ним за подобным действом. Они, считавшиеся всем миром атлантами, и уж, во всяком случае, приобщенные к этой культуре и ее истории, хорошо знали о преступности всякого рода кровавых жертв, их абсолютного неприятия Высшим Разумом. Это означало единственно то, что, внешне соблюдая все правила, дающие им нити власти над народом, эти царские помощники, кураки, истово поклонялись Абиссу и всем его темным божествам.
Что ж, каждый выбирает себе богов по внутреннему расположению, подумал царь Родам. Невозможно приказать кому-либо предаться Высшему, если все токи его существа настроены на прием только примитивных, низменных вибраций. Человек, живой аппарат космической связи, только еще находится в процессе налаживания своих систем, и ему, новичку в мире интеллекта, привычнее обращаться к земному и подземному, чем непонятному и далекому небесному. Но ведь эти, его кураки – они-то должны были уже миновать этот отрезок пути, когда неведение о причинах злых бедствий, которые никому не милы, может привести к приобщению себя именно ко злу, в самом физическом его понимании. Ведь они получили уже, хоть и не высокое, по собственному уровню, но посвящение в некоторые тайны Знания.
Нет, этого он не мог понять! Как, поднявшись хотя бы немного над болотом невежества, став на прочную плиту основания, можно было вдруг целиком, «с головкой» , погрузиться в такой мрак! Чем же так привлекательна эта, искаженная до неузнаваемости, идея жертвы богам, которые-де жаждут крови? Или не известно им, что боги, ненасытно требующие подобных даров, вовсе и не боги? Или ничему не научила ни атлантов, ни человеков та Катастрофа? А ведь одной из многих ее причин явилось преобладание в самом теле планеты энергий темных и разрушающих над другими, несущими ей саму возможность жизни. Именно тогда махровым цветом расцвела и насильственная магия, – чародейство, сознательно направляемое друг на друга. Эти посылки спаяли над планетой и ее обитателями черный купол настолько неразрушимый, что для его уничтожения потребовался огонь того взрыва…
Царь не любил вспоминать о прошедшем, настроения это не улучшало, а сил отнимало много. Однако в последнее время как-то получалось так, что он все чаще обращался мыслью к Катастрофе и ее причинам, будто неназойливо ведомый к какому-то, еще неясному, решению. Во всяком случае теперь он уже понимал, насколько неверно и идеализировано это общее в Атлантисе мнение, что Катастрофа, явившись, конечно, ужасным несчастьем, в то же время принесла и пространственное очищение: те, мол, кто остались в живых после нее, уцелели волею Неба потому, что были светлым исключением из общего темного потока. То, что он так неожиданно увидел сейчас, полностью опровергало это.
При всем владении собой царь почувствовал, что необходима разрядка. Примерившись, он начал кидать и швырять собственное тело на каменные стены, с безразличием опытного тренера возвращавшие его на место. Броски эти, явившиеся не чем иным, как виртуозно выполненными гимнастическими упражнениями, отвлекли его от дум, которым еще не пришло время определиться в решении.
Там, на вершине горы Мери, ему на третий день пришлось-таки одеться в теплый костюм, чтобы не тратить напрасно энергии на обогрев тела. Костюм этот, связанный из тонкой и пушистой шерсти альпаки, защищал тело и от холода, и от жары, ибо на вершине их перепады были очень значительны. Облегающий не только корпус, но и голову подобием шлема, костюм этот здесь, в этом каменном мешке, оказался очень кстати. И ушибов от яростной схватки с гранитными скалами было поменьше…
Да, царь Родам, полубог, при божественном сознании имел тело человека. Управляемое этим сознанием и бессмертное, оно оставалось уязвимым.
Между тем, время шло.
Если в начале своего ожидания на священной горе царь Родам нисколько об этом не беспокоился, даже после того нападания через царицу Тофану, временно лишившего его сил, то теперь, когда встреча с Атласом состоялась (хотя и не принесла внутреннего удовлетворения), он начал думать, что пора бы и домой.
Там, внизу, необходимо было навести порядок.
Атлас показал ему, что заговор Азрулы растекся довольно широко, и он знал теперь, где находятся главные очаги, которые надо погасить в первую очередь. И все же какая-то тень сомнения примешивалась к самой бесповоротности его решения: имеет ли он право, с точки зрения высшей морали, подавлять свободную волю того же Азрулы, к примеру, хотя и выражающуюся таким диким способом, как заговор? Не поставит ли он себя на одну доску с этими глупцами, ответив насилием на только еще готовящееся насилие?
Но тут же он остановил сам себя. Какое еще насилие над чужой волей! – подумалось ему, – насилия никакого не было с самого начала, Азрула сам выбрал для себя этот путь, путь обмана, многолетней двойной жизни, которая сама по себе в состоянии привести к полному духовному падению. И было бы из-за чего! Всего-то и навсего, что цель его многотрудной деятельности – власть. Хотя – не просто царствование в Атлантисе, но мировое господство…
Царь прервал эти размышления, которые могли привести к нерешительности более слабого. Он понял, откуда у него эти вдруг возникшие сомнения вокруг свободы воли: он соприкоснулся, чуть глубже, чем обычно, с внутренним миром Азрулы, тот сопротивлялся. Необходимо было, чтобы раз и навсегда обезопасить себя с этой стороны, решительно размежеваться от мысленной сферы своего советника. Царь Родам, собрав в единый пучок силу, велел ей изгнать из своего сознания чуждые ему влияния.
Легкая зевота показала ему, что все в порядке: ведь и нечистая сила – тоже сила, а потеря энергии, в любом ее качестве, вызывает упадок бодрости. Но изгнание темной энергии из глубин естества мгновенно освобождает его от тяжкого засилья, вызванного необходимостью бороться с вредным чужаком в себе. И, как только оно, изгнание, совершилось, организм возрождается, и восстанавливаются его естественные функции. Ибо жизненная мощь, кроме всех своих альтруистических целей, имеет в земном теле наиважнейшую, без которой не сможет существовать не только это тело, но и весь комплекс его невидимых двойников: в первую очередь энергией должно быть обеспечено, и в избытке, само физическое существо.
Царь Родам усмехнулся: кажется, как мало значит это слово – «избыток»! А ведь именно о нем забывают сейчас в первую очередь те, кто желал бы вершить мировые судьбы. Этот самый «избыток», и он один, дает ощущение силы, а значит и желание ею поделиться с другими, – отсюда и доброта могучих созданий. Он дает возможность творчества, в чем бы это ни выражалось. Многими качествами одаряет «избыток», но главное из них все же – приобщение, или причащение, причастие к высшим сферам пространственной мысли, что несет за собой прояснение сознания.
Казалось бы, чего проще: больше силы – больше и разума, вспомнил царь любимое выражение своего непутевого братца Фуфлона. Что ж, тот следовал одному ему известным путем: ублажал свою плоть не только едой, в утончении которой изощрялся, но и всякими дурманящими напитками. Добро бы сам, – так нет, собрал вокруг бражников, не разбирая сословий, и бродят они по миру, как бы собирая дань за обучение человеков виноделию.
Вот яркий пример того, к чему может привести утечка любого из божественных секретов! Фуфлон, царский сын, паче всех других таинств возлюбил питье амброзии, напитка, дарующего богам силы и бессмертие. Обманом он разузнал рецепт ее изготовления, но рецепт этот, естественно, был неполным: в каждую чашу амброзии следовало прибавлять каплю, единственную каплю нектара…
Забыл Фуфлон о том, что неравны пока в своих возможностях полубоги и человеки, и что амброзия, уравновешенная нектаром, в одних возбуждает круговращение небесной силы, но в других же, закрытых, как котел под паром, вызывает брожение и гниение своих низших элементов. Другими словами, напиток, возвышающий божественный разум, дающий бессмертие плоти, озаренной высшим сознанием, оказался для человеков подарком, который хуже самой смерти; он нес безумие, действуя на те же центры в мозгу, что и у атлантов, тогда как насильственное пробуждение неких точек в детски спящих отделах повело к деградации чуть ли не всей расы, с такими титаническими, поистине, усилиями взращенной на Земле.
Да, с Фуфлоном тоже придется что-то делать, иначе он всех человеков заставит снова стать на четвереньки…
Так что сила – силе рознь. И царь Родам, размышляя над необходимостью избытка жизненной силы, конечно, имел в виду ее аспект, направляемый на возвышенное. Усиленный в себе до предела только он и может уравновесить собственную противоположность – низменную, неорганизованную и неразумную сторону всякого проявления.
Ну вот! Мало того, что вся Земля находится в опасном состоянии возмущения своих токов, что собственные помощники, на которых, казалось, только и можно опереться, оказываются ярыми врагами, еще и в своей семье такое неблагополучие! И за что, спрашивается, браться в первую очередь?..
В который раз он сознательно отогнал от себя образ Тофаны. Ни разу, с того самого случая, он не дал себе воли и не разрешил сознанию, освобожденному силой Гермеса от власти царицы, вновь впустить ее в себя полноправной владелицей. Он не анализировал своих побуждений, он просто оставлял все как оно есть до поры, когда сможет заняться этим, не ослабляя себя.
Ибо, снова подумалось ему, силы надо беречь.
Промозглый холод начинал проникать и сквозь теплую шерсть альпаки. Пришлось включить собственный, пока что легкий, обогрев.
Нетерпения не было вовсе: царь Родам знал, что все идет так, как оно должно идти. Что-то ему показывают, но что-то он и сам должен проделать, дабы доказать свою пригодность к тому, к чему его готовят. А о том, что все это – полоса испытаний, всегда предстоящая очередному заданию, говорило сердце, никогда не ошибавшееся в таких случаях. Сейчас оно билось хоть и спокойно, но в двойном ритме: непосредственный ритм самой мышцы был силен и ровен, тогда как пульс внутреннего общения с высшим проводником был быстр и почти неуловим, сливаясь в гулкую нить ясно ощущаемого напряжения.
Царь отметил это, потянулся длинной потяжкой, окончательно освобождая свои каналы от постороннего присутствия, и легко заснул, улегшись на этот раз на другой бок и подложив, как это делают малые дети, сложенные ладони под щеку.
Он действительно спал, и лицо его, освещенное собственным же светом, обрело выражение наивное и восторженное одновременно: он видел сон, которого долго ждал…
* * *
Хитро, дочь советника Азрулы, готовилась к свадьбе. Таково было отцовское повеление, и хоть высказано оно было в форме предложения, Хитро знала, что возражать бесполезно: отец во всем, что касалось внешнего соблюдения традиций и ритуалов, был до смешного непреклонен.
Каждое утро он заходил к ней, под самую крышу дворца, где она, когда пришло время ей жить отдельно от родителей, облюбовала себе верхний этаж, и справлялся о том, как идут дела. Несколько месяцев все повторялось с монотонностью механизма, – отец целовал ее в лоб, потом любовался ею, подведя к высокому окну (Хитро казалось в последнее время, что он не столько ею любуется, как сам утверждает, сколько разглядывает), после чего начинал дотошно выспрашивать о всяких мелочах: достаточно ли тонко льняное полотно, что привезли накануне эти мошенники-поставщики, или его надо вернуть им обратно; довольна ли она девушками-вышивальщицами, готовящими ее постельное белье, и не надо ли привезти их во дворец, чтобы они работали под присмотром; вся ли посуда ею закуплена, и почему она предпочитает золото серебру? Хитро отвечала неизменно тихо и спокойно, но чувствовала, что отец остается недоволен краткостью ее речи. Ему, так много ожидавшего от брачного союза своей дочери с главой восходящего, как он считал, клана Туров, хотелось блеснуть перед будущим зятем и его родней всем блеском своего рода, близкого к царскому, – но, в то же время, не слишком расточительствуя.
Хитро, сначала сама того не замечая, начала понемногу тянуть с подготовкой приданого. Внешне уступчивая и покладистая, она с удивлением ощущала внутри себя какое-то стойкое противодействие. Сперва это относилось к тому, чтобы отстоять свою независимость хотя бы в мелочах, – отец входил в такие подробности ее приданого, что ей порой хотелось спросить у него: чья же, собственно, свадьба готовится, ее или его, советника царского. Но потом, дальше – больше, все сильнее начала давать себя знать глухая стена непонимания, предвестница раздражения…
Сегодня, однако, отец был настроен решительно. Хитро это поняла, едва только он появился в ее гостиной: маленький, по меркам атлантов, но крепко сколоченный, в длинной тоге, отороченной пурпуровой полосой, с тщательно причесанными волосами, частыми волнами спадавшими за спину, – он совсем не отвечал тем признакам величия, которые сами говорят за себя. Но внутренняя сила, действующая чаще всего на подавление, подчинение любого проявления чужой воли, сквозила во всем его облике. Особенно поражали его глаза: голубые, как у дочери, они, тем не менее, совершенно отличались от прекрасных, лучистых глаз Хитро своим выражением. Любители расследования форм наследственности физической стали бы в тупик в этом случае – глаза, строением совершенно идентичные, одинаковые даже в разрезе, напоминающем два всплеска голубого пламени, длинным изгибом осветившие обе стороны лица, – эти глаза различались ни чем иным, как выражением. Взгляд Азрулы был затаенно агрессивным, и временами эта агрессивность прорывалась наружу как бы яркими клинками, способными пронзить свою жертву, – и это не было преувеличением или красивой метафорой. За спиной Азрулы тайно ходил слух о смертельности его взгляда, подтвержденный многими случаями, – правда, все больше из числа человеков.
Что же касается взора Хитро – тут невозможно было бы обойтись обыденными словами. Говорили, что сам покровитель и глава всех поэтов, Алплу, не однажды слагал в их честь вирши непревзойденной красоты…
Телохранитель распахнул перед советником дверь, и он движением одного лишь пальца приказал прислужницам удалиться. Ни слова не говоря, подошел он к дочери, онемевшей в каком-то неясном предчувствии, и запечатлел свой, ставший обязательным, поцелуй на ее белом и чистом лбу. Она продолжала сидеть, не в силах двинуться и даже открыть глаза, опаленные видом его ауры. Все так же молча, несколько отстранившись, он стоял над дочерью, жадно разглядывая ее лицо, чуть тронутое бледностью, эти чудные волосы цвета старого золота, мелкими и частыми завитками обрамлявшие его овал, немного заостренный книзу; неожиданные на нежном лбу широкие брови, светлые и блестящие, будто приклеенные тщательно по одному волоску. Тонко и четко очерченный нос, начинающийся как бы со лба, – не его черта, в который раз констатировал он, нисколько, впрочем, не сожалея об этом. Потому что форма его носа, будучи перенесена на это нежное лицо, была бы здесь не к месту: нос у советника был, мягко выражаясь, похож на клюв орла, только чуть мясистее.
Взгляд Азрулы остановился на массивной подвеске из нефрита, окаймленного тонкими и ажурными узорами золота. Опять золото! Чего он никак не мог добиться от обычно покорной Хитро, так это любви к серебру. Серебро – металл его рода, а к тому же теперь, когда он, пока еще скрытно, возводит новый культ, именно серебро должно помочь ему в этом, ибо является самим светом богини Уни, чье прекрасное тело одето в белоснежные крылья голубей…
Сладостная дрожь пронизала тело советника, но он вновь сосредоточился на созерцании лица Хитро. Этот ритуал, непонятный и тягостный – он видел это, – для его дочери, давно уже был необходим самому Азруле. Таинственная сила мягким и животворным потоком вливалась в него через это каждодневное действо, как бы омывая собой все его существо. Полным сил и уверенности после этого визита отправлялся Азрула вершить дела, которые равно почитал за свои, – государственные ли, общемировые ли. Ведь теперь, в отсутствие царя Родама, которое, даст великий Баал, продлится вечность, в компетенцию советника входили даже такие. Он не беспокоился о том, что останется без этой энергетической подпитки, когда Хитро уйдет из его дома, выйдя замуж, – связь родственная давала ему возможность «входа» к дочери в любое время, без доклада, как говорится.
Да, советник Азрула пользовался энергией других. Во всех остальных случаях это носило спонтанный характер, – он снимал излишки ее со всех, кто их имел. Но никто не мог сравниться по чистоте и силе излучения с его дочерью! Он верил, что действует не во вред своей обожаемой и ненаглядной красавице-дочке: она-то уж, в отличие от него самого, имела доступ к неиссякаемому Источнику… Однако сегодня Азрула пришел сюда не только за этим. Накануне он имел не очень приятный разговор со своим будущим сватом, отцом жениха. И тот, хоть и улыбаясь и заискивая (по своей родовой неприятной привычке), но сделал уважаемому и бесценному советнику прозрачный намек о том, что пора бы и завершить намеченное свадебкой. Дело, мол, протянулось уже сверх всяких сроков, и, если он-де, Азрула, гнушается ими, то можно ведь и разойтись мирненько. Невест вокруг много…
Вечером, вспоминая этот разговор, Азрула сам себе удивлялся: грозный для всех, он не терпел никакого умаления собственного достоинства. А тут – что значит интерес не личный, а во исполнение воли владеющей им богини! – ему даже в голову не пришло поставить на место этого выскочку, отца торгаша, как бы он сам себя ни называл. Надо – и все тут. Надо не ему, советнику Азруле, но матери Уни, и этим все сказано. Объединение кланов должно совершиться, символизируя этим будущее мировое владычество его самого, Азрулы! Племя Туров очень сильно, и все более распространяется по земле. С его помощью он охватит своим влиянием все беспредельные территории, открывающиеся для жизни с таянием вековечных ледников, там, на Востоке.
Что перед этим величием всего лишь одна судьба, хотя бы это и была судьба его единственной дочери! Азрула был полон решимости перешагнуть через все преграды.
Наконец он оставил руку Хитро, которую крепко сжимал на протяжении всего времени, пока разглядывал ее. Сев на высокий резной стул, как раз напротив дочери, он нетерпеливо прочистил горло, звук этот должен был дать понять ей, что отец желает с ней говорить.
Но Хитро, как это было ни странно, не открывала глаз. Отец застал ее за считыванием утренних новостей – информации, регулярно передаваемой в пространство специальным Агентством, собирающим ее, как пчелы мед, с общего ментального поля. Хитро старалась не пропускать этих известий, инстинктивно тренируя свой пространственный приемник мыслей. Она знала, что большинство атлантов с готовностью восприняли новое изобретение: знаки, запечатлеваемые на какойлибо поверхности, и, в сущности, повторявшие то, что можно было при некотором упражнении восстановить в себе многим – чтение мыслей в пространстве. Но сама не желала прибегать к этому нововведению, предпочитая оставаться одной из немногих, причастных к первоисточнику.
Новости… Сегодня не было ничего интересного. И, главное – ничего о царе Родаме. Это было очень странно: царь, божественная личность, – и вдруг как в воду канул! Никто ничего не знает о нем. Даже отец, который обязан быть в курсе всего происходящего именно с царем, – и он молчит. Скорее всего, не знает, в чем дело, – определила Хитро сразу, как только обратилась к нему с этим вопросом. Ее пространственные поиски также ни к чему не привели: облик Родама был закрыт от нее, как и ото всех на Земле, ярко-голубым пятном, сверкающим редкими золотистыми искрами, – знак того, что царь жив, и беспокоиться о нем не надо. Однако беспокойство у Хитро было.
Не открывая глаз, она увидала отца, теперь уже сидящего перед ней. Надо было отрешиться от своего состояния, но странная истома одолела ее. Она знала, что отец спешит, и была благодарна ему за то, что он не слишком торопит ее с «пробуждением». Уже не раз Хитро замечала за собой эти необычные приступы слабости, хотя и не связывала их с посещением отца. Но сегодня она вдруг ощутила, что именно от отца исходит какой-то тягостный напор, лишающий ее сил и самого желания действовать.
Подозревать отца в чем бы то ни было она не имела права, таков был непререкаемый закон. Она и не подозревала. Ей просто захотелось вдруг посмотреть на него под другим углом зрения, как на постороннего: все ли в порядке с его энергетикой, не вкралась ли какая чуждая сила, затемнившая, не дай Единый, какой-либо из внутренних каналов или хотя бы точку. Обычно в таких случаях все сводилось к направленному излучению с ее стороны, и гармония восстанавливалась. Но необходимо было одно условие: согласие на это самого возможного пациента. Ибо взгляд со стороны на внутреннюю сущность другого означат самовольное вмешательство в состояние этой сущности, подвластной лишь самой себе, своей свободной воле. Это грозило тяжкими карами, и прежде всего – ответным ударом, действующим автоматически.
Хитро удалось превозмочь себя, свое апатичное состояние, когда не было желания даже пальцем пошевелить. Усилие было сделано, и – о ужас!
Хитро невольно открыла глаза, стараясь высмотреть на плотном, видимом теле отца то, что открылось ее ясновидению в его эфирной оболочке. Однако перед нею сидел, несколько скованно улыбаясь, именно ее отец, всеми почитаемый советник Азрула, в безупречной тоге и даже с лавровым венком на голове, долженствующим отгонять низменные силы. Хитро очень хотелось перепроверить свое открытие, но для этого надо было бы снова закрыть глаза или, по крайней мере, отрешиться от земной видимости. Однако Азрула не позволил ей уйти в себя:
– Дочка, дочка! Не слишком ли много времени и сил ты уделяешь миру иному? Не забывай, что мы живем на земле, и что наша задача – улучшать именно земную жизнь своим присутствием на ней. Ты же, я смотрю, постоянно витаешь где-то в облаках, отдавая им все свои силы…
– О нет, дорогой отец! Дело как раз в обратном: я начала отчего-то терять силы, как ты правильно заметил, но теряю я их здесь, на земле. И, обращаясь в «те» сферы, – Хитро слегка приподняла кисть руки – я прямо-таки возрождаюсь. Слава Единому, который дает мне эту возможность!
– Ты меня обеспокоила, дочь моя. Может быть, обратимся к жрецам? – видя, что Хитро отрицательно мотнула головой, он примирительно добавил:
– Не хочешь, – не надо. Не знаю, право слово, откуда у тебя эта нелюбовь к жрецам…
– Отвращение, – это было бы вернее сказать.
– Ты меня пугаешь. Как же ты собираешься вести себя на брачной церемонии? А ведь здесь, как и во многом другом, без жрецов не обойдешься!
– Ну, это еще далеко, отец. Успеем поговорить и об этом.
Азрула поднялся и, сложив руки за спиной, прошел к окну. Отчего-то ему стал непереносим пристальный взгляд дочери, как бы растворявший все его тайные покровы. Стараясь избежать его, он начал не спеша прохаживаться по большому круглому покою Хитро, занимавшему верхушку угловой башни, разглядывая то вид из какого-либо окна (их здесь было четыре, по числу сторон света видимого аспекта Земли), то драгоценную безделушку, коих его дочь была любительница. Решительный настрой, с которым он явился сюда, к его сожалению, значительно сник, и советник всеми силами старался восстановить его в себе, опасаясь потерять влияние на дочь. Тщательно избегая встречи с ее взглядом, поворачиваясь к ней то спиной, то боком – лишь бы не открывать наиболее уязвимую лицевую сторону, – он начал самую трудную часть разговора:
– Нет, моя дочь, срок настал.
Он почувствовал, что она напряглась, но упорно продолжал, как бы огромным катком уминая под себя все проявления любви и жалости к этому, единственно близкому, созданию.
– Ты дала слово. Более того, за него, твое слово, поручился я своей властью и самой жизнью. Но вот я вижу, что ты не думаешь его исполнять.
Молчание Хитро было непонятным. Азрула. повернув к солнцу чашу из светлого изумруда, делал вид, что пытается прочесть какие-то значки, вырезанные на ее изножии, и вслушивался в тишину, пытаясь уловить хотя бы дыхание дочери. Наконец он не выдержал:
– Отвечай же! – он постарался сказать это как можно тверже, но голос его сорвался.
Наконец тихие слова прошелестели, но Азрула не понял, были ли они сказаны, или же, давно ожидаемые, явились в его сознании сами собой:
– Ты прав, я не буду женой Гана.
Изумрудная чаша, с силой припечатанная советником к металлическому треножнику, на котором было ее место, дала трещину от низа доверху. Он не обратил на это внимания, хотя какой-то край его сознания отметил плохое предзнаменование, пытаясь овладеть собой. Сейчас это было главным, ибо духовная сила Хитро превосходила его собственную, это не было для него новостью, и выстоять перед ней, не поддаться ее обволакивающему влиянию, а затем и пересилить, было задачей не из легких. Он теснил сопротивление дочери всей своей мощью, почерпнутой недавно из глубин ее же существа, но его напряжение вылилось в глухую ярость, вместо желаемого и необходимого сейчас равновесия.
– Ты понимаешь, что говоришь? – с угрозой спросил он.
Но Хитро быта уже вне досягаемости для него. После того, как ей удалось взглянуть на сокрытую глубоко под многочисленными внешними личинами истинную сущность своего отца, за что она не забыла послать мысленную благодарность невидимым покровителям, ей оставалось вести с ним только тонкую двойную игру. Одной ей это было бы не под силу, но ведь она была не одна!..
Встрепенувшись, Хитро с деланной укоризной воскликнула:
– Ах, как ты неловок, отец! Эта чаша! Мне она досталась с таким трудом! Что же теперь с ней делать?
Ей удалось сбить отца с толку, но ненадолго, она знала. Однако и небольшая передышка, и та стоила многого. Азрула озадаченно поглядел на испорченную чашу, потом – на дочь, и чуть оттаял.
– Ну-ну, – проворчал он, – большое дело! Куплю тебе новую такую же. Вон, сегодня корабль прибыл с Востока. Небось, завален разными штучками почище этой!
– Ты не понимаешь! – Хитро продолжала капризничать. – Эта чаша – из того города, который строит Гермес т а м. Потому она особенная: излучения того места священны! Да и эти письмена, – она живо вскочила и подбежала к отцу, стараясь быть к нему ближе, – видишь эти значки? Это все Гермес. Он придумал их, чтобы облегчить передачу информации. Не все же, как мы, могут воспринимать ее прямо. А тут…
– Хватит! – Азрула отскочил от дочери и, усевшись в резное деревянное кресло, указал ей на такое же, но в противоположном углу покоя. – Садись и слушай меня!
Неохотно, прижав к груди разбитую чашу, Хитро подчинилась. В уме ее уже был готов план действий, подсказанный ей невидимым советчиком.
– Да, отец, – всхлипнула она, – я тебя слушаю…
– Ты – что же, – сдерживаемая ярость придавала голосу Азрулы какой-то даже присвист, – думаешь, что я ничего не замечаю? Что ты одна такая чувствительная, – ах, не притронься к тебе, – а другие, собственный отец, к примеру, ничего не ощущают? Кроме того, что воочию перед ними? – Должен тебя разочаровать! Да! Все твои ухищрения – у меня как на ладони! Только, по мягкости своей, не желал давить на тебя! Но всему свой предел, моя дорогая!
– Как ты разговариваешь со мной, отец! Разве я этого заслужила?
– Ты заслужила еще и не того! Ты что, с ума сошла что ли, если не желаешь понять, что иного выхода нет?
– Так не бывает. Расскажи мне все, – и я укажу тебе, как надо поступить.
– Вот оно что! Ты хочешь, чтобы я, занимающий сейчас чуть ли не первое место в Атлантисе, я, перед которым открываются пути во весь внешний мир, опорочил теперь свое имя твоим непонятным отказом Гану? Я не скрывал от тебя, что значит для меня лично твой будущий брак: это бразды правления над тем, новым народом, вдруг невесть откуда взявшимся и набирающим силу день ото дня…
– Но какой же это «новый народ»? Это ведь потомки Туров, славного нашего атлантского племени.
– Видишь, ты признаешь величие Туров, – а не желаешь идти замуж за одного из них, да еще ближайшего нам?
– О, это разные вещи, отец. Туры – те, которым было дано спастись в Катастрофе, – не имеют ничего общего с родом этого торговца, Гана. Те, которым предстоит очистить свою натуру от кровожадности, идущей от вливания в их кровь слишком большого количества низменных элементов, они еще могут возродиться. Но эти… – Она запнулась, жалея, что и так сказала много лишнего, – в общем, я не могу быть женой Гана. Именно его. И, какие бы твои интересы здесь не затрагивались, я не вижу непреодолимой стены перед их исполнением. Только – по-другому. Мы все решим вместе, отец! Доверься мне. Я уже сейчас знаю, как можно наладить отношения с восточными Турами. И вовсе для этого не нужна эта глупая свадьба!
– Но – слово?!
– И здесь нет ничего особенного. В обычаях брачных нет ничего такого, что запрещало бы возврат слова, если невеста или жених раздумали. Я специально интересовалась этим, отец, просматривала весь брачный кодекс, жаль, что ты не можешь им воспользоваться… Там ясно сказано: при расторжении помолвки – а у нас ведь никакой помолвки так и не было! – следует-де вернуть подарок, сделанный женихом. И только-то! Сложнее жениху, если он задумает отказаться от невесты, ему надо платить откуп, который ему назначит судья…
– Ты смеешься надо мной! Причем тут подарок! Да, официальной помолвки не было, – ты все уклонялась. Теперь я понимаю: эти все приступы то внезапной болезни, которой не существовало никогда, или ссылки на астрологические сроки, препятствующие оглашению, – вce это приемы, достойные Фуфлона, твоего дядюшки, но никак не тебя, наследницы высокого рода…
– Вот мы и пришли к тому, с чего надо было начинать, – мягко остановила его Хитро. – Высокого рода, говоришь? Достойные дядюшки Фуфлона, мои поступки?.. Но как же быть тогда с тем, что Ган, по всем жреческим канонам, не ровня мне, имеющей, со стороны матери, прямое отношение к царскому роду?
Говоря это, Хитро поднялась, отставив в сторону свою чашу, и стояла теперь перед советником Азрулой, высокая, более чем на голову выше его, красивая и спокойная. Отбросив, когда пришел момент, маску послушания, она теперь смотрела на отца без обычной улыбки, улыбки, без которой он не мог себе представить свою дочь, покорную его воле всегда и во всем. Он внезапно понял, что случилось нечто ужасное, уничтожившее его власть над нею. Исполнились слова, произнесенные ее матерью перед тем, как уйти из жизни. «Не казни дочь так, как ты казнил меня, – произнесла она замирающим голосом, и на все его расспросы сумела добавить лишь: – она иного рода».
Целый вихрь смятенных чувств поднялся в душе советника, усиленный еще и тем, что, не имея доступа к закрывшейся для него аурe дочери, он обращался вновь на него самого. Глаза его, и без того тяжело набрякшие, вдруг налились кровью, а левая сторона лица задергалась в мимолетном тике. Но Хитро продолжала:
– Ты хорошо знаешь, как должны сохраняться нами заповеди чистоты крови. Потому и нет позволения царю и всем его близким жениться на ком-либо, кто вне царского рода, чтобы иметь возможность донести божественную искру, дарованную им, царям, в неприкосновенности…
– О чем ты говоришь, ты, моя дочь?! Ты желаешь унизить собственного отца? И ты думаешь, что боги похвалят тебя за это? Да, я давно понял, какой ошибкой было с моей стороны добиваться женитьбы на твоей матери. Я думал, что незначительная примесь человеческой крови – вполне достойной, кстати, крови атлантских картилинов – не имеет значения в такой длинной, как в моем роду, череде атлантов. Но постоянные напоминания об этом твоей матери! Она начала избегать меня, отталкивать сразу же после свадьбы…
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу