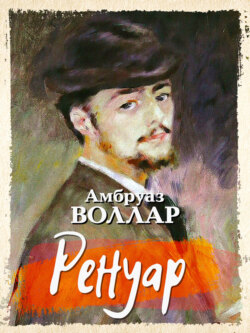Читать книгу Ренуар - Амбруаз Воллар - Страница 7
VII. Выставки импрессионистов
ОглавлениеРенуар. – Когда порядок был восстановлен в Париже, я нанял ателье в улице Нотр Дам де Шан. Около того времени я получил заказ сделать несколько декораций для отеля князя Бибеско, что мне позволило провести лето в Селль-Сенклу. Там я написал семью Анрио (1871). Вернувшись в Париж с первыми холодами, я принялся за картину «Всадники». Я окончил ее только в начале 1872 г. В тот же год я послал ее в Салон; ее отвергли.
«Так я вам и говорил, – торжествовал капитан Дарра, который позировал вместе с женой для этой картины. – Ах, если бы вы послушались меня!»
Он имел в виду цвет моей живописи, который буквально сводил его с ума.
«Вот, поверьте мне, – не переставал он говорить мне во время сеансов: – синие лошади, где же это видано?»
Но я должен прибавить, что, несмотря на его жалкое мнение о моей живописи, он тем не менее при всех обстоятельствах был чрезвычайно услужлив. В качестве адъютанта генерала Баррайля он получил для меня разрешение писать мою картину в парадном зале военной школы. Из картин, относящихся к тому времени, я вспоминаю «Ручей» и исчезнувшую «Кавалерист-трубач».
В 1873 году произошло важное в моей жизни событие: я познакомился с Дюран-Рюэлем, первым торговцем картинами и единственным в течение долгих лет, который верил в меня. Именно в это время я переселился из моего ателье в улице Нотр Дам де Шан на правый берег Сены, где и жил постоянно с тех пор. По правде сказать, много воспоминаний привязывало меня к кварталам левого берега, но инстинктивно я чувствовал опасность влияния на мою живопись той специфической среды, которую так проницательно характеризовал, обращаясь к Фантэн Латуру, Дега: «Да, конечно, то, что он делает, очень хорошо, но как жаль, что все это отмечено левым берегом!» И вот в 1873 году с чувством человека окончательно обосновавшегося я нанял ателье в улице св. Георгия. Должен сказать, что я был действительно доволен. В том году мне неплохо работалось в Аржантейле, где я находился в компании с Моне, точнее – «Моне, писавшим георгины». Там же я познакомился с художником Кайеботтом, первым «покровителем» импрессионистов. В его покупках, которые он у нас делал, не было ни тени спекуляции; он старался лишь поддержать друзей. Он делал это очень просто: покупал лишь то, что окончательно не продавалось.
Я. – А организованная в 1874 году выставка под названием «Анонимное общество художников-живописцев, скульпторов и граверов»?
Ренуар. – Такое название не дает никакого представления о намерениях экспонентов, но как раз я сам не соглашался на какое бы то ни было точное название. Я боялся, что стоит только нам назваться: «несколько», «некоторые» или хотя бы «39», как критики тотчас же заговорят о «новой школе», тогда как мы в меру наших слабых средств стремились лишь показать художникам, что необходимо вступить в строй, если не хочешь окончательной гибели живописи, а вступить в строй – это значило, разумеется, приняться снова за ремесло, которого уже никто больше не знал.
Исключая Делакруа, Энгра, Курбе, Коро, которые каким-то чудом выросли после революции, живопись впала в жестокую банальность! Все копировали друг друга, ни во что не ставя натуру.
Я. – Если принять все это во внимание, Кутюр должен был сойти за новатора?
Ренуар. – Еще бы! Почти за революционера. Все, кто претендовал быть передовым, ссылались на Кутюра, который в 1847 году, как гром грянул, явился со своими «Римлянами времен упадка». В Кутюре находили сочетание Энгра и Делакруа, чего критики тщетно ожидали от Шассерио. И так как, за немногими прекрасными исключениями, о которых я только-что сказал, вся живопись превратилась в условность и мишуру (даже современные одежды на фигурах, взятых у Давида, – уже это считалось смелостью), – естественно, что в силу контраста молодежь обратилась к простоте. Могло ли быть иначе? Никогда не нужно забывать: чтобы овладеть ремеслом, надо начинать с азбуки ремесла.
Я. – Но каким образом выставка Анонимного общества художников-живописцев, скульпторов и граверов превратилась в «Выставку импрессионистов»?
Ренуар. – Это название пришло в голову посетителям само собой перед одной из выставленных картин, которая больше других возбуждала хохот и негодование: утренний пейзаж Клода Монэ, называвшийся «Impression» (впечатление). Можете судить по этому прозвищу «импрессионисты», что публика не подозревала о новых исканиях в искусстве, но попросту обозначала таким образом группу художников, довольствующихся передачей «впечатлений». И когда в 1877 году я снова выставлялся с частью той же группы, я же настоял на сохранении названия «импрессионисты», которому так повезло. Это значило сказать прохожим, – и все это так и поняли: «Здесь вы найдете живопись, которая вам не нравится. Если вы все-таки войдете, тем хуже для вас: вам не вернут ваших десяти су, уплаченных за вход!»
Все эти попытки молодых людей, полных добрых намерений, но еще ничего не умевших, прошли бы, пожалуй, незамеченными для большинства художников, если бы не литература, этот прирожденный враг живописи. Подумать только, что публику и даже нас самих, художников, заставили переварить все эти россказни о «новой живописи»… Писать черным и белым, как делал Мане под влиянием испанцев, или светлым по светлому, как он делал это позже под влиянием Клода Моне, – ну, и что же?.. А только то, что различными манерами письма достигают более или менее счастливых результатов, в зависимости от темперамента художника. Так несомненно, что Мане был гораздо больше хозяином положения, когда работал в черной манере, чем в светлой…
Я. – Разумеется, все предпочитают черную манеру Мане его светлой, но каким образом отсюда следует, что Мане с его первыми картинами, так определенно внушенными музеями, является провозвестником?
Ренуар. – Я как-раз и хотел вам сказать, что Мане, даже копируя Веласкеза и Гойю, был тем не менее новатором и знаменосцем нашей группы именно потому, что он наиболее просто выразил в своих картинах формулу, в поисках которой все мы столько бились в ожидании лучшего.
Я. – Импрессионистам в 1877 году не больше повезло, чем на первой выставке в 1874 г.
Ренуар. – Гораздо меньше. Если первую выставку сочли ученическим баловством, то на этот раз кричали: «Ого!» Впрочем, будь мы хитрее, мы могли бы привлечь на свою сторону нескольких» знатоков», если бы писали на исторические сюжеты, так как зрителей больше всего отталкивало в наших картинах отсутствие всего, что привыкли видеть в музеях. Но чтобы научиться нашему ремеслу живописцев, нам было необходимо помещать свои персонажи в знакомую нам обстановку, и вы не можете себе представить меня, изображающего «Навуходоносора» в кафе-шантане, или «Мать Гракхов»– в Гренуйер.
Ничто так не сбивает с толку, как простота. Я вспоминаю возмущение Жюля Дюпрэ на одной из наших выставок: «Теперь пишут, как видят: даже не подготовляют холстов… разве великие и сильные…».
Я. – А как «великие и сильные» подготовляли свои холсты?
Ренуар. – Дюпрэ предпочитал подготовки на сурике, бывшие тогда в большом почете. Считалось, что подобная подготовка холста сообщает живописи «звучность», что по существу было справедливо, но «великие мастера» того времени при всем своем сурике писали вещи, в которых не хватало звучности и которые кроме того трескались по всем направлениям. Что станет со временем с картинами, подобными «Анжелюс»?[25] Картины Дюпре уже текут от битума.
Какая необыкновенная эпоха! Три четверти своего времени люди проводили в мечтах! Считалось необходимым, чтобы сюжет откристаллизовался в голове прежде чем он будет осуществлен на холсте. Можно было слышать такие фразы: «Художник переутомляется; вот уже три дня, как он мечтает в лесу!» И если бы еще вся эта «литературщина» кормила своих приверженцев! Но ведь за исключением немногих, вроде Дюпре, Добиньи, наконец Миллэ, которые преуспевали, целая толпа бедняков, принимая всерьез легенду о художнике— «мечтателе» и «мыслителе», проводила время перед своими неизменно пустыми холстами, оперев голову на руки! Вы можете представить, как презирали они нас, замазывавших свои холсты и старавшихся, по примеру древних, писать радостными тонами картины, из которых была старательно изгнана всякая «литература».
Я. – Не следовали ли импрессионисты иноземным влияниям? Японского искусства, например…
Ренуар. – К сожалению, да, в начале. Японские гравюры интереснее всего именно как японские гравюры, т. е. при условии, если они остаются в Японии; потому что никто без риска наделать глупостей не может присваивать себе несвойственное своей расе. Иначе быстро придут к некоторому виду универсального искусства, лишенного всякой собственной физиономии. Я был очень благодарен критику, который когда-то написал, что я решительно принадлежу к французской школе. «Если я счастлив, – сказал я ему, – принадлежать к французской школе, то не потому, что я превозношу превосходство этой школы над другими, но потому, что, будучи французом, я должен принадлежать моей стране».
Я. – Вы рассказывали мне о вашей выставке 1877 г., но не сказали ничего о картинах, которые написали с 1874 г. по 1877 г.
Ренуар. – Я припоминаю «Танцовщицу», «Мулэн де ла Галетт», «Ложу», – эта последняя несомненно сделана в 1874 г., а потом, подождите… «Женщина с чашкой шоколада»… Как-нибудь припомню вам и другие. Всего-то их в жизни было столько, что все это несколько затуманилось в моей памяти.
Я. – Я вспоминаю двух любителей у Дюран-Рюэля на выставке ваших произведений. Один другому объяснял достоинства и, разумеется, так же и недостатки каждой картины. Но перед «Ложей» он сказал: «Здесь только остается снять шляпу».
Ренуар. – Я их знаю, этих покровителей искусства, которые проявляют величайшее уважение к картинам после того как они оставляли авторов голодать во время работы над этими самыми картинами. Вот например «Ложа», – именно ее я таскал повсюду, стараясь получить за нее 500 франков, пока не напал на папашу Мартэна, старого торговца картинами, который наконец обратился к «импрессионизму» и от которого я смог получить за мою картину 450 франков и был счастлив! Папаша Мартэн находил эту цену сверх всякой нормы, но я не мог сбавить ни сантима: эта сумма как – раз была необходима мне для уплаты за квартиру и у меня не было больше никаких ресурсов. Так как торговец уже имел покупателя для моей картины, он должен был согласиться на мои требования. Поверьте, он не один раз попрекал меня этим случаем, когда ему поневоле пришлось заплатить за один-единственный холст такую уйму денег.
Папаше Мартэну вскоре пришлось пережить еще худшую неудачу. Отправившись за очередной покупкой к своему «протеже» Ионкинду, который обыкновенно продавал ему свои картины за постоянную плату в сто франков, он услышал от художника: «Эге, папаша Мартэн, теперь уже больше не сотенка, а тысчонка!» Задыхаясь от негодования, папаша Мартэн ушел и второпях даже забыл свой знаменитый мешок, с которым никогда не расставался во всех своих странствиях в расчете на покупку старого металла или на другие возможные оказии. А каково было его возмущение «маленьким меню» Ионкинда, которого он застал как-раз за столом. Долго еще после этого случая папаша Мартэн вспоминал, когда говорили об Ионкинде: «Прохвост! Он ест спаржу в разгар зимы!»
Я. – Вы были знакомые Ионкиндом?
Ренуар. – Это одно из приятнейших воспоминаний моей молодости. Я никогда не встречал более живого человека. Однажды мы сидели на террасе кафе. Вдруг Ионкинд, подымаясь как на пружине, вырастает над ошеломленным прохожим: «Вы меня не знаете? Это я – великий Ионкинд!» (Он был очень высокого роста.) В другой раз какие-то провинциальные буржуа пригласили на завтрак Ионкинда с дамой. В конце завтрака он поднимается со стаканом в руках и провозглашает своим низким голосом, на своем необыкновенном голландско-французском жаргоне: «Я должен вам сделать признание: мадам X. мне не жена, но это такой ангел!»
– Кроме папаши Мартэна, – продолжал Ренуар, – на Монмартре был еще другой торговец, который торговал очень хорошими картинами. Но вы, Воллар, наверное знали Портье? Какая чертовская манера была у него повышать цену на свой товар: «Не покупайте эту картину! Она слишком дорога!» Любитель обыкновенно покупал. Надо сказать, что дорогой ценой еще в 1895 году считались две тысячи франков за Мане лучшего качества. У Портье были антресоли на улице Лепик, а папаша Мартэн торговал в первом этаже в конце улицы Мучеников. Конечно, это более чем скромно, но какие великолепные картины можно было видеть у них! Всю школу «импрессионистов» и кроме того Коро, Делакруа, Домье; да что там говорить! Ведь это у папаши Мартэна Руар купил большую часть своей коллекции, в том числе знаменитую «Даму в голубом» Коро, за которую он заплатил три тысячи франков – цену скандальную для той эпохи, и которую «друзьям Лувра» пришлось так сильно повысить на распродаже Руара. Но, возвращаясь к улице Сен-Жорж, среди картин, которые я написал в этой мастерской, я вспоминаю «Цирк» – девочек, играющих с апельсинами; портрет в натуральную величину поэта Феликса Бушо; пастельный «Портрет мадам Кордэ» и наконец «Жена и дети Моне» – в саду Моне в Аржентейле. Мне случилось приехать к Моне как-раз в тот момент, когда Мане приготовлялся писать этот сюжет, и, судите сами, мог ли я упустить такой прекрасный случай, имея модели тут же перед собой! Когда я уехал, Мане обратился к Клоду Моне: «По дружбе к Ренуару вы должны бы были посоветовать ему бросить живопись. Вы сами видите, что это совсем не его дело!»
25
Зайдя однажды к Леви Броуну (около 1888 г.), я застал его в большом возбуждении; продолжая начатый разговор, он сказал:. Ну да, я видел прежде «Анжелюс» Миллз всю в трещинах… а теперь она оказалась совсем новой! Наконец в одном из последних номеров какого-то журнала (1920) – вопль о помощи: «Анжелюс» начинает трескаться…».