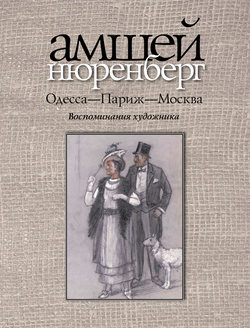Читать книгу Одесса-Париж-Москва - А.М. Нюренберг, Амшей Нюренберг - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Первые заказы
Ювелирная работа
ОглавлениеЯ еще в постели. За окном бушует первая снежная метель. Большие, мокрые хлопья весело стучат в запотевшие стекла и прилипают к ним. В комнатке полумрак. За фанерной стеной, оклеенной нежно розовыми обоями, знакомые часы тяжело и протяжно бьют семь. Надо печку затопить, сбегать к старому лавочнику Менделю за белым с изюмом хлебом… Но первый снег нагнал на меня такую лень, что пальцем шевельнуть не хочется. Я лежу под своим ватным пальто и думаю о ненаписанных еще зимних пейзажах.
В мозгу живо расцветают и гаснут заснеженные улицы, переулки с притихшими почерневшими заборами, голыми деревьями, бледно-желтым вымороженным небом и одинокими фигурами спешащих людей.
1930. Отец художника Марк Нюренберг сидящий и курящий трубку. Бумага, уголь. 34×23
Вдруг бесшумно открывается дверь и в комнату входит незнакомая пожилая женщина в тяжелом черном платке. Она медленно стряхивает с себя талый снег и, притаптывая большими галошами, простуженным голосом спрашивает:
– Вы художник?
– Да.
– Я к вам.
Не дождавшись моего приглашения, она придвинула к себе стул и, усевшись, важно начала:
– У меня к вам большое дело. Только слушайте меня обоими ушами. Вчера я была у знакомых и видела портрет, нарисованный вами. Работа действительно художественная и сделана золотыми руками. Мадам Финкель – как живая. Вот-вот она откроет рот и что-нибудь скажет. Не буду много говорить. Я тоже хочу иметь такой художественный портрет.
– Хорошо, я вас нарисую.
– Сколько может стоить такой портрет?
– Пять рублей.
– В богатой багетной раме и со стеклом?
– Без.
– Дороговато…
Деловито оглядев комнатку, она продолжала:
– Конечно, я не мадам Финкель… Наследство, оставленное мне покойным отцом, не вызвало зависти в сердцах моих родственников. Я бедная, но гордая женщина. Торговаться с вами не буду. Я хорошо понимаю, что труд художника – это не труд торговца соленой рыбой. Пусть будет так, как вы хотите, – пять рублей, но…
Она вместе со стулом осторожно придвинулась ко мне и, наклонившись, тихонько прошептала:
– Но у меня к вам просьба.
– Какая?
Она сняла с себя платок и, прижимая длинную коричневую руку к ветхой лиловой кофте, прошептала:
– Нарисовать на моем портрете все то, что вы нарисовали на портрете мадам Финкель.
– Что именно?
Нюренберг и Менаше
– Золотые часики с монограммой и богатую брошь. Шикарную вязаную шаль, шикарное жабо.
Немного помолчав, поглядывая на запотевшее окно, задумчиво добавила:
– Пусть дети мои, когда подрастут, радуются. Им не будет стыдно за свою мать, за Хаю Медовую.
Через три дня я сдал моей заказчице портрет, нарисованный жирным итальянским карандашом на великолепной слоновой бумаге. На сухой и плоской груди сияли золотые часики с монограммой «Х.М.», а на тонкой, жилистой шее, обтянутой шелковым кружевным воротничком, славно покоилась огромных размеров золотая брошь. Взглянув на свой портрет, Хая Медовая протянула ко мне свои старческие сухие руки. Две большие розовые слезы торопливо понеслись по ее морщинистым щекам и медленно упали на кофту. Голосом, полным опьяняющего счастья, она воскликнула:
– Да, это настоящая художественная работа со всеми оттенками. Я всегда говорила, что художник, если захочет – все может нарисовать. Счастливый вы человек!
* * *
Слухи о моих ювелирных способностях быстро облетели всю сонную улицу. На меня посыпались заказы. Незнакомые люди запросто останавливали меня, дружески хватали за плечи и сулили сказочные заработки. Я сделался героем целой улицы.
Вернувшись однажды из школы домой, я застал у себя незнакомую женщину. Она непринужденно сидела на кровати и кормила ребенка. Подогнув одну ногу, другую, полную и крепкую, в белом шерстяном чулке она вытянула по стулу. На столе и печке пестрели пеленки. Остро пахло потом.
Мой приход женщину ничуть не смутил.
– А я вас около часу жду, – не меняя позы, спокойно сказала она. – Меня зовут Рахиль. Я – вдова с двумя малолетними детьми. Хлеб мой тяжел и горек. Но я не пришла к вам жаловаться. Я хочу жить так, как живут все люди. Я тоже хочу иметь художественный портрет. Вы, я думаю, меня поняли?
– Хорошо, я вас нарисую.
– Но я не торговка. Каждая моя копейка залита потом и кровью, я не могу платить бешеных денег. Вы меня поняли?
Она глубоко и громко вздохнула.
– Да, я вас понял.
1924. Две женщины с детьми. Бумага, угольный карандаш, акварель. 21×24
– Вы мне должны сделать уступку и взять два рубля. И вы ничего не потеряете. Я вам белье постираю и заштопаю, пол вымою…
– Хорошо, – согласился я.
Она мягко улыбнулась. Небольшие, чернозолотистые глаза смотрели благодарным взглядом.
– Теперь я могу идти домой и взяться спокойно за свою работу.
Она встала. Быстро собрав свои тряпки, она ловким движением завернула в них ребенка и, шаркая по полу желтыми мужскими штиблетами, вразвалку пошла к двери.
В дверях она остановилась, обернулась.
– Да, совсем забыла… Я хотела бы, чтобы вы мне… кроме золотых часов с монограммой и броши нарисовали… – и, слегка покраснев, она почти шепотом добавила, – бриллиантовые серьги… Только не очень большие… лучше маленькие.
– Все будет сделано, – обещал я.
Невыразимая радость, наполнившая до краев ее сердце, осветила ее круглое, мясистое лицо. Изливая свои чувства, она крепко прижала к себе ребенка и стала целовать его, звучно причмокивая. Она приходила ко мне ежедневно. С ребенком и узелком, туго набитым тряпками. Непринужденно усевшись на мой единственный стул, Рахиль медленно расстегивала изумрудную вязаную кофту и, ловко вынув свою могучую, розовую грудь, с каким-то подчеркнутым достоинством счастливой матери начинала кормить ребенка.
Меня в ней поражали не только груди, но и великолепной рубенсовской формы шея и колени. Глядя на Рахиль, я часто думал, что для живописи она олицетворяет неувядаемый образ еврейской женщины. Я рисовал ее цветными грифельками на французской шероховатой бумаге.
Чтобы развлечь меня, она негромко напевала еврейские песенки. Чудесные песенки бедноты, в которых чувствовалось никогда не унывающее веселое сердце. Часто вскакивая, она клала ребенка на кровать и, подойдя к портрету, волнуясь, тихо спрашивала:
– Скажите, художник, будет ли всем ясно, что в ушах моих настоящие бриллианты?
– Будет, – заверял я ее.
– Подумайте, – победно улыбаясь, повторяла она, – за каких-нибудь два рубля вы меня делаете нарядной. Вы – чародей.
Портрет не удавался мне. Чем больше я тратил сил, тем слабее были его качества. Заказчица в конце концов это почувствовала. Наблюдая мои трудовые усилия сделать работу эффектной, она с нескрываемым огорчением заметила:
– Я знала, что бриллианты невозможно передать, как в натуре.
Художественная слава меня начала утомлять. Порой я помышлял бросить свою улицу и переселиться в другой район, где меня не знают и где можно отдохнуть от пятирублевых портретов, срисованных по фотографии. Я мечтал о больших портретах, написанных на полотне масляными красками и с натуры, мечтал о молодых моделях с крепкими, свежими руками и ногами. Это были, разумеется, девушки в легких развевающихся платьях и в дорогой изящной обуви. Таким девушкам, конечно, не нужны были ювелирные портреты.
Пришла весна. Непреодолимо потянуло к морю. Каждое утро я уходил на Ланжерон. Бродил по влажному песку и жадно вдыхал крепкие запахи проснувшегося моря. Под ослепляющими лучами апрельского солнца цвели и горели необъятные пространства воды и неба. На берегу, покрытом уже молодой зеленью, суетились голубовато-розовые фигуры рыбаков.
Мягкий лирический пейзаж вызывал у меня чувство душевного покоя. Забывались неудачи, бедные, но требовательные заказчицы.
В конце апреля мне удалось найти наконец долгожданный заказ. Правда, он не совсем совпадал с моими мечтами, но я понимал, что, приобретая реальные очертания, мечты очень деформируются.
Большой, в натуральную величину, во весь рост, портрет молодой женщины. Жена какого-то разбогатевшего честного адвоката. За работу, в случае удачи, заказчик обещал уплатить пятьдесят рублей. «Пятьдесят рублей», – повторил я. Сумма казалась мне головокружительной. Заказ мне был дан адвокатом в письменной форме, с подробными указаниями, что и как я должен писать.
На большом листе плотной кремовой бумаги мелким, скачущим почерком было написано:
«Жена моя, Раиса Моисеевна, должна быть изображена у большого концертного рояля. На рояле стоит дорогая хрустальная ваза с большими розами. Голова жены немного повернута в профиль, усталые руки ее красиво лежат на клавишах. Раиса Моисеевна будто только что сыграла какую-то сильную симфонию и, задумавшись, мечтательно разглядывает висящих перед ней на стене любимых композиторов – Шопена, Грига и Чайковского».
Ниже было написано:
«Рядом с композиторами художник обязан в уменьшенном виде нарисовать меня.
И еще: портрет должен быть выполнен в радостных, как жизнь, ярких тонах и в гладкой манере.
Самуил Блох».
Я принял все условия и с жаром взялся за работу. Первые дни модель моя – Раиса Моисеевна, невысокая, крепко сложенная, живая брюнетка – позировала охотно. На ней было шелковое, пепельного цвета платье с большим вырезом на высокой груди. Она сидела легко и спокойно, много болтала, но это не мешало мне писать. Увлеченный работой, я не всегда внимательно слушал ее пестрые, путаные рассказы. Она не сердилась на меня за это.
– Вы сейчас витаете в облаках, – иронически улыбаясь, говорила она. – Творческий экстаз, бурные взлеты фантазии… Все понимаю.
Как-то прищурив глаза, с чувством произнесла:
– Ближе к земле, художник. Она не так скучна, как небо.
За несколько дней она успела с мельчайшими интимными подробностями рассказать мне о своей бурной молодости, о своих неблагодарных подругах и многочисленных неверных друзьях. О муже она говорила с подчеркнутой иронией.
Мне нравились порывистые движения ее хорошо посаженной головы, тонкая форма рук и неровная, нервная речь. Чувствовалось, что она много перенесла и передумала. Я начал привыкать к ней.
Работа шла удачно. Моментами мне даже казалось, что я близок к рисовавшейся мне столько времени победе. Единственно, что меня беспокоило, это техника моего письма – мазки. Как назло, они получались широкие и густые. Самуил Блох, я знал, будет ими недоволен. Но я не мог связать себя. Яркие масляные краски, новенькие кисти, большой зернистый холст и, наконец, молодая модель – все это на меня так пoдействовало, что мазки получались сами собой. Спустя две недели я начал замечать, что модель моя позирует с ленцой. Вынужденное сидение на круглом (без спинки) стуле, видимо, утомляло ее. Возможно также, что, исчерпав все темы для своих рассказов, она потеряла и вкус к позированию. Чтобы спасти работу, я сделал перерыв на несколько дней. Не теряя пока времени, я взялся за композиторов и Самуила Блоха. Написав их (мне они также показались удачно выполненными), я пригласил Раису Моисеевну и показал работу.
Увидев портрет, Раиса Моисеевна пришла в ярость. Большие красные пятна вмиг расцвели на ее бледно-смуглом лице. Не глядя на меня, она сквозь зубы процедила:
– Кто вам велел такую глупость сделать? Этот кретин?
С искривившимся ртом прошипела:
– Он с ума сошел. Рядам с Шопеном и Чайковским такого мещанина, пошляка. Подумайте, что вы сделали?
После короткой паузы:
– Сейчас же замажьте! При мне сделайте это! Сейчас. Слышите? Не сделаете – порву ваш портрет на мелкие кусочки.
Чтобы успокоить ее, я взял кисть, развел на палитре светло-охристую краску и покрыл ею изображение Самуила Блоха.
Узнав об этом, заказчик мой бросился ко мне.
– Исправить можно? – задыхаясь, спросил он.
– Разумеется, – успокоил я его.
– А я думал, все пропало, – продолжал он, сильно волнуясь.
Он порывисто подошел к портрету, остановил долгий, пристальный взгляд на нем, потом скользнул глазами по палитре, лежавшей на стуле, и потрясшим меня голосом сказал:
– Подумайте, это делает самый дорогой мне человек. Моя надежда, цель жизни… Теперь она – известная пианистка, а когда я пятнадцать лет тому назад встретил ее, это была забитая местечковая девушка в рва ном ситцевом платьице и истоптанных шлепанцах… Подумайте – пятнадцать лет я ее воспитывал, учил, кормил, одевал… Сколько мне это стоило сил, здоровья и денег. Сколько раз я волновался… И вот мне благодарность. Я – мещанин, сумасброд. Чем я ей мешаю на портрете?
Глаза его стали влажными.
– Я вас очень прошу почистить мой портрет.
Глубоко вздыхая и понизив голос, добавил:
– Она не любит, когда ей напоминают о ее прошлом… А мой портрет о многом напоминал бы ей…
Самуил Блох съежился и дрожащими руками растирал крупные слезы.
Эта семейная сцена тяжело подействовала на меня и вызвала глубокую жалость к нему. Передо мной стоял опустошенный, раздавленный человек. Надо было что-то сказать ему, но я не был искушен в семейных делах и не находил нужных слов.