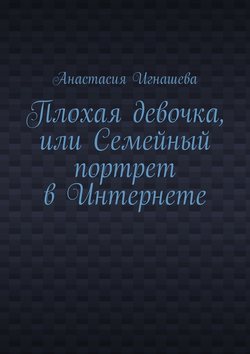Читать книгу Плохая девочка, или Семейный портрет в Интернете - Анастасия Андреевна Игнашева - Страница 2
Плохая девочка, или семейный портрет в интернете…
ОглавлениеОй… Простите… вместо в «интернете» следует читать в «интерьере». А впрочем… как хотите, так и читайте…
…Один из моих прадедов – Октябрь Буревой-Дозорный, был ярый большевик, комиссарил в Гражданскую в Особой Отдельной Пролетарской дивизии им. Августа Бебеля и тогда же взял себе такое странное «революционное» имя. До революции же звался он просто – Артемием Филипповым, служил в лавке купца Третьей гильдии Коробова и жизнь его была проста и ничем не примечательна.
В 1914 году прадед ушёл на фронт и там нахватался большевистских идей. К 1915 году он был уже законченным и закоренелым большевиком. Тогда же дезертировал с фронта, скрывался, но после революции объявился снова, уже в роли комиссара помянутой выше дивизии.
В 1920 году прадед женился на дочке своего комдива, Авдотье Норицыной и родилось у них четверо детей, названных тоже в духе времени: Баррикада, Бебелина, Пестелина (прямо по Булгакову) и сын Пролеткульт.
Прадед долго сражался с народом за его счастье – сперва был продкомиссаром (за что его дважды чуть не убили), потом долго выявлял каких-то вредителей среди старых инженеров и профессоров, потом был «двадцатипятитысячником», лично спровадив в ссылку целую деревню «кулаков», где-то на Севере, только за то, что у половины крестьян дома были двухэтажные, а вторую половину просто «за компанию». Он ещё долго бы старался, но в 1938 году его самого арестовали и после месяца допросов в «Большом Доме» на Литейном расстреляли в тамошних подвалах. Прабабку с детьми выслали из Ленинграда в Вологду.
В результате всех обрушившихся на страну и семью катаклизмов уцелели только двое – бабушка по матери Бебелина и её сестра Пестелина. Прабабка Авдотья умерла в 1942, Баррикада пропала без вести на оборонных работах под Оштой за год до этого, а Пролеткульта в 1943-м взяли на фронт, где он, как сын «врага народа», загремел в штрафбат и там погиб в первом же бою.
Тётя Пестелина так до конца дней своих и осталась яростной несгибаемой большевичкой, как и её отец. И старой девой. А бабушка Бебелина, или Лина, как все её звали, в 1948 году вышла замуж за пленного немецкого обер-лейтенанта, барона Рихарда фон Шенау, маркграфа фон Роде унд фон… ну, короче, титул у деда по матери простирался ещё на километр… За дедушку Рихарда, короче, как его звали все в нашей семье. Пестелина была в ужасе, но бабушка её не слушала.
В 1950 году родилась моя мама, а спустя два года – её брат, мой дядя – Сергей. А ещё спустя два года – тётя Оля – их сестра. Такова моя родословная по линии матери. Со стороны отца тоже были и репрессированные, и пострадавшие. Родители моей бабушки по отцу были из старой питерской профессорской семьи. Прадед был профессор в Университете. После убийства Кирова в 1934 году его выслали из Ленинграда в Казахстан, в Семипалатинск. Семью, впрочем, не тронули, ибо по совету умных людей, едва запахло жареным и стали сгущаться тучи, он быстренько с прабабкой развёлся. Тогда это дело было пятиминутное. И бывшая жена осталась одна с двумя дочерьми в просторной квартире на Васильевском. Впрочем, вскоре она вышла замуж за какого-то чина из НКВД. Прабабка и бабушкина сестра погибли в блокаду и могилы их – безымянные братские могилы на Пискарёвке. А вот дед по отцу, напротив, происходил из семьи самой простой. С бабушкой он учился в одном классе и был влюблён в неё со школьной скамьи. Прабабке, ясное дело, такой дочкин ухажёр совершенно не нравился, ибо дед принадлежал к компании самой отпетой.
Потом началась война, дед ушёл на фронт, дважды был в плену, бежал (что тщательно скрывалось), партизанил, был трижды ранен, один раз на него пришла похоронка, но он оказался жив, дошёл до Берлина, стал Героем Советского Союза и участником Парада Победы. Таким образом оба моих деда в войну сидели по разные стороны фронта и целились в башку друг другу. Причём – буквально. Но об этом позже. И оба, к счастью, промахнулись…
После свадьбы дед Николай, как звали деда по отцу, поселился с бабушкой Верой в её просторной квартире на Среднем проспекте Васильевского острова, которая после высылки деда сначала сделалась коммунальной, но потом опять стала принадлежать им полностью. А в 1957 из ссылки в Семипалатинск вернулся прадед. Но прожил он недолго и вскоре умер.
В том же, 1957 году, после Двадцатого съезда партии и развенчания «культа личности», ставшего для тётки Пестелины глубочайшим потрясением, сильнее были только «перестройка» и крушение Советского Союза, из Вологды в Ленинград вернулись и бабушка Лина с семьёй. Бабушка с Пестелиной, которую дедушка Рихард звал Польхен, пошли работать на «Электросилу», а дедушка Рихард, забив на свои многочисленные титулы и аристократическое происхождение, устроился грузчиком в продуктовый на Московском проспекте.
То было время надежд, время хрущёвской «оттепели», Московского фестиваля, первых КВНов, споров «физиков» с «лириками» и прочей романтической чуши, в которую, как и в построение коммунизма в 1980 году, впрочем, верили очень многие.
В 1970 году мама вышла замуж за папу и появилась я, а потом и мой брат. Поселились мама и папа вместе с папиными родителями в квартире на Васильевском – там места было больше. И именно с «Васькой» связаны мои первые детские воспоминания…
Я родилась в 1971 году и хорошо помню себя где-то лет с 2—3. Первые мои воспоминания – короткие и яркие и ничего, вобщем-то особенного не представляют… Вот кухня. Большая, просто огромная. Мне она казалась необозримой. И я каталась по ней на своём маленьком трёхколёсном велосипеде… Какие-то трубы вдоль стен, выкрашенные синей краской… Большая дровяная плита, которую, впрочем, никогда не топили на моей памяти… И я сижу на этой плите, завёрнутая в простынку. Меня только что искупали… И я вдруг особенно ясно и отчётливо понимаю, что я – это – я… Вот эти руки – мои. И ноги – мои… И вот мама со мной. А папа пошёл воду выливать… Нас с братом, пока мы были совсем маленькими, всегда мыли на кухне. И окна занавешивали, и газ включали, чтоб теплее было. Корыто было старое… Огромное такое – как ванна… А после купания всегда сажали на плиту эту, в обычное время служившую чем-то вроде разделочного стола. И на пока мы на этой плите сидели, мама стригла нам ногти, волосы подравнивала и ещё что-то делала. Мама носила круглую, как шар, большую причёску. Она называлась «бабетта». Меня это слово всегда смешило. У неё были красивые длинные волосы.
Ещё помню двор. Обычный «колодец». Мне он тоже казался огромным. В углу приткнулась помойка. Там, во дворе, играют дети постарше, а нас, «мелюзгу» не берут. Помню, требую конфету у какой-то девчонки старше меня, лет 7-ми.
– Дай! – громко кричу я.
Она попросту не обращает на меня внимания.
– ДАААЙ!!! – требую я уже громче, но с тем же результатом.
– ДАЙ!!!!! – опять ору я. Она по-прежнему не обращает на меня внимания, считая это, видимо, ниже своего достоинства. Продолжает что-то обсуждать с подругой.
– ДА-А-А-А-АЙ!!!!! – я разражаюсь рёвом и падаю на пыльный асфальт, колотя ногами. Она разворачивается и уходит, а вместо этого откуда-то появляется мама, подхватывает меня под мышки и уносит, а дома ещё и поднадаёт мне за то, что «позорилась». Я уже знаю это слово. Позориться нельзя. Нельзя кричать, баловаться, плакать, когда просишь – всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо». Впрочем – в следующий раз я и за «пожалуйста» ничего не получила… Отсюда мораль – никогда ничего ни у кого не проси. Просить – это плохо. Попрошаек не любят и с ними никто не хочет играть. Это мне бабушка объясняла. И жадными нельзя быть. Надо делиться. Я только одного не могла взять в толк – почему, когда у меня что-то просят – я всегда делюсь, а когда я у кого-то что-то прошу – никто не поделится. Меня учили, что плохо быть жадной, а все вокруг только и делали, что жадничали… Теперь-то я понимаю, что правы были как раз они, а меня просто использовали как безотказную дурочку, но поняла я это только классу к пятому, а пока…
Ещё помню – дядя Валера. Папин брат. Мама говорит, что он долго жил на Севере, где что-то строил. Работал. Дядя Валера не похож на папу. У него странные глаза. Злые и грустные одновременно. А ещё – у него нарисованы странные картинки на теле. Синей краской. Церковь, голуби и ещё что-то… Мне это очень интересно, а мама говорит – «не пугай детей». А мне непонятно – чем могут напугать какие-то там картинки? Картинки мне очень нравились и я всё приставала к папе, чтобы он себе такие же сделал. Не помню, что там папа на это отвечал.
А потом дядя Валера «женился». Я не совсем понимала, что это такое, но в доме появилась тётя Катя. Она курила, что было совсем странно. Я была убеждена, что курят только мужчины. А тут – тётя Катя. Она была вовсе неплохая, но мама сказала, что не хочет, чтобы дети росли «среди всего этого» и мы переехали к бабушке Лине и дедушке Рихарду с тётей Пестелиной на Гагарина. Тётю Пестелину я боялась. Тётя Пестелина, вообще-то была никакая не тётя, а двоюродная бабушка, но всё равно требовала, чтобы я звала её тётей и говорила ей «Вы», что было ужасно глупо, неудобно и непонятно. Ведь «Вы» – говорят когда много и когда люди – чужие. А какая же тётя Пестелина чужая? Хотя – иногда она казалась мне чужой. Каждый день она читала вслух за ужином газету «Правда». Дедушка Рихард называл её «священным писанием» и «геббельсовской пропагандой». Что это такое – я не знала, но тётка очень сердилась. И они ругались каждый день. Из-за чего – я не понимала, но там, в квартире на Гагарина, было очень неуютно. И ещё – уже тогда я в душе была на стороне дедушки Рихарда. В спорах последнее слово всегда оказывалось за ним. Впрочем – чтение газеты вслух вскоре прекратилось – вмешался мой папа и сказал, что это «не способствует аппетиту» (прям как профессор Преображенский).
…Отец был военным и вскоре наша семья переехала в Киев. Помнится, меня здорово удивило то, что на свете существуют ещё какие-то города, кроме Ленинграда. Я не помню самого переезда. Помню только коробки в нашей ленинградской квартире и как мы с братом в эти коробки прятались. Сборы были неспешные и начались где-то за месяц, или даже больше до отъезда. Не помню я и самого Киева, хотя мы прожили там достаточно долго – я пошла там в школу и проучилась первые два года.
От киевского периода моей жизни у меня осталась в памяти странная ассоциация – Киев – это каштаны, а каштаны – это торт… Вообще же – память моя носила тогда очень избирательный характер. Я совершенно не помню само место, где происходили те, или иные события, но хорошо помню сами события и людей, которые в них участвовали. Лица, во что были одеты, что говорили. Даже голоса помню.
Главная улица в Киеве называется Крещатик. Это название, помнится, жутко смешило моего братца.
– Крещатик!!! – выкрикивал он и заливался смехом. А смеялся он тогда – как колокольчик. Весело так, заразительно. Прямо как Тим Талер из «Проданного смеха». Всех это умиляло. Брата вообще любили больше, чем меня. Во-первых: младший, во-вторых: мальчик, в-третьих: смазливенький, как куколка. Сейчас, глядя на его старые фотки, многие думают, что он – это я. Мы были прямой противоположностью. Он – вечно смеялся, постоянно болтал и всеми силами старался привлечь к себе внимание, чтоб его заметили и похвалили. Я была диковатой замкнутой девочкой, очень молчаливой и некрасивой к тому же. Когда ко мне обращались я либо отворачивалась, либо просто уходила. Либо вообще – начинала грубить. Я не любила излишнего внимания к своей персоне. Из-за этого мне частенько доставалось. К тому же – братец был светленький, как одуванчик, и кудрявенький. Его так и звали – «Одуван». В глубине души я ему завидовала. Потому как знала, что мальчиков, да к тому же светленьких, – любят больше. И я никогда не упускала случая оттаскать его за волосы. Всё наше детство – это сплошная война, в которой, впрочем, изредка бывали перемирия. Чего я только не делала, чтоб Вовке жизнь мёдом не казалась! И в туалете запирала, и пургена в чай подсыпала один раз – последствия очень напугали маму – она подумала, что у её сына дизентерия, и… всего не упомнишь сейчас! Он, однако же, в долгу не оставался. Однажды, в очередном побоище, рассёк мне лоб «плечиками» для одежды. В другой раз выкрал мой дневник и пустил читать среди дворовых пацанов. Вот это был приём из разряда запрещённых, которых я себе никогда не позволяла и брательник был жестоко выдран отцом. А в обычных случаях предки всегда были на его стороне.
Ещё помню – меня очень удивляло по первости, что в Киеве люди говорят по-другому. Не так, как в Ленинграде. И не так, как мама с папой. Я была убеждена, что люди везде и всюду живут и говорят совершенно одинаково. Очень удивило, в частности, то, что есть, оказывается, другие страны и народы, которые совсем-совсем на нас не похожи. Что в других странах, оказывается, есть такие нехорошие люди, «капиталисты», которые угнетают хороших людей – рабочих и крестьян. Это нам уже воспитательница в детском саду рассказывала. А детям рабочих и крестьян не дают ходить в школу. Впоследствии, уже в школе, я очень мечтала, чтобы и мне кто-нибудь не давал туда ходить…
Когда я рассказала про капиталистов дедушке Рихарду, гостившему в то время у нас, он сперва засмеялся коротким смехом, а потом сказал, что это не так. Вернее – не совсем так.
– А как? – спросила я.
– Потом расскажу.
Я же узнала ещё одну вещь. В Киеве нас с братом отдали в детский сад. Там я впервые услышала слово «жвачка». Что это такое – я не знала. Была там, в моей группе, одна девчонка – Байба. Имя у неё было странное такое. Я потом переделала – Байба-Шайба. Эта самая Байба была у нас чем-то вроде принцессы, или королевы. Она всегда была очень красиво и нарядно одета, часто таскала в садик необыкновенные «заграничные» игрушки, которые никому не давала. Воспитатели перед нею чуть ли не вприсядку плясали. Называли не иначе, как Байбочкой, никогда не наказывали, в отличие от других детей и всем в пример ставили. На всех остальных-прочих эта Байба смотрела свысока и всячески оскорбляла. Если все стульчики в группе были заняты, а ей не оставалось места – могла спокойно согнать кого-нибудь. Меня она, почему-то особенно невзлюбила. Однажды она меня ущипнула, помню, просто так – ни за что. Я в ответ толкнула её и дёрнула за волосы. Наказали именно меня – за то, что посмела тронуть распрекрасную Байбочку. Разумеется – все в группе хотели с ней дружить, чтобы пользоваться её расположением и ловить отблески славы, падающие на неё. Кроме меня. Я почему-то сразу поняла, что бегать и выпрашивать расположение у такой – это позориться. Слишком хорошо я запомнила урок с конфетой в нашем василеостровском дворе…
Вот у этой самой Байбы и были «жвачки». Или «жувы», как мы тогда говорили. она приносила их с собой и были эти «жувы» в ярких цветных обёртках с картинками. Она разворачивала их и принималась жевать, а все прочие смотрели заворожённо. Пожевав какое-то время, когда жвачка переставала быть сладкой, она вынимала изо рта комочек и спрашивала:
– Кому дать дожевать?
Желающих всегда было предостаточно, да и за фантиками тоже охотились. Их надо было всегда долго выпрашивать. А Байба иногда просто разрывала яркую бумажку в клочки и бросала в толпу. И я никогда не могла взять в толк – почему это другие дети всегда так позорятся перед этой мерзкой Байбой? Но другие ребята этого, похоже не понимали и воспринимали как должное. Все девочки хотели с ней дружить, все мальчики – её защищать. У нас тогда так говорили: «Я буду такую-то защищать.» Всех девочек, кроме меня, кто-то «защищал». Когда я спросила, кто будет «защищать» меня, то Юрка Лисицкий выкрикнул: «Никто!». И я поняла, что надо защищаться самой. Чтобы опять не позориться. Мне вообще потом очень многое в жизни пришлось делать самой. А это был первый урок. Потом, правда, Павлик Синицкий сказал, что он меня будет «защищать», но его самого от всех надо было защищать, ибо его лупили все, кому не лень – и девчонки в том числе. И был он вечно какой-то грязный, сопливый, изо рта у него плохо пахло. Мне такой защитник был – только позориться. О чём я ему и сказала.
Особенно перед мерзкой Байбой выплясывала одна наша воспитательница – Алла Александровна. Высокая кобылообразная стареющая тётка. Она была злая, чёрная и одевалась всегда в чёрное. особенно меня поразило, что она надевала под юбку брюки и так ходила. Любимое наказание у неё было – в угол ставить. Иногда там по пол-группы скапливалось. Байбу в угол никогда не ставили. На прогулках воспитательница всегда вела её за руку, а мы шли сзади. Я долго не могла понять, почему эта мерзкая Байба такая особенная, пока во время тихого часа Ирка Исаенко, моя единственная подруга, не объяснила:
– Ты что – не знаешь?! У неё же мать – директор базы!
– А что такое база? – не поняла я.
– Ну – дефицит может достать.
– А что такое дефицит? – я ещё больше запуталась.
– Ты шо – совсем дура?! – рассердилась Ирка.
– Сама дура! – обиделась я, – Я просто не знаю.
– Это то, что в магазине не купишь! – с чувством превосходства объяснила Ирка, – Его доставать нужно.
– А-а… Как жувы?
– Ну да.
– А туда можно поехать и купить что-нибудь?
– Ты шо?! – Ирка выразительно покрутила пальцем у виска.
И я поняла, что «база» – это такое таинственное и недоступное простым смертным место, где есть буквально всё. И байбина мама там директор. И ещё я уже знала, от той же Байбы, что жвачки не покупаются, а «достаются». «Доставать» же в те времена приходилось не только жвачки, но и почти всё. Все хорошие вещи непременно доставались. А хорошими были только заграничные вещи. Откуда всё это «доставалось», из каких-таких закромов и запрятушек – я не уяснила до сих пор. И доступно сие умение было далеко не всем, а лишь избранным. Это тебе не нынешний Троицкий рынок, где тебе руки-ноги расцелуют, только б ты свои деньги у них оставить соизволила. Люди, которые умели «достать дефицит» были чем-то особенным. С ними старались завести знакомство, их всячески ублажали, перед ними заискивали. А по-моему – просто позорились. Мои родители не умели ни того, ни другого. Они не умели ни достать дефицит сами, ни позориться перед теми, кто умел это делать. Наша семья вообще была довольно странной, на взгляд окружающих. Мы, например, не стремились обзаводиться «богатством по-советски» – коврами и хрусталём. Вместо этого покупали книги. Книг действительно было много и друзья родителей, а потом и наши с братом, говорили, что наша квартира похожа на библиотеку. Потому-то мы с братом и читать научились рано – нам года по 4 было. Не помню, чтоб кто-то специально показывал нам буквы. Я сама стала читать, чем очень удивила маму. Правда, очень долго, лет до 10-ти, я не умела читать про себя. Только вслух.
Была у нас в группе ещё одна девчонка, которая тоже претендовала на роль королевы. Только труба у неё была пониже и дым, соответственно, пожиже. Звали её Людка. Фамилии не помню. Была она высокая, выше всех в группе, толстая. Мальчишки дразнили её «Люда – съешь верблюда». Она в ответ дралась с ними по-страшному. До крови. Никакого «дефицита» её предки, как и мои, достать не могли, но её отец, как она говорила, был военным, как и мой, и она очень гордилась тем, что жила в Германии. На этом и рассчитывала выехать. По-моему – просто врала. Ни одного слова по-немецки не знала. А я знала. Меня-то дедушка Рихард учил! И видела я однажды её маменьку. Увидела – и испугалась. Лицо сине-фиолетовое, толстое, как подушка, пальто грязное, словно на земле валялась. И пахло от неё просто мерзко. Я и не представляла раньше, что такие женщины вообще бывают. И я тут же поняла, что Людка врёт и никакой Германии и в глаза не видела. О чём я тут же и заявила. Людка, естественно, кинулась на меня с кулаками и мы подрались. Нас, разумеется, поставили в углы – меня – в группе, а Людку – в туалете.
Однажды Людка сказала, что у неё тоже есть «жува». Она и вправду что-то жевала.
– Покажи! – не поверила я.
– Немецкая! – хвастливо сказала Людка.
– А покажи!
Она показала. Это была её ошибка. Жевала Людка обычный пластилин. И я опять немедленно уличила её во лжи.
– А Людка пластилин жуёт и говорит, что это жвачка! – заорала я на всю группу. Она опять кинулась на меня с кулаками, а я на неё с тапком.
– Людка вруха!!!! Брехуха!!! – подхватила Ирка.
Уличённая Людка убежала реветь в туалет, а я поняла ещё одну вещь – враньём ничего не добьёшься. Положение в обществе надо завоёвывать другими способами.
Впрочем – и байбино царство однажды закончилось. Тогда я не особенно понимала, что вдруг произошло и почему вдруг Байба лишилась своего могущества. Это теперь, вспоминая, я понимаю, что её маменька-завбазой просто-напросто проворовалась, на чём-то погорела и лишилась и тёплого места, и привилегий, а, возможно, и свободы… Но тогда мне всё это казалось просто справедливым возмездием. Некоей «божьей карой» за все её грехи. Случилось всё это в какой-то праздник. Почему-то все самые сильные неприятности и потрясения происходят именно в праздники, когда народ расслабляется. Мы тогда в детском саду готовили нечто, под названием «монтаж». Алла Александровна раздала всем написанные на бумажке «слова», которые надо было громко, «с выражением» читать на сцене. Читали по очереди и это называлось «монтаж». И я долго-долго была уверена, что «монтаж» – это когда стихи читают, а не когда что-то там из чего-то собирают – «монтируют». И что «монтажники» – это те, кто стихи читает. Байбе, как всегда, слов дали больше всех и номера объявлять доверили тоже ей. Она ж ведь «звезда» у нас была. Этакая Ксюша Собчак местного разлива. А мне, как всегда, ничего не досталось. Отчего папа меня всегда звал «отставной козы барабанщик». Что сие означает – до сих пор не знаю.
Ну так вот. Те, кому дали «слова», каждый день «репетировали». Вместо того, чтоб играть и я очень скоро перестала им завидовать. Было б чему! Подумаешь – «выступают»! Эка невидаль. А мерзкая Байба задрала нос ещё выше. Ирке, впрочем, тоже дали «слова» и меня это здорово расстроило, потому как играть стало не с кем. А мы в то время играли в новую и очень захватывающую игру – в «амазонок». Основным автором идеи и сценария была я. Незадолго до этого мама прочла мне мифы Древней Греции в переложении для детей и истории про амазонок меня захватили. Вот этими-то амазонками и были мы с Иркой! Каждый день я придумывала новые истории, которые мы и разыгрывали. Особенно мне нравилось, что амазонки в древности скакали на лошадях. У меня была лошадка-палочка и игрушечный лук со стрелами-присосками. Лук, вообще-то, был подарен братцу Вовчику, но я его ничтоже сумняшеся реквизировала. Тем паче, что братец всё равно с ним не играл. Братец у меня вообще был нетипичным мальчиком – терпеть не мог, например, шумные мальчиковые игры – «в войнушку», в футбол. А я, наоборот – терпеть не могла играть в куклы и в дочки-матери. Я хотела играть «в войну», но меня не принимали. Посему мы и играли «в амазонок». Хотя – «после фильма „А зори здесь тихие…“ все девчонки играли в войну…»
Но я опять отвлеклась. Итак, Ирка репетировала свои «слова», а я – маялась от безделья. Играть в амазонок больше никто не хотел, да я и не звала никого. Попробовал было подкатиться ко мне сопливый Павлик, которому тоже «слова» не дали и с которым никто не играл, но я его прогнала, сказав, что я хочу играть в амазонок, а амазонки-мальчики не бывают.
– Тогда я буду Геракл! – не сдавался Павлик, который, как выяснилось, тоже был знаком с древнегреческими мифами.
– Ты – Геракл, в штаны накакал! – ответила я, – Сопли вытри! Гераклы сопливые не бывают!
Павлик обиделся и ушёл, а я взяла лук и от нечего делать стала целиться в Байбу. Воспитательница стояла ко мне спиной и не видела, что я делаю, зато все прочие видели. Ирка особенно. Она одна поняла, куда я целюсь и стала подавать мне всяческие знаки. Воспитательница, естественно, это заметила, но было уже поздно. Стрела-присоска сорвалась у меня с тетивы и угодила точнёхонько Байбе в лоб!!! Вреда особого ей это не причинило, но шуму наделало. Репетицию, понятное дело, свернули. А надо мной устроили показательный суд.
– Ты зачем лук принесла? – грозно вопрошала Алла Александровна.
– Потому, что я амазонка. – ответила я.
– Ты хулиганка, а не амазонка!
Закончилось всё тем, что меня, как обычно, поставили в угол. Как сказала воспитательница «до вечера». За общий стол мне тоже оказалось нельзя. Обед мне принесли прямо в угол. И раскладушку на время тихого часа туда поставили. Изолировали, короче, от общества. Но Ирка молча показывала мне большой палец. Байба и ей опротивела. Лук Алла Александровна спрятала в шкаф. Другим детям было запрещено со мной разговаривать, но Ирка всё равно подошла.
– Здорово ты Байбе в лоб попала! Так ей и надо.
Ирку за общение с «преступницей», то-есть – со мной, – тоже наказали. поставили в другой угол. А мне, чтоб я ни с кем не разговаривала, – завязали рот чужим шарфом. В таком виде меня и застал дедушка Рихард, пришедший за нами с братом вечером. Он пришёл в ужас и негодование от всего увиденного и закатил Александровне грандиозный скандал.
– А почему бы Вам было не запереть её в подвале?! – спросил дедушка.
К слову сказать – та имела бледный вид. Именно тогда дед и сказал слова, которых я раньше тоже никогда не слышала – «концлагерь» и «архипелаг ГУЛАГ». Дома он устроил скандал родителям. Причём с мамой он ругался по-немецки. Они с мамой вообще очень часто говорили по-немецки. И меня учили. «Тихую ночь» – немецкую рождественскую песню – я знала наизусть уже в три года. А в нашей семье и теперь празднуют Рождество дважды – по православному и по католическому календарю…
…Вообще же дедушка Рихард заметно выделял меня из всех своих внуков. Наверное, потому, что я была самая старшая, да ещё – девочка, единственная, среди многочисленных парней. У дедушки Рихарда с бабушкой Линой было трое детей – моя мама, дядя Сергей и тётя Оля, которую все звали «Тётя Оля из Москвы». У дяди Сергея тоже было трое детей – Максим, Герман и Лёша, а у тёти Оли – сын Костя. Дед в шутку называл мальчишек «футбольной командой». Про братьев я потом расскажу. Скажу только, что из всех наших родных самой бедной, непутёвой и неустроенной была наша семья.
Итак, в тот вечер дедушка ругался с мамой из-за меня. Он требовал забрать меня из этого жуткого места.
– Ну и куда я её дену? – спрашивала мама.
– В другой сад.
– Ха! Как будто – там есть место?!
– Тогда я буду сидеть с ней! Хочешь – увезу её в Ленинград?
– Но ей жить среди людей!
– Так значит – пусть привыкает к издевательствам?! Это чёрт знает что!
Дальше разговор пошёл тише и по-немецки. «Чтобы дети не слышали». Мама с дедушкой сами учили нас с братом немецкому, но когда ругались, то всегда забывали об этом и думали, что мы не понимаем, о чём они там говорят.
Вобщем – пару дней я в садик не ходила. К слову сказать – на дверях садика висела табличка на двух языках, русском и украинском: «Детский сад №6» – «Дiтячiй садок №6». В русской части вывески в слове «сад» буква «с» куда-то пропала, отчего надпись приобрела совсем иной смысл. И довольно правдивый, как я сейчас понимаю. Тогда я воспринимала всё как некую данность, с которой приходится мириться.
Я начала рассказывать, как Байба вдруг, совершенно неожиданно, лишилась своего могущества. И произошло это в тот день, когда я снова пришла в садик. Всё было как обычно. Мы с Иркой немного поиграли в амазонок. Перемену я заметила только за завтраком. Байба обычно ела за одним столом с воспитателями, но в тот день её за него не пустили. И она явно не понимала, в чём дело. И никто не понимал, но все чувствовали, что могуществу мерзкой девчонки пришёл конец. Она пошла искать себе место, но её никуда не пускали. Так она добралась до столика, где сидели мы – я, Ирка и Павлик. «Изгои общества», как нас Алла Александровна называла. Что это означало – мне было непонятно, но мне было плевать. Мы её тоже не пустили. Мы с Иркой расставили локти так, что места за столом не осталось. Байба, ещё недавно такая всесильная, готова была разреветься.
– Рёва-корова! – сказала я, – Рёва-корова, дай молока!
– Скольки стоит – два пьятака! – подхватила Ирка.
После вмешательства Аллы Александровны её кое-как усадили за наш столик. Мы с Иркой изо всех сил толкали её под бока, а потом Ирка схватила её ложку и зашвырнула в угол. И, к нашему удивлению, Алла Александровна сделала вид, что ничего не происходит. «Слова» к празднику у Байбы тоже отобрали и спешно раздали другим ребятам. Праздник должен был быть со дня на день. Достались «слова» и мне. После завтрака Алла Александровна дала мне бумажку со стихами.
– Покажи ей, где стоять надо. – велела она Ирке.
«Слова» мне достались на украинском, а я его не знала. К слову сказать, – за всё время нашего житья в Киеве я так и не выучилась говорить по-украински. Даже выговора южного не приобрела. Всегда говорила чётко и чисто «по-ленинградски». А из всего Киева запомнила только «Житный рынок», да памятник Богдану Хмельницкому, который приняла, из-за его сходства, за «Медный Всадник». И долго была убеждена в том, что в каждом городе мира обязательно должен быть свой «Медный Всадник». А украинский язык казался мне испорченным русским и очень смешил.
А тут мало того, что надо было стихотворение читать по-украински, так ещё маме нужно было сшить мне костюм «гуцулки», ибо стихи мне достались про «Зэлэни Карпати». Кто такие гуцулы я не знала, где находятся Карпаты – тем более, но – «надо – значит надо». Мне и в голову тогда не приходило, что я могу отказаться. Да и мама с детства старательно приучала нас с братцем к мысли, что есть такое слово «надо». Это потом уже я стала задумываться на тему «Оно мне надо?». А тогда мама с ног сбилась с этим костюмом. Они с иркиной матерью шили его до трёх часов ночи, но к празднику всё было готово. Самое интересное – что самого праздника я не помню. И куда потом этот костюм делся – тоже. Кажется, Александровна попросила маму оставить костюм в садике. Настолько поразил её мамин шедевр.
Байбы на празднике не было. Она исчезла из садика накануне.
Когда Александровна отобрала у неё «слова» и сказала, что она не будет участвовать в празднике, Байба убежала в туалет – плакать.
После репетиции мы с Иркой, как всегда, стали играть в амазонок. На этот раз мы взяли к себе в игру Павлика на роль пленного царя. Он и тому был рад. С Павликом не хотел играть никто и он время от времени прилеплялся к нам. Это был худенький, болезненно-некрасивый еврейский мальчик. От того, что у него были полипы в носу, рот у него был вечно приоткрыт, как у рыбы, вытащенной из воды. Из носу вечно текли зелёные сопли, а изо рта воняло. Его дразнили «соплёй» и «вонючкой». Вобщем, Павлик только и годился, что на роль пленного царя.
– Пленных амазонки сбрасывали со скалы! – вещала я, – Тебя тоже сбросим!
– А где будет скала? – спросила Ирка.
– На столе!
Вобщем, Павлик спрыгнул со стола, изображая бесславную смерть, и мы оставили его в покое.
Раньше Байба не проявляла интереса к нашим играм, или относилась к ним с великим презрением. Играла она только с избранными. Но теперь избранные её отвергли и она попробовала прилепиться к нам. Но мы с Иркой её выгнали, потому как нам она ухитрилась насолить больше всех.
– Я тоже хочу быть амазонкой, пожалуйста! – упрашивала она.
– Амазонки такие не бывают. – ответила Ирка, – Справди, Нелю?
– Да. У амазонок были длинные волосы. – авторитетно заявила я.
У нас с Иркой были косички, а Байба носила локоны до плеч, на которые ей цепляли огромный идиотский бант.
– И амазонки с бантами не ходят. – продолжала я.
– Да! – подхватила Ирка, – И ты в меня солдатика заграничного вкрала! И казала, шо это твой!
– А меня щипала всё время! – добавила я, – И ещё – подножки всё время ставила! И когда ты стекло в шкафу разбила – сказала, что это мы с Иркой!
– Я больше не буду. – сказала Байба.
– Врёшь! – не поверила я.
– Брешешь! – добавила Ирка.
– Я вам жуву дам. – не отставала Байба.
– Изо рта не хочу! Там слюни твои противные! – сказала я.
– Сама жувай пожуванную! – поддакнула Ирка.
– Я новую дам. С фантиком!
– Не хотим!
– Гэть звiдсiлля!
И Байба ушла несолоно хлебавши. Даже сопливый Павлик отказался с ней играть.
Самое смешное, что дома мне эту гадкую Байбу всё время в пример ставили: Байба такая, Байба сякая, хорошо кушает, тылы-мырлы, она лучше всех, словом. И я однажды не выдержала:
– Ну и живите, – говорю, – со своей гадкой Байбой! А я уйду!
И ушла. Но недалеко. Меня дедушка Николай отловил. Он в то время гостил у нас. И привёл домой. А мама мне лекцию прочла. Длинную. На тему, с кого я пример брать должна.
А Байба действительно «хорошо кушала». Что расстраивало мою маму. Она всегда считала, что главное, это чтоб дети хорошо кушали, хорошо учились и слушались маму и папу. А Байбе просто давали не то, что другим детям. Её сажали за один стол с воспитателями и она ела то, что готовили для них. А им варили отдельно. Лично я детсадовскую еду есть не могла. Особенно ненавидела тушёную капусту и «морковку». То, что это морковка – догадаться нельзя было и с 10 раз – грязно-бурая масса с мерзким запахом и ещё более мерзким вкусом. И вообще – кормили в детском саду отвратительно. Еда напоминала, как я сейчас понимаю, – тюремную баланду. Каша была вечно холодная и с комками, супы вечно пересоленные. Еду я оставляла почти нетронутой, чем вызывала дикую ярость Аллы Александровны. Она твердила, что я не выйду из-за стола, пока всё не съем. А я не могла это есть. И тогда она выбрала из группы пару мальчишек посильнее и велела им накормить меня насильно. Закончилось всё тем, что меня вырвало прямо в тарелку. Больше насильственное кормление не применялось.
Но в этот раз Байбу посадили не вместе с воспитателями, а с остальными детьми. В тот день опять была гадкая «морковка». И суп гороховый. По виду похожий на павликины сопли. Его я ненавидела ещё больше, чем морковку. Словом – мне светило остаться голодной до вечера. Ирка, глядя на меня, тоже есть отказалась.
– Байба, – говорю я, – съешь за меня? Я не хочу, а ты всё равно хорошо кушаешь.
– И за меня. – попросила Ирка.
И мы придвинули ей свои тарелки. Иногда за нас доедала Людка – та самая, что жевала пластилин и врала про Германию. Она вообще мела всё подряд, не разбираясь – вкусно-не вкусно. Вот и в этот раз она мигом утянула иркину тарелку с супом. И Байба с отвращением принялась давиться детсадовской пайкой. Уверена – такое не стали бы есть даже узники Бухенвальда, или Освенцима. А Александровна впервые похвалила нас с Иркой и поставила Байбе в пример, хотя прекрасно видела наши махинации с тарелками. Кстати, как впоследствии выяснилось – повариха наша детсадовская раньше работала вольнонаёмной в тюрьме и готовила для зэков. Ну-ну. А я тогда никак не могла понять – почему еда везде такая разная? Почему дома, в гостях, или, там, в ресторане – всё вкусно, а в садике, или в уличной столовке – есть невозможно? Потом всезнающая Ирка объяснила мне, что продукты просто воруют.
А в тот день Павлик принёс в садик машинку. Заграничную. Яркую. Красивую. Мы даже не ожидали, что у сопливого Павлика такие игрушки могут быть. И, конечно, все тут же захотели с ним играть, но Павлик сказал, что играть он будет только с нами – с Иркой и со мной. И мы премило играли до обеда. На этот раз не в амазонок. Я придумала новую игру – «в Директора». Директор и ездил на павликиной машинке. У нас это был напыщенный и глуповатый тип, который, тем не менее, водил машину сам, обходясь без шофёра. Ирка придумала, что шофёр от него сбежал.
– Ага! – согласилась я, – Директор был нахал и пьяница. И шофёров всех обзывал по-всякому.
После обеда, во время тихого часа, я никогда не спала и увидела, как Александровна потихоньку взяла машинку Павлика и сунула в шкафчик Байбы. Я не поняла, почему она это делает и промолчала. А после полдника, на который был кисель, похожий на сопли, и который я тоже пить отказалась, Павлик хватился своей машинки. Я хотела сказать Павлику, где его машинка, но Александровна прикрикнула на меня, после чего выстроила всех вдоль стенки и принялась обзывать ворами и пугать тюрьмой.
– Сейчас я позову дядю милиционера и он заберёт вора в тюрьму!
Я знала, где павликина машинка, но молчала – Александровну я боялась до икоты.
– Сейчас я буду искать в ваших шкафчиках! – объявила она и приступила к шмону. Начала она с моего. Вышвырнула всё на пол.
– Опять ты эти противные рейтузы надела! – крикнула она мне, – Забирай своё барахло и садись в угол!
Те, чьи шкафчики были обысканы, собирали разбросанные вещички, некоторые Александровна поддавала ногой, и садились в угол на лавочку. Это был тщательно разыгранный спектакль. Алла Александровна не сразу «нашла» машинку, которую «украли». Она сперва обыскала все шкафчики, с наслаждением ругая нас на все корки. Найденную машинку она торжественно подняла над головой.
– Чей это шкафчик?! – злорадно спросила она.
– Это не я! – закричала Байба.
– А кто?! Ты не только воровка! Ты ещё и врунья! Почему я это у тебя нашла?!
Я знала, что это не Байба, но молчала. Я знала, что ни в коем случае нельзя говорить правду. Иначе и со мной может случиться нечто ужасное. А Александровна приступила к экзекуции. Мы сложили наши вещи в шкафчики и встали в круг, в центре которого оказалась Байба, которую воспитательница держала за руку.
– Ты, Байба, – воровка и врунья! – торжественно объявила она, – Дети! Три-четыре! Во-ро-вка! Вру-нья!
И мы послушно кричали Байбе «воровка», «врунья» и «позор». У меня от ужаса всего происходящего язык во рту не ворочался и я только губами шевелила. На Байбу и всех остальных я боялась даже смотреть. После этого Байбу увели в раздевалку, посадили на лавочку, а всем остальным запретили к ней приближаться и разговаривать.
Через какое-то время я зачем-то забежала в раздевалку и увидела, что Байба лежит на лавочке очень бледная, белая совсем. Мне стало страшно – а вдруг она умерла?!
– Алла Александровна!!! Байба умерла! Она лежит и не дышит!!!
Вот тут Александровна перепугалась по-настоящему. И были врачи и «скорая»… Байбу уносили на носилках. Она не умерла. Просто в обморок упала.
Больше я Байбу не видела. Уволилась и Александровна.
Я давно поняла, что дети – это такие существа, которые никому, по большому счёту, не нужны. Позже, уже в школе, завуч, распекая наш класс за что-то сказала, что дети – это «заготовки взрослых» и «болванки, из которых мы должны выточить людей». И я видела, что нас терпят, но не любят. Взрослые могут над ребёнком сюсюкать и умиляться, но на самом деле – это не любовь. Особенно сильно нас ненавидела Алла Александровна. За малейшую провинность нас ставили в угол и лупили скакалкой. Я никогда не слышала, чтобы она нормально разговаривала – только кричала и ругалась. В садик я ходить ненавидела и боялась, но понимала, что с мамой спорить бесполезно и потому ходила. Это было такое же неизбежное зло, каким стала потом школа.
Меня Александровна ненавидела сильнее всех. Хотя – что мог ей сделать пятилетний ребёнок? Я, правда, уже тогда чувствовала, что я не такая, как все. Что слишком выделяюсь. Все в один голос твердили моей маме, что я – необыкновенный ребёнок. Наверное – родись я в нынешнее время, мои предки вняли бы голосу общественности и устроили бы меня в какое-нибудь заведение для особо талантливых и одарённых детей, где меня бы холили и лелеяли, но тогда были другие времена. Личности были не в почёте. Более того – это было просто чревато… Таких слов, я, понятное дело, не знала, но само отношение передавала очень точно: «Все злые и никакой свободы!» Свобода! Вот к чему я стремилась с детства! И я знала, что нам её не дают и не дают специально.
Детство моё было довольно серым и тоскливым. Наиболее сильным и оттого наиболее запомнившимся мне чувством была скука. Дни были серые и похожие один на другой. Вторым сильным чувством было ощущение непрекращающейся слежки. Нельзя было сделать ничего мало-мальски заметного, чтобы тебя тут же не одёрнули, не отругали и не сделали замечания.
Не кричи!
Не шуми!
Не бегай!
Не лезь!
Не трогай!
Не смей!
Сядь как следует!
Веди себя по-человечески!
Поднимай ноги!
Не сутулься!
НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
Нельзя было всё. Или почти всё. Всё, что хочется. Всё, что можно – было обязательно. У моих родителей был довольно распространённый взгляд на воспитание – чем больше человека ругать и наказывать – тем более воспитанным и культурным он вырастет. И с этой точки зрения – мама уделяла нам с братцем Вовчиком очень много времени. Она читала нам длиннейшие нотации на тему какими должны быть «хорошие дети» и что вырастает из тех, кто маму не слушался. От её нравоучений мне делалось паршиво и хотелось свалить куда-нибудь подальше. Папик времени на нотации не тратил, а просто снимал ремень. Или отвешивал затрещины. Он вообще мало говорил. Больше лежал на диване с газетой, когда бывал дома. Или телевизор смотрел. Газета, диван и телевизор – были три священных предмета, к которым нам с братцем было запрещено прикасаться. Я никогда не видела, чтобы отец помогал матери – мыл посуду, или убирал в квартире, или ходил в магазин. Я знала, что другие мужчины это делают. Я знала, что Иркин папа мог починить всё, что угодно, что папа Павлика всегда сам ходил за покупками, что даже папа мерзкой Байбы что-то там мог сделать. А наш только газеты читал. Я знала, что есть на свете мужчины, которые умеют пилить, строгать, чинить водопроводные краны и газовые колонки, клеить обои, варить обед, даже вязать, шить и вышивать крестиком, носить сумки из магазина, удить рыбу, охотиться, играть в футбол, водить машину, строить дома, доставать дефицит, драться, наконец! Вот только где они водятся – я так и не знаю до сих пор. И мама моя не знает. Ибо в отцы нам с братцем она выбрала мужика «диванно-розыскной породы» – в смысле – разыскивает диван, чтоб на нём выспаться. А ещё военный называется. Танкист. Хотя всё время он сидел в штабе и танки видел только издали, по-моему.
После истории с Байбой Александровна уволилась, но легче мне от этого не стало. Вместо неё пришла совершенно жуткая толстая баба по имени Валерия Константиновна. От неё вечно воняло луком и чесноком. А я не могла выговорить её имя и за это была в первый же день оставлена без завтрака. Я должна была учиться его правильно выговаривать. С тех пор ненавижу имя Валерия и Валерий. Хотя дядю Валеру любила. Он, когда не по тюрьмам сидел, очень хорошо ко мне относился. Но про дядю Валеру потом как-нибудь расскажу. У мамы с ним были сложные отношения, как и со всей папиной роднёй. И от общения с дядей Валерой нас ограждали.
Помню, как однажды мама сказала папе:
– Опять его посадили.
На мой вопрос, кого именно и как это – посадили, мама довольно раздражённо ответила, что дядю Валеру в тюрьму. Тюрьма представлялась мне местом, вроде нашего детского сада, где все сидят на стульях вдоль стен, а вокруг ходят злые надзиратели, похожие на воспитательниц.
К счастью, мои мучения на этот раз были недолгими. Отец уезжал в Ленинград – учиться в Академии и взял меня с собой. Что такое Академия – я представляла себе довольно смутно. И была уверена, что это такое место, где учат на академиков. Каким образом всё это сочеталось со службой в армии – я тем более не представляла. Но была рада, что поеду с папой в Ленинград.
Была весна. Приближался День Победы. В нашей семье это был особенный праздник. Из-за дедушки Николая. Дедушкой Николаем я очень гордилась. Он был настоящий герой. В смысле – Герой Советского Союза. И на все праздники всегда надевал все свои награды и Золотую Звезду. Он был участник Парада Победы. Наград у него было столько, что кителя на груди не было видно.
– Дедушка! Ты – генерал! – говорила я ему.
– Всего лишь капитан! – смеялся в ответ дедушка Николай.
– Нет, генерал! Только у генералов столько наград бывает!
После чего я принималась рассматривать его награды. Все ордена-медали я знала наизусть, но всё равно спрашивала:
– А это что?
– Медаль «За отвагу». В 41-м под Ельней получил.
– А это?
– Медаль «Партизану Великой Отечественной» 1 и 2 степени.
Я знала наизусть все истории с ними связанные, но всё равно просила рассказать. Звезду Героя дед получил за взятие Варшавы.
А ведь был ещё и дедушка Рихард… Про своё прошлое он не распространялся. Это уже потом, когда мне исполнилось лет 12, он словно неохотно стал рассказывать о своей жизни. О родовом замке на юге Германии. О родителях. О войне. О войне особо. Его рассказы сильно отличались от того, что я слышала до этого. Это был взгляд с другой стороны. Из-за линии фронта. В рассказах дедушки Николая и всех «наших» – кого я привыкла таковыми считать – война была подвигом. В рассказах дедушки Рихарда она была полным дерьмом. Дедушка Рихард попал в плен летом 44-го в Бобруйском «котле». Какой-то русский выбил ему зубы рукоятью пистолета, хотя он и не сопротивлялся вовсе, а сразу «хэнде хох».
Про дедушку, впрочем, я догадалась ещё тогда – лет в 5—6.
– Значит – дедушка Рихард воевал против дедушки Коли? – спросила я.
– Да. – сказала мама, – Но никому об этом не говори. А то будут большие неприятности.
– У кого?
– И у тебя тоже.
Вот так. Про дедушку Николая было можно рассказывать, а про дедушку Рихарда нет. Да и вообще – про то, что делают и говорят дома нам с братом было строжайше запрещено рассказывать на улице. Мама всё время повторяла:
– Чтобы то, что говорят дома на улице никому не рассказывали!
От такого предупреждения делалось жутко и тоскливо. И возникало чувство, словно кто-то большой и злой, вроде воспитательницы Аллы Александровны, следит за нами, чтобы наказать. И вообще – чувство пришибленности и ощущения того, что за тобой кто-то следит, у меня в детстве часто возникало.
В Ленинграде меня снова ненадолго отдали в садик. Но это было уже совсем не то. Это был краткий миг счастья в моей тогдашней жизни. И звалось оно – Анастасия Петровна. Я узнала, что бывают добрые воспитатели. И что бывает свобода. Меня она особенно выделяла. Ей нравились мои фантазии.
– А Неличка нам будет рассказывать сказку. А вы все помогайте. – говорила Анастасия Петровна.
И я старалась! И это было наше любимое развлекалово! Увы! Своих «фантазий» тогдашних я не помню!
Это именно Анастасия Петровна привила мне любовь к сочинительству и рисованию. Она учила нас задавать вопросы и не бояться говорить то, что думаешь. Всё это изрядно попортило мне крови потом, но я ей благодарна. Ибо Анастасия Петровна растила нас свободными людьми. К сожалению – это было не долго. Однажды она пропала. Потом я узнала – рак. Сгорела в полгода. Но работала почти до последнего.
А вместо неё явилась какая-то очкастая грымза. Имени её я не помню. Да и не суть. Она была одна из многих, прошедшихся по моей жизни паровым катком. Впрочем – из садика меня вскоре забрали. После одного забавного случая.
Однажды грымза загадала нам загадку: «Висит груша – нельзя скушать». А я возьми да и ляпни, что это-де – Аграфена Степановна повесилась! Ведь Груша – уменьшительное от Аграфена. Вобщем – больше я в этот садик не ходила. И последние полгода провела в компании бабушек-дедушек.
Ещё одно моё детское воспоминание – Пасха. Именно там, в Киеве, я впервые узнала, что есть такой праздник. Наша семья была безбожной. Родители были ярыми коммунистами. Вернее – мама. Ну ей было в кого – одна тётя Пестелина чего стоила. А отец просто опасался кабы чего не вышло и не было бы неприятностей по службе. Посему Пасху в семье не праздновали. А так же Рождество и другие церковные праздники. Но Пасха мне запомнилась особенно остро. Многие дети приносили в садик куличи и крашеные яйца. Ирка, например. Она же с гордостью сообщила мне, что она «крещёная». Что это такое – я не знала, но это сделало Ирку в моих глазах какой-то особенной. Теперь я тоже крещёная. Абсолютно нормальное для русского человека состояние.
Пасха приходила весной. Всегда неожиданно. Она вдруг являлась из ниоткуда с букетиками вербы и в разноцветных яичных скорлупках, в запахе куличей. Необыкновенная, таинственная, запретная и от того ещё более прекрасная и привлекательная. Она была для меня чем-то недосягаемым. Прекрасное неизвестное одним словом. Однажды я спросила маму, почему мы не празднуем Пасху. И маменька разразилась в ответ длиннейшим монологом, что Пасха – это вредный и опасный праздник, который празднуют люди некультурные и невоспитанные, ибо остался он от царских времён, когда нехорошие люди – господа и бары, угнетали бедных рабочих и крестьян и заставляли их праздновать религиозные праздники. От её воспитательного монолога мне, как всегда, сделалось тоскливо и паршиво. И Пасха сделалась в моих глазах ещё более притягательной и желанной. Особенно заманчиво выглядели крашеные пасхальные яйца. Это было самое необыкновенное во всей пасхальной атрибутике. И как же мне хотелось, чтобы и у нас дома были крашенки! Мне казалось, что даже вкус у них особенный, не такой, как у обычных яиц. Однажды, мне было уже лет 10, я попросила у мамы разрешения покрасить яйца. Ну хоть одно яичко! ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ!!!!!!! Мама визжала и топала ногами. Она метала громы и молнии. Она кричала, что не потерпит поповства и мракобесия в своём доме! Лицо её побагровело и перекосилось, в глазах сверкал какой-то нечеловеческий блеск. И я вдруг ощутила такой ужас и безысходность, что готова была заплакать. Но не заплакала. На всю жизнь я запомнила эту сцену. А мама потом уже, когда я выросла и вспомнила про этот случай, сказала, что в тот момент у неё было ощущение, что это не она, а кто-то другой выкрикивал те слова. Кто-то словно заставлял её это делать. Вот и не верь после этого в нечистую силу!
Больше мы на эту тему в доме не говорили, а мы с братом всё детство были отлучены от Пасхи. Я, откровенно говоря, страдала. Мне и так казалось, что наша семья какая-то не такая, как все. Что мы как прокажённые какие-то. А тут ещё и праздника лишают. Праздника, который давал возможность хоть ненамного стать такими же, как остальные. А по маминой логике ещё и выходило, что подавляющее большинство как раз – некультурные и невоспитанные. А может – это с нами что-то не так?
Однажды отец принёс домой кулич и крашенки. Кто-то угостил. Мы всё съели. Особенно я старалась. Но мама высказала папе своё крайнее неудовольствие и больше отец ничего не приносил.
Теперь в нашей семье Пасху празднуют. Как и другие религиозные праздники. Но, в отличие от Рождества, которое празднуют и по католическому, и по нашему календарю, Пасху празднуют только нашу – православную. И яйца в семье всегда крашу я. Никому не доверяю. Но те детские крашенки навсегда остались в моей памяти самыми яркими, а те куличи – самыми вкусными… И даже тётка Пестелина, пока была жива, на время забывала про идеи коммунизма и звонила нам, чтобы сказать: «Христос воскресе!»
Дедушка Рихард уговорил маму назвать меня Нэллой – в честь его матери, моей прабабки. На фоне тогдашнего увлечения заграничными именами это было вполне обычно. Среди моих знакомых девочек преобладали Стеллы, Анжелы и Регины. Это сейчас, нарекая ребёнку имя родители вновь заглядывают в святцы. Тогда этого не было. А фамилия у меня самая простецкая – Митина. Представляете – каково сочетаньице – Нэлла Ивановна Митина?!
Когда я была маленькая, то я всегда боялась, что дедушки, встретившись друг с другом, тут же начнут воевать. Как тогда, в войну. Но они питали друг к другу самую искреннюю симпатию и уважение. И встретившись всегда пели «Катюшу», «Землянку», «Тёмную Ночь» и другие военные песни. Чертили на столе какие-то карты и что-то обсуждали.
Однажды, во время одного из наших приездов в Ленинград, я нашла в шкафу жестянку из-под конфет «Монпансье». В коробке лежали два чёрно-угластых Железных Креста… На мой вопрос что это и чьи это, мама отобрала у меня коробку и велела никому ничего не говорить, пригрозив обычными неприятностями. И только потом, когда мы с братом уже выросли и смогли встретиться с нашей вновь обретённой немецкой роднёй, кресты были извлечены из небытия.
Итак, дедушка Рихард вроде бы и был, но его как бы не было. И это было ещё одно обстоятельство, которое делало меня не такой, как все. Это осознание того, что у нас, у нашей семьи что-то не так, прочно засело в моём мозгу, словно осколок разорвавшейся мины. Я чувствовала это везде и постоянно и это здорово осложняло жизнь, хотя со временем я притерпелась к этим ощущениям и даже иногда их не замечала. И я рано поняла, что надо уметь держаться и нести свой крест с достоинством и не позориться перед «стадом». Так говорил дедушка Рихард. Единственный настоящий и преданный друг трудного детства и мятежной юности. Ох, дедушка! Как же мне тебя не хватает! Твоих спокойно-ироничных замечаний, ненавязчивых советов, твоего острого ума и умения вовремя прийти на помощь в трудную минуту. Я и сейчас вижу его высокую худую фигуру в светлом плаще и в шляпе, с неизменной сигаретой в зубах.
Уже в подростковом возрасте, в перестроечные времена, мы засиживались с ним на кухне за полночь с журналом «Огонёк» – тем, который Коротича. И разговоры у нас были отнюдь не детские. Меня тогда интересовали отнюдь не тряпки, мальчики и музыка. Интересы были посерьёзней. В 13—14 лет я уже вовсю читала «Архипелаг ГУЛАГ», Шаламова и тому подобных диссидентов и отчаянно спорила с учителями в школе. Одноклассники меня не понимали и не принимали категорически. Однако, на мои демарши смотрели с интересом. Их протест выражался проще. На всё они орали: «Шизгару давай!». В то время как вокруг была сплошная Александра Пахмутова. Они, дурачки, не понимали, что «Шизгара» – это такое же г… как и «Любовь, комсомол и весна!». Или, там, «Ласковый Май», какой-нибудь… А нафига нам чужое г… когда своего хватает?! Дедушка Рихард, например, услыхав супермодный в те времена дуэт «Модерн Токинг» так выразился про своих соплеменников:
– На Восточный фронт бы их!
И мы долго смеялись.
А ещё дедушка Рихард учил меня манерам и как правильно вести себя за столом. Это мне здорово пригодилось потом. Честно. Особенно выигрышно я смотрелась на фоне своих придурочных и недалёких бывших одноклассников, выбившихся из грязи в князи. В «новые русские» сиречь. Но об этом потом. О том, например, как я учила манерам и этикету директора одной крупной фирмы, не знавшего, в какой руке вилку держать, а в какой – нож. Именно он, – дедушка Рихард сказал мне, что в жизни, если хочешь чего-то добиться, надо научиться держать удар. И переступать через себя. И ничего не бояться. Что надо быть твёрдой и бесстрашной.
Однажды, я уже в школе училась, летом, после первого, или второго класса, дедушка Рихард отвёз меня в Вологду… Произошло это как-то буднично и обыденно. Мы просто поехали на Московский вокзал и взяли билеты, словно это были билеты в кино. И в поезд сели так, словно бы это был трамвай. Я ела мороженое, болтала ногами и смотрела в окно вагона. Меня завораживал сам процесс езды, вид бегущих за окнами картин, сменяющих друг друга как в калейдоскопе. Сама езда меня привлекала всегда куда больше, чем конечная цель поездки. Потом дедушка принёс бельё и постелил мне на нижней полке. Утром мы были уже на месте.
Вологда не была похожа ни на Ленинград, ни на Киев. Она показалась мне маленькой и бестолковой, какой-то неприбранной из-за огромного количества строек и домов, идущих под снос. Дома были деревянные. Мы бродили по городу без всякой цели. Просто ходили по улицам, заходили во дворы. Потом вдруг оказались на набережной реки. Она не была отделана гранитом – просто заросшие травой откосы. И мы сели прямо на землю. Дедушка всегда разрешал мне сидеть на земле, в отличие от бабушек и мамы.
– А зачем мы сюда приехали? – спросила я.
– Здесь я встретил бабушку. – ответил дедушка Рихард и добавил загадочно: – Вот говорят – Париж – столица любви. Врут. Столица любви – Вологда.