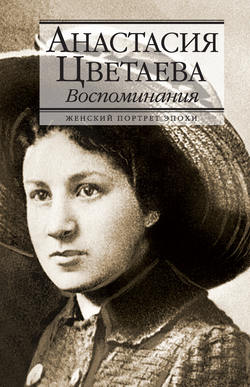Читать книгу Воспоминания - Анастасия Цветаева - Страница 31
ДЕТСТВО
Часть четвертая
ГЕРМАНИЯ
Глава 4
Зима 1904–1905 годов. Вести из России. Приезд папы. Пожар Музея
ОглавлениеНа уроке рукоделия я – худшая, но, стараясь, вскоре овладеваю вязаньем крючком и корплю со рвением над моим штаубтух (тряпочкой для вытирания пыли). Вяжу двумя нитками сразу: черной и красной; я увлечена их пестрым узором. Но когда я пытаюсь заразить своим увлечением Марусю – я встречаю ее удивленно-непонимающий взгляд: она ненавидит свое рукоделие всем пылом души, стремящейся даже от нотных строчек к книжным; к крючку в ее руках, надменно путающемуся в омерзительных нитках, она ощущает полное отвращение. И на мне на миг замирает ее отталкивающий меня, подозрительный ко мне взгляд:
– Тебе нравится этот штаубтух?
И однако, и в наших суровых условиях бывали добрые обычаи – когда был чей-нибудь день рождения, к столу подавался огромный сладкий пирог с числом зажженных свечей, соответствовавшим числу лет, исполняющихся в тот день пансионерке. И нам, Марусе и мне, в сентябре (мне) 27-го по новому стилю и 9 октября Марусе уже прополыхало десять и двенадцать свечей на двух сдобных пирогах с вареньем. Подавали в высоких стаканах апфельвайн (яблочное вино), и все хором пели на особо веселый мотив: “Hoch soll sie leben! hoch soll sie leben! hoch! hoch! hoch!” Дословно: «Да живет она высоко, высоко – высоко – высоко!»
В эти зимние дни, придя к маме, мы узнали о смерти – от чахотки – Нади и Сережи Иловайских. Им было двадцать и двадцать один год. С виду цветущие, красивые, милые, любимые всеми. Позднее мы слышали, что мать их, Александра Александровна, в отчаянии похоронив их и заболев той же болезнью, вернулась в сырое имение Иловайских в Крюкове и безвыездно заперлась в нем, оплакивая детей. Не веря заграничным лечениям, она стала лечиться народным средством – овсяной кашей – и вылечилась. Она никогда не узнала о страстном горе по Наде той самой «Муси», которую Надин и Сережин отец, Дмитрий Иванович, неизменно все наше детство путал с «Асей», невзирая на разницу нашего вида. Закусив губы от боли, которую она не хотела делить ни с мамой, ни со мной, она оплакивала нежную красавицу Надю, которую так полюбила в Нерви…
Но совсем отдельно от пансиона шла моя школьная жизнь. Думаю, что и Марусина классная жизнь была и теплей, и богаче нашего дня. Как весело мы шагали – в час географии – по улицам родного моим восьмилетним подругам Оренбурга, изучая жадными детскими глазами один за другим памятники города, слушая обо всем, что с ними связано в истории города и страны. Солнце хрустальным великолепием холодных уже лучей пылало на крутокрыших домах, фонтанах, садах, старых башнях, и навсегда ложились в сердце легенды края, события, имена. Помню, как раз одна из моих одноклассниц, проходя мимо кустов сада, сорвала крошку веточку с двумя-тремя листиками. И как обрушилась на нее речь негодующей учительницы, как она обличала ее непозволительную душевную грубость, сгубившую ни за чем нежный росток… Помню слова: “Oh, wie roh…” («О, как грубо…») – и слезы провинившейся, красной, устыженной. И думаю неутешно: и в эту страну, в ту Германию, пришел фашизм?
Я не сказала, с каким вниманием, с какой болью следила мама за ходом русско-японской войны. Имена генералов Куропаткина, Стесселя то и дело мелькали в ее беседах с нами. Сдача японцам Порт-Артура, вызвавшая всеобщее негодование, взволновала ее чрезвычайно. К имени Стесселя стали добавлять слово «изменник». И затем страшная весть о Гапоне, провокаторе, о Кровавом воскресенье.
Беда приходит – как счастье: вдруг. В карете на обратном пути с пьесы из театра Поссарта, где пела в его хоре, мама простудилась и слегла. Врач определил плеврит. Жар не спадал. Маме лучше не делалось. Папе была послана телеграмма. Он ответил, что выезжает.
Папин приезд, его озабоченное, доброе лицо – он кажется постаревшим, – смена врачей, консилиум и зловещие слова: «рецидив», «активный процесс». Папа шлет телеграммы в Москву, что задерживается. Идут разговоры о помещении мамы в санаторий. У нас сжаты сердца: что будет там с мамой? И как будем мы без нее, после счастья близости с ней, – в хмуром пансионе, где после Рождества снова суровые будни, где мы теперь со всеми готовим уроки в ненавистном «нумероу ахтцейн»… Дальше уже шли слезы – о маминой болезни, о бедном папе, приехавшем на такое горе, о том, что маму будут ждать в хоре Поссарта, а она не придет, – обо всем, от чего ком в горле и чему невозможно помочь…
В одну из ночей маминой болезни, когда папа не отходил от нее, в дверь дома постучали, и стук был настойчив и громок. Внизу поднялся переполох. Все проснулись, захлопали двери, послышались голоса, сквозь окна на улицу упали столбики света от зажженной впопыхах керосиновой лампы, и как раз когда папа, следя за маминым беспокойным сном, больше всего хотел, чтобы шум внизу стих скорее, – шум стал подниматься, расти. Заскрипели ступеньки лестницы, и шаги стали все ближе и ближе, затем постучали в дверь, и в руки папы передали телеграмму.
Сообщение из Москвы было кратко: «Горит в Музее». Когда я хочу представить себе эту минуту в папиной жизни – я, как над бездонным колодцем, закрываю глаза. Не хочу ее повторять. Ни описывать. Достаточно, что она пришла ночью зимой начала 1905 года и что такая телеграмма была передана в руки папы, собиравшего и воплощавшего Музей – столько лет!
Кто, в безумье смятения, увидав пламя над Музеем, послал такую весть через пространство, равное трем дням пути? Проснулась ли мама и вместе ли они обсуждали рухнувшее на них горе? Или папа один с неслыханной вестью стоял над постелью мамы, метавшейся в жару?
Уже много лет спустя, держа в руках архивный материал Музея, я прочла письма папы тех дней.
Из письма папы к архитектору Музея Р.И. Клейну:
«Эту ночь и утро засыпали меня телеграммами о несчастьи, постигшем нас в Музее. Пять депеш лежит передо мною, из них три с советами не волноваться и не двигаться в обратный путь. Дмитриев, желая утешить, во второй извещает: “Пожар потушен. Сгорело мало”. Только из Вашей депеши я узнал, в каком пункте здания случилась непоправимая беда. Еще ночью, когда в первой телеграмме Дмитриева я прочел “Горит в Музее Ал. III”, у меня была мысль о поджоге. Первый вопрос жены был: “А застраховали ли вы ваше художественное имущество?” И потом: “Дежурят ли дворники при всех входах ночью и стоят ли сторожа при всех кладовых?” Что мог я сказать на это, кроме – нет, нет и нет?
Вестей же из Москвы не было – целую неделю. Меня осыпали вопросами о причине несчастья, качали головами и, как могли, старались говорить слова утешения. Мое положение было тем тяжелей, что состояние моей больной, М.А. Цветаевой, за эти дни не улучшилось ни на йоту… Письма, полученные на рассвете, были прочитаны с перерывами от слез, наконец совсем лишивших меня возможности видеть строки; доканчивала строки уже Мария Александровна… Но настоящее чувство утраты пришло после, когда холод, дрожь и слабость в ногах не дают мне покоя. Пошел я с телеграммами и письмами к Ю. С-чу – дорогой должен был останавливаться: не хватало воздуху для дыханья. Оттого проходил так долго, что это привело жену в беспокойство. Но с завтрашнего дня надо взять себя и свое горе в руки. Как и что делать впредь для хотя бы частичного возвращения погибшего, теперь не придумать.
Но при разборе пепла от ящиков и соломы надо употреблять решета, чтобы не выкидывать мелких вещей: хирургических инструментов и других предметов бытовой жизни древних».
Из писем папы к Ю.С. Нечаеву-Мальцеву:
«…Столько чудных вещей погибло, достать которые стоило мне столько трудов, хлопот, времени. Чем, между прочим, пополнить Египетский зал или Римский, я совсем не знаю. Ваш весь дар из Каира и великолепные статуи Залы Ротонды Ватикана, отлитые специально для нас, погибли.
О постигшем нас несчастье я написал поставщикам гипсов в Рим, Флоренцию и Париж».
Лечить маму в ее мансарде было невозможно. Болезнь не сдавалась. Врачи советовали перевезти маму в санаторий в Санкт-Блазиен, недалеко от Фрейбурга. Мама ехала туда, почти безнадежно говоря о выздоровлении.
– Моя песня спета… – горько повторяла она.
– Полно, Маня, полно, голубка, в тебе столько еще сил, ты поправишься там, вот увидишь, – убеждал папа.
– Мам, ты так же говорила в Москве, когда мы ехали в Нерви… – говорила Маруся, – а как быстро поправилась!
– До лета недолго, а летом мы с детьми приедем к тебе и будем вместе гулять, – ободрял папа.
Мама, которую пожирала температура, печально кивала. Она знала медицину, понимала тяжесть случившегося. Ей не хотелось нас огорчать.
Я не помню ни прощания с мамой, ни папиного отъезда в Россию. Почему так? Какой-то туман лежит на тех днях. Помню только частые мамины открытки с видами Чернолесья, с описанием санаторного дня, со скупыми сообщениями, что жар все держится, с нежными расспросами о нашей изменившейся жизни.