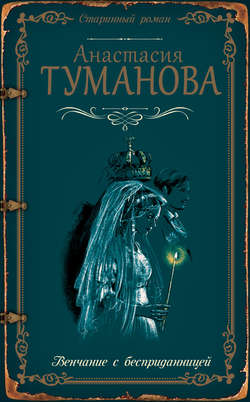Читать книгу Венчание с бесприданницей - Анастасия Туманова - Страница 2
ОглавлениеВ полдень над Севастопольским заливом солнце. Бомбардировок не было с самого утра, и чёрный дым над горизонтом, скрывающий остовы потопленных на рейде кораблей, давно рассеялся. Но над всей линией русских укреплений поднимались белые шарики выстрелов. Второй и третий бастионы были сплошь затянуты дымом. Из-за бесконечного грома ружейной перестрелки уже давно ничего не было слышно. Сквозь дымовую завесу пехотинцы едва различали синие с красным мундиры французов, начавших штурм Малахова кургана. Всюду лежали раненые, на которых никто не обращал внимания. Волна французов захлестнула бастион, кое-где уже были отброшены штыки и шла яростная и отчаянная рукопашная.
– Петров, вставай! Вставай, брат, надо… – Штабс-капитан Закатов пытался приподнять лежащего на земле солдата. Тот был ранен в грудь, из последних сил хрипел:
– Ваше благородие, бежите… Да бежите вы за ради Христа… Француз уж кругом… Опоздаете… Никита Владимирыч, да прошу ж я вас…
– Петров, потерпи… Сейчас будут носилки, потерпи!
– Вы мамаше отпишите… Знаете ведь, куда… Земляки ж… Бельский уезд… село… село Триш…
– Петров, держись, я тебе говорю! – сорвавшимся от отчаяния голосом крикнул Закатов. – Не сметь помирать! Носилки! Чёрт возьми, носилки сюда!
Но его никто не слышал. Вокруг Закатова уже не было видно ни одного русского мундира.
– С богом, ваше бла… – Петров недоговорил, в углу его рта вздулся коричневый пузырь. Раненый содрогнулся всем телом, откинул голову.
– Петров, терпи!!! Прорываться будем, держись! – Штабс-капитан вздёрнул тело солдата, показавшееся вдруг ему невыносимо тяжёлым, схватил его ружьё. Вокруг трещали выстрелы, слышалась французская брань. Тело Петрова кулём осело на землю, голова откинулась, глаза остановились. Вскочив, Закатов истошно закричал, бросился в багровой мгле наугад, и…
…– Никита! Никита, что с тобой? Да что ж ты, брат, снова… Ну, что такое? Воды дать? Давай-давай, просыпайся… Кончилась война, всё… Тьфу, чёрт, напугал как!
Закатов торчком сел в постели. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине, в висках стучала кровь. Перед глазами ещё стояла серая дымовая завеса, синие с красным мундиры, лицо мёртвого Петрова…
– Мишка, что… Я кричал? – хрипло спросил он, проводя ладонью по лбу. Голова немедленно отозвалась болью. Неровный круг света приблизился.
– Кричал? Орал как недорезанный! Надеюсь, хоть Федосье в кухне не слышно было!
– Тьфу ты… Прости. Снилась опять дребедень какая-то… – Никита спустил ноги на пол, неловко взял из рук друга кружку, принялся тянуть холодную воду, чувствуя, как дрожат пальцы, и от этого смущаясь ещё более.
Михаил, оседлав стул возле разворочённой постели, напряжённо смотрел на него.
– Ты ступай спать, – ставя кружку на стол, попросил Закатов. – А я, пожалуй, пойду пройдусь. Всё равно теперь не уснуть.
– Ты что, рехнулся?! – всполошился друг. – Ночь на дворе! Нет, как хочешь, я тебя из дому не выпущу!
– Мишка, отстань… – поморщился Закатов, начиная одеваться. Пламя свечи заколебалось, и в его бьющемся свете лицо штабс-капитана, перечёркнутое со лба до края губ рваным шрамом, казалось постаревшим и ещё более некрасивым.
– По-моему, не нужно тебе никуда идти. – Михаил, который всё это время пристально наблюдал за Никитой, нерешительно сказал: – Ну что ты выдумал, право? Не спится? Ну давай посидим, поговорим. Я теперь тоже не усну после твоих воплей. Научишь меня наконец-то играть в штос…
– Тебя учить что мёртвого лечить, – вяло отмахнулся Закатов. – Ты в игре смысла не видишь и расчётов не признаёшь. И играть с тобой всё равно, что с трёхлетним младенцем.
– Ну, хочешь, дам почитать что-нибудь? Свечи есть, жги хоть до утра, не жалко!
– После. – Закатов оделся, встал. Теперь свет падал на него сбоку, и стало видно, как на самом деле ещё молод этот невысокий сероглазый человек с испорченным шрамами лицом. За плечами его были Московский кадетский корпус, служба в пехотном полку, Крымская война и два ранения. Оба были получены на Малаховом кургане, во время наступления французов. Осколками снаряда у Закатова было раздроблено колено и исполосовано лицо. И хромота, и шрамы должны были остаться с молодым человеком на всю жизнь.
Когда Никита, натянув шинель, вышел из дома на тёмный двор, Михаил догнал его.
– Никита… Пообещай мне, по крайней мере, что не будешь пить! И куда тебя только носит по ночам? Женщины, да?
Закатов остановился. Внимательно посмотрел в лицо друга.
– Мишка, мне ведь двадцать шесть лет. И я вовсе не обязан давать тебе отчёт. А если моя хмельная рожа оскорбляет твои трепетные чувства, я готов переехать хоть завтра.
– Закатов, ты сукин сын, – было замечено на это.
– Знаю, брат, знаю, – мирно ответил Закатов, спускаясь по крыльцу. – Ложись спать. Обещаю, что вернусь на своих ногах.
– Это уже немало! – язвительно сообщил Михаил в темноту.
Но ответа не было. Коротко скрипнула калитка, и наступила тишина.
Ночной Столешников переулок был совершенно пуст; только на углу Петровки виднелся экипаж извозчика. Когда Закатов прошёл мимо, его окликнули с козел сиплым голосом:
– Вась-сиясь, куда прикажете?
– Спи, брат, мне недалеко.
Из-за заборов тянуло сыростью и запахом прелых яблок. Изредка мостовая освещалась серой полосой света: это выглядывала из рваных облаков луна. Промозглый воздух забирался за ворот. Закатов, поёжившись, крепче запахнул полы старой шинели и прибавил шагу. Путь его лежал в Ветошный переулок близ Иверской.
В кривом переулке не горел ни один фонарь, было сыро, темно и несло тухлятиной. Казалось, ни зги нельзя увидеть в этой дурно пахнущей темноте, но Никита Закатов уверенно шёл по немощёному переулку, обходя лужи и кучи мусора. Добравшись до едва заметного деревянного крыльца, на которое падал свет из крошечного оконца, он поднялся по ступенькам и потянул за ручку двери.
Дверь, к изумлению Закатова, оказалась заперта. Поразмыслив, он замолотил в неё кулаком. Ему долго не отвечали. Затем послышалось торопливое шарканье шагов, и сонный голос спросил:
– И кого это посредь ночи принесло? У нас заведение порядочное, закрыто давным-давно! Ступайте, милостивый государь, подобру-по…
– Серафимова икра, – усмехнувшись, перебил его Закатов. – Открывай, Фома.
После минутной тишины дверь с визгом распахнулась, и в проёме появилась освещённая свечой физиономия рябого полового.
– Охти, Никита Владимирыч! Уж сколько не видать было…
– Давно ли у вас порядочное заведение, Фома?
– Вот вам всё смехи, а на нас, извольте видеть, снова огорчение упало… Ермолай Кузьмич вовсе распорядились ночью не пущать! Ежели только своего кого, аль по рекомендации надёжной…
– Закрывали вас, что ли? В тридцатый раз?
– И ведь по глупости какой, не поверите! – Половой пропустил гостя внутрь, угодливо освещая путь. – Кабы за игру али за водку разведённую – ещё хоть понимание могло быть, а ведь что вышло? Бестолковщина сущая! Играли давеча у нас какой-то чин из провинции. Опосля взяли Селинку и в нумер с нею поднялись. И ведь куда как довольны остались, Селинка сказывала, что обещали даже её с собой в имение увезть до конца сезона… А в гостиницу к себе возвернулись – хвать, портмонета-то и нет!
– Быть не может! – Закатов, спускающийся вслед за половым по скрипучим ступенькам, остановился на полушаге. – Я в жизни не поверю, чтобы Селинка…
– А то ж! Знамо дело, не поверите! И наши все не поверили! Селинка отродясь такой пакости не творила, потому – барышня с пониманием, служит давно и местом дорожит! Как стало известно, она Ермолаю Кузьмичу сей же час крест поцеловала, что и в глаза того портмонета не видала! А полиции-то что! Нешто она порядочную барышню слушать станет? Забрали в каталажку прямо с кровати и всё заведение закрыли на две недели! Убытку – господи-и! Хоть в петлю полезай! А тот господин, чтоб ему пусто было, ещё в полиции бумагу написал, что в том портмонете пятьдесят тыщ казённых денег было! Ужасти, как Селинку нашу трясли! И каторгой-то стращали, и кнутобойство сулили до смерти! Хорошо ещё, что её не больно напугаешь: укрепилась и гнёт своё! Ничего, мол, не знаю, ничего, кроме положенного, не брала и даже не видала!
– Так Селинка в тюрьме?
– Есть на свете правда – выпустили третьего дня! Уж не знаю каким путём, только выяснилось, что господин тот казённую деньгу в вист в Петербурге продул, а на Селинку списать вздумал! У нас поперву-то все нумера полиция разворошила, деньги те искала… Вот мы теперь и опасаемся. Барышни вовсе не принимают, пару-тройку только для настойчивых посетителей держим. И то – сколько денег ушло, чтоб дозволили заведение сызнова открыть, – ужасти!
– Но игра идёт?
– А как же! Это уж самое святое! Осторожничаем, разумеется, так что…
Разговаривая, они спустились в обширную, слабо освещённую комнату, где пахло сыростью, крепкими папиросами и плохим одеколоном. Здесь оказалось довольно чисто. В углу темнел бильярдный стол, возле которого сейчас никого не было. Несколько человек сгрудились у стола ломберного, где, по-видимому, шла серьёзная игра. Чуть поодаль, у старого буфета, за небольшим столиком, играли ещё двое: молодой, но уже сильно потрёпанный брюнет в форме пехотного штабс-ротмистра и юноша – гвардии корнет, совсем мальчик, который играл с такой сосредоточенностью, словно решал сложную задачу. Закатов, проходя мимо, вполголоса сказал:
– Здравствуйте, Ратманов.
– А, Закатов… Рад приветствовать, – отрывисто сказал штабс-ротмистр, не отрывая взгляда от карт. – Давненько вас было не видать. Три в пиках!
– Да и вас тоже… Ездили в имение?
– А, пропади оно пропадом… Где только люди находят честных управляющих? Эй, Фома, папиросу!
Закатов только улыбнулся и, обойдя стол, присел на жёсткий диванчик неподалёку.
– Не помешаю, Ратманов?
– Ничуть. Напротив, мне всегда везёт, когда вы следите за игрой. Странно, что вы сами не хотите попробовать. Нюх старого игрока мне подсказывает, что вы были бы удачливы.
– Я как пушкинский Германн, – отшутился Закатов, тоже беря папиросу. – Не желаю жертвовать необходимым в надежде получить излишнее.
– Уж не знаю, как можно деньги называть излишними… А впрочем, как знаете. Итак, Сергей Станиславович?.. Да, господа, позвольте вас познакомить: штабс-капитан Закатов Никита Владимирович – гвардии корнет Тоневицкий Сергей Станиславович.
– Я очень рад, – отрывисто отозвался молодой человек, даже не взглянув на Закатова и не замечая, что новый знакомый пристально разглядывает его.
Взгляд юноши был устремлён в карты. Закатов хорошо знал, что означает в картах это напряжённое, нервное внимание, и понял, что конец близок.
Со штабс-ротмистром Ратмановым Никита Закатов был знаком много лет. Они учились на одном курсе в Московском кадетском корпусе, близки не были, но и не враждовали. Николай Ратманов происходил из известной дворянской семьи, в корпус попал на казённый счёт как сирота и сын героя Наполеоновских войн. Его отец погиб при подавлении польского бунта 1830 года, мать умерла ещё ранее, и мальчик остался на попечении дяди, генерала Ратманова. Тот занимал весьма значительный пост в Варшаве при наместнике Паскевиче, но племянника предпочёл отдать в московское заведение – чтобы, по его словам, молодой человек меньше якшался с «полячишками».
Ненависть к полякам в семье генерала Ратманова была беспредельна. С ранних лет эту ненависть воспитывали и в детях, и ещё в корпусе Коля Ратманов бледнел и стискивал зубы при виде кадета с польской фамилией. Он постоянно сидел в карцере за драки с поляками, при каждом удобном случае бросал им в лицо: «Паны гнилые, пся крев!» Товарищи подсмеивались над этой ненавистью, но относились к ней, в общем, с пониманием, считая, что человек имеет право ненавидеть тех, кто убил его отца.
Ратманов и Закатов встретились несколько лет спустя, случайно, в осаждённом Севастополе, и, поскольку никаких знакомых в городе ни у одного из них не было, волей-неволей начали общаться близко. Быстро выяснилось, что взгляды на Польшу у Ратманова не только не изменились, но стали ещё радикальнее.
«Ратманов, но ведь это, не обижайтесь, положительно смешно, – осторожно говорил Закатов, сидя с товарищем в таверне на набережной за стаканом терпкого крымского вина. – Как в России не все хороши, так и в Польше не все дурны. У нас в Бельском уезде этого добра также хватает, ну и что? Люди как люди… Так же ленивы, так же необразованны, так же все разговоры – о страде, охоте и сене…»
«Закатов, вы судите о том, чего не знаете, – сквозь зубы говорил Ратманов, и в его маленьких чёрных глазах зажигался нездоровый огонь. – Не знаю, что представляют собой ваши смоленские полячишки: как-то не было охоты выяснять. А я жил в Варшаве и видел этих гнилых панов во всей красе! Ничего путного, уверяю вас, они не представляют. Неграмотны, дики, тупы и гонористы! Живут по-свински, и даже о сене разговаривать не хотят! Только о своей великой Речи Посполитой, которая умирает под гнётом проклятых москалей! Умирать под гнётом Наполеона им, вероятно, было более авантажно! Чуть выпьют – сейчас готовы орать: «Ещё Польска не сгинела!» и распевать свои гимны! Россию, которая, между прочим, спасла их от Наполеона и дала Конституцию, возненавидели лютой ненавистью! Мечтали об освобождении – им, видите ли, было плохо под нашим покровительством! Варшавскую заутреню помните?! Когда они наших беззащитных людей резали как свиней?! Спящих, в постелях? С благословениями своих ксёндзов?! Ну и доигрались в конце концов! Остались и без независимости, и без конституции! Двадцать пять лет грызут себе локти и шипят, как придавленные змеи!»
Закатов не спорил, понимая, что это бессмысленно. Иногда Ратманов предлагал перекинуться в карты, но Никита неизменно отказывался. В корпусе у него был высший балл по математике, преподаватели восхищались его феноменальной памятью, и очень рано кадет Закатов понял, что любая карточная игра – просто последовательность математических комбинаций, запомнить которые, а значит, и выиграть, не стоит никакого труда. Подтверждение своей теории он получил довольно скоро, обыграв однажды в полку весь офицерский состав. Но Закатов счёл такой способ игры разновидностью шулерства и никогда больше не садился за зелёный стол.
После войны Закатов вышел в отставку в чине штабс-капитана, поехал в Москву навестить семью своего друга Миши Иверзнева, да так и остался у них в Столешниковом переулке.
Занимать длинные безрадостные дни было положительно нечем. Закатов нигде не служил, да и не видел в том нужды, регулярно получая деньги из имения. Доход был небольшим, иного и быть не могло с одного села и крохотной деревеньки, но и это Закатову не на что было тратить. Он не посещал ресторанов, не содержал дорогой любовницы, довольствуясь обществом гулящих девок, не держал собственный выезд. Жениться штабс-капитану и в голову не приходило. Ему не надо было тратиться даже на квартиру, ибо в доме Иверзневых друзей принимали по старому московскому обычаю – надолго и беспечно. К услугам Закатова была огромная иверзневская библиотека, и он с удовольствием и помногу читал, иногда тратя на чтение целый день. Время от времени он по старой памяти отправлялся на Конный рынок, где от нечего делать портил коммерцию цыганским барышникам, мгновенно отыскивая в продаваемой кляче все тщательно замаскированные недостатки. Вскоре все цыгане Конного знали хромого барина с обезображенным шрамами лицом, который «любую лошадь наскрозь видит» и к тому же неплохо понимает по-цыгански. Языку цыган Закатов выучился с тех пор, как у него в имении каждый год останавливался табор, и его очень забавляло выражение лица барышника, к которому барин внезапно обращался на его родном языке. Когда же и это переставало веселить, Закатов шёл в Бобовский трактир.
Это было известное всей Москве заведение в Ветошном переулке. Верхний этаж его выглядел вполне благонамеренно: большие комнаты, скоблёные полы, клетки с канарейками, столы под камчатными скатертями, услужливые ярославцы в белых рубахах и застеклённый буфет. Но внизу, в полуподвале, куда пускали немногих, постоянно шла большая игра. Закатов слышал об этом, но, поскольку сам не играл, не особенно интересовался бобовским «дном». Его провёл туда штабс-ротмистр Ратманов, с которым Закатов однажды столкнулся нос к носу в верхней комнате трактира.
Война не особенно изменила Ратманова: он был так же худ и чёрен, так же небрежен в одежде, в тёмных угрюмых глазах по-прежнему светилось недоверие ко всему сущему. Выяснилось, что он также вышел в отставку и засел в своём крошечном имении под Подольском, но несколько раз в год наезжает в Москву. Закатову он, казалось, обрадовался, тут же пригласил выпить за встречу и на вопрос, что он тут делает, спокойно ответил:
– То же, что и все: играю в штос. Здесь, внизу. Да не угодно ли партию?..
Закатов привычно отказался, но взглянуть на настоящую игру ему показалось интересным. С того дня он стал постоянным посетителем нижнего этажа. Они с Ратмановым даже пользовались особым уважением хозяина трактира, знаменитого Ермолая Кузьмича. Ратманов снискал это уважение, когда в одиночку выкинул из трактира банду варшавских шулеров-гастролёров, оглашая при этом весь Ветошный переулок такой виртуозной польской бранью, какой карточные жулики не слыхали, вероятно, даже у себя на родине. Закатову же однажды, к своей досаде, пришлось вмешаться в драку между проституткой и её гостем. Обычно у Бобова подобные встречи происходили тихо и благопристойно, но в этот вечер клиент почему-то разошёлся, поднял скандал и ударил кулаком барышню Селинку, выбив ей зуб и порвав платье. Закатов оказался ближе всех к месту событий и, не дожидаясь, пока примчатся половые, выкинул буяна из трактира – в последний миг разглядев в нём одного из своих корпусных преподавателей. Тот, впрочем, был настолько пьян, что не признал своего бывшего кадета. С того дня Закатов стал у Бобова своим человеком. За карты он по-прежнему не садился, но за игрой и игроками наблюдал с большим интересом.
«Не могу понять, что ты в этом находишь забавного?! – недоумевал Михаил. – Тебе хочется посмотреть на душевнобольных – милости прошу в наш госпиталь! Страсть к игре – это психическое заболевание, и ничего романтического в этом нет!»
«Да я с тобой и не спорю, – соглашался Никита и пояснял: – Я смотрю на штос как на математическую задачу. Согласись, интересно вычислить, почему одному может выпасть три шестёрки кряду, хотя ему нужен король, а другому – сразу козырной туз?»
«Ничего не вижу интересного! – пожимал плечами Михаил. – По-моему, тебе просто нечем более заняться».
И Никита понимал, что друг прав.
…Рядом прошуршало платье. Закатов повернул голову и увидел, что на подлокотник дивана садится худая женщина с растрёпанным узлом рыжеватых волос. На её плечи была наброшена старая мантилья из чёрного кружева, которое уже местами распустилось и висело неряшливыми нитками. Встретившись глазами с Закатовым, она улыбнулась, но улыбка её выглядела усталой и невесёлой.
– А, Селин… Как здоровье? – поинтересовался Закатов. – Мне рассказал Фома, что ты снова попала в неприятный переплёт?
– Ой, и не говорите… – отмахнулась Селинка. По её болезненному лицу скользнула тень. – Оно, может, и благополучие вышло, только страху я натерпелася – не приведи господь! Уж всерьёз изготовилась по Владимирской шагать! Сами знаете, у нашей сестры заступы не бывает. И покровителей серьёзных у меня отродясь не водилось. До сих пор не пойму, как это вышло, что я невиноватая оказалась.
– Но ведь ты и не была виновата. – заметил Закатов, глядя, впрочем, не на женщину, а на лицо молодого человека за ломберным столом. Было очевидно, что юноша-корнет интересует его гораздо больше откровений Селинки.
– Господи, Никита Владимирыч, да когда ж это кому интересно было? И повыше нас людей до каторги безвинно доводят, а я что такое есть? Девица гулящая, самая что ни на есть ничтожка божья…
– Как ты сказала? – невольно усмехнулся Закатов. – Ничтожка?
– Истинная правда… Кабы не такие огромные деньжищи пропали, мне б и вовсе спасенья не было. А так даже у господина следователя сумления взялись, как можно было пятьдесят тыщ спереть да спрятать в три минуты. Да что говорить, свезло мне, что сейчас сижу и с вами болтаю. А то, может, наверх ко мне подыметесь? У меня и чисто, и топлено…
– Благодарю. В другой раз.
– И когда тот другой свершится-то, Никита Владимирыч? – грустно спросила Селинка. – Ведь и прочие барышни обижаются! Не во грех вам будет сказано, но для чего ж тогда в заведение ходить, коли играть не играете и к барышням не подымаетесь? С какого резону цельную ночь сидеть да смотреть, будто бы есть на что? Одно только, прости господи… – Она недоговорила, зашедшись в приступе хриплого кашля.
Закатов молча подал ей платок.
– Вот благодарствую… Тьфу, простите, спасу уж никакого нет… В тюрьме этой застудилась, так сущее наказание теперь! И гости недовольны, и Ермолай Кузьмич бранится… Не приведи господь, помру, а ведь у меня и на похороны не отложено…
Закатов внезапно сделал ей знак замолчать. Селинка покорно смолкла, зажав рот платком и изо всех сил подавляя приступ кашля. Это ей так и не удалось, и женщина, поспешно вскочив, выбежала из комнаты. Закатов этого не заметил: он не сводил взгляда с ломберного стола. Там лежал ворох карт, и, судя по всему, игра была закончена.
– Итак, ваши короли биты. – с самой благодушной улыбкой говорил Ратманов, глядя чёрными острыми глазами в лицо молодого князя Тоневицкого. – Что ж… Дай бог, чтобы в вашей жизни это было самым большим несчастьем. Когда я могу ожидать уплаты долга?
– Я… должен написать матери. Вы согласны подождать? – услышал Закатов сорванный, страшно изменившийся голос юноши.
– Разумеется, разумеется… Двадцать пять тысяч не лежат у вас на квартире под скатертью, в это я готов поверить. Недельку-другую я, разумеется, могу ждать. Ну, бросьте, не расстраивайтесь так, это ведь всего лишь штос!
Тоневицкий криво улыбнулся углом дрожащих губ. Его тонкое привлекательное лицо было бледно и в тусклом свете свечей казалось зеленоватым. Вставая из-за стола, он неловко взъерошил рукой густые пепельные волосы, провёл ладонью по глазам, и было видно, что пальцы его дрожат. Ратманов, собирая карты со стола, наблюдал за молодым человеком из-под полуопущенных тяжёлых век. Его глаза светились знакомым Закатову холодным безжалостным блеском.
– Что ж, час уже поздний. Мне, пожалуй, пора. – Юный князь Тоневицкий изо всех сил пытался взять себя в руки. – Честь имею, господа. Господин Ратманов, я извещу вас сразу же, как получу письмо от матушки.
– О, я в этом уверен, – Ратманов по-прежнему складывал карты. – Надеюсь, мне не придётся долго ждать. Не хотелось бы ставить в известность об этой маленькой неприятности вашего полкового командира.
Синие глаза корнета похолодели вдруг до стального блеска, и Закатов был поражён этой внезапной переменой, произошедшей в растерянном юноше. Тоневицкий резко поднял голову и, казалось, разом стал на несколько лет старше.
– Уверяю вас, в этом не будет нужды! – ледяным голосом заметил он. – Князья Тоневицкие всегда держали своё слово. Честь имею!
Развернувшись, он быстро вышел. Ратманов, подняв глаза от карт, которые он так старательно складывал, посмотрел вслед молодому человеку с насмешливым изумлением.
– Польский гонорок, однако… – сквозь зубы тихо произнёс он. – Проигрался в пух и прах, денег ни гроша, а глядит, как царский кум!
– Насколько я знаю, Тоневицкие весьма богаты, – заметил Закатов.
– Так вы знакомы? – удивился Ратманов. – Он, кажется, тоже из Смоленской губернии, но… Закатов, куда это вы?
Однако тот уже скрылся за портьерой, прикрывающей вход.
На улице по-прежнему стояла промозглая темнота. Откуда-то доносилось тоскливое кошачье мяуканье. Луна скрылась, и сначала Закатову показалось, что во дворе никого нет, и он, оставив открытой дверь, наугад позвал:
– Господин Тоневицкий!
– Кто меня зовёт? – с недоумением спросили совсем рядом. Послышался шорох шагов, и по-юношески тонкая фигура молодого человека выступила из темноты в клин падающего из открытой двери света.
– Вы ещё не ушли! – с нескрываемым облегчением сказал Закатов, подходя ближе. – Как же вы, однако, неосторожны, князь! Это же надо было додуматься – играть с Ратмановым!
– Я не понимаю вас, – в голосе молодого человека одновременно звучали тревога, высокомерие и отчаяние. – Штабс-ротмистр Ратманов производит впечатление порядочного человека…
– Это так и есть. Но даже с порядочным человеком не стоит играть по-крупному, если вы с ним мало знакомы.
– Попрошу меня не учить, – сухо сказал Тоневицкий. – С вами я незнаком вовсе. А засим извините, время позднее, и мне надо идти.
– Ваш проигрыш слишком велик. Сумеет ли ваша мачеха выплатить его так скоро, как вы пообещали? – Закатов мысленно усмехнулся, заметив, как надменная маска слетает с лица молодого князя.
– Вы знакомы с маменькой?
– Был когда-то… А, Селинка! Тебя-то мне и нужно! Подойди сюда!
Женщина, кутаясь в мантилью и цепляясь за хлипкие перила крыльца, спустилась к ним.
– Что же вы, господа, здесь на холоду стоите? Прошли бы лучше в залу…
– Селин, окажи мне любезность, – серьёзно попросил Закатов. – Проводи князя в свою комнату, и пусть он подождёт меня там. Постараюсь вернуться как можно скорее. Князь, настоятельно вас прошу дождаться меня!
– Но почему?.. – растерянно спросил Тоневицкий.
– После! – донеслось из темноты.
Хлопнула дверь. Словно дожидаясь этого, припустил дождь. Селинка вздохнула, перекрестилась и деликатно потрогала молодого человека за рукав.
– Покорнейше прошу за мной пойти, ваша милость. У меня рядушком, во втором этаже.
– Ты давно знаешь этого господина? – озадаченно спросил Тоневицкий, идя за ней вверх по лестнице. – Как бишь его… Закатова?
Но из темноты донёсся лишь короткий вздох и предупреждение:
– Осторожнее, ваша милость, там ступенька сломана…
Ратманов, к радости Закатова, был всё ещё в зале: стоял с папиросой во рту у окна и смотрел, как капли дождя бегут, сливаясь, по тёмному стеклу. Услышав шаги, он не обернулся.
– Ратманов, вы не торопитесь? – Никита сел за стол. – Вы не раз изъявляли желание сыграть со мной по-настоящему. Что ж, нынче я к вашим услугам!
– Вот как? – Ратманов резко повернулся на каблуках и впился недоверчивым взглядом в лицо Закатова. – Что же послужило, так сказать, причиной?..
– Это не имеет значения. Спросите запечатанную колоду… И, пожалуй, пора заменить свечи. Итак – штос?
– Фома! – нетерпеливо выкрикнул Ратманов, кидаясь за стол, и, увидев азартный огонь в его глазах, Закатов невольно вспомнил Мишкины сентенции о психическом заболевании. – Свечи! Колоду! Да живо у меня, с-с-скотина!!!
Через полчаса всё было кончено. Закатов отыграл весь проигрыш молодого князя; к тому же Ратманов, распалившись, проиграл около трёх тысяч собственных денег. Закатов неоднократно выражал желание закончить игру: было очевидно, что противник его не в состоянии остановиться. Но Ратманов только мотал головой и диким, неподвижным взглядом смотрел на веер карт в своих руках. Он казался совершенно сумасшедшим, и Закатову, который уже много раз видел подобное в этих стенах, тем не менее становилось не по себе.
– Ратманов, позвольте, мы закончим на этом, – вновь обратился к Ратманову он. – Вам не везёт сегодня, что делать? Надо вовремя остановиться и…
– Не сметь меня учить! – запальчиво выкрикнул тот, с яростью ероша руками и без того вздыбленные волосы. – Эй, Фома, новую колоду! Сдавайте, Закатов! Вы играете в долг?
– Нет, – как можно твёрже сказал Никита, жестом отсылая приблизившегося было к столу Фому. – У меня правило – в долг не брать, в долг не давать и в долг не играть. Прошу меня извинить.
Это правило Закатов выдумал только что, но Ратманов не почувствовал обмана. Кинув на противника бешеный взгляд (на миг Никите показалось, что штабс-ротмистр вот-вот вцепится ему в горло), он вдруг как-то внезапно обмяк и осунулся. Безумный блеск в его чёрных глазах потух.
– Ох, ч-чёрт, ну и ночка… – уже обычным своим, чуть хрипловатым голосом сказал он, откидываясь на спинку стула и морщась, словно от внезапной боли. – Вам, однако, везёт, Закатов! На вашем месте я играл бы с утра до ночи, а вы…
– Мне, видите ли, это не доставляет ни капли удовольствия, – Никита медленно собирал в колоду рассыпанные по зелёному сукну карты. – А поправлять таким способом свои дела я считаю недостойным дворянина. Так что…
– Зачем в таком случае вы это сделали сейчас? – в упор спросил Ратманов, впиваясь воспалённым взглядом в безмятежное лицо Закатова. – Час назад вы и в мыслях не держали начинать игру! За весь год, который я вижу вас здесь, вы ни разу не сели за стол! Признайтесь честно – вам знаком этот польский щенок?! И только из-за него вы…
– Во-первых, я не обязан вам отчётом, извольте сменить тон. – Закатов держал в пальцах трефовую даму, то приближая её к глазам, то отводя её в сторону. – Во-вторых, раз уж вам это так интересно, отвечу – нет. Князя Тоневицкого я сегодня вижу впервые. Но с некоторыми членами его семьи я знаком весьма близко. Вы фанатик, Ратманов. Вы ослеплены ненавистью ко всему польскому и только поэтому уселись играть по-крупному с зелёным мальчишкой по фамилии Тоневицкий. Но хочу вам сказать, что Тоневицкие всегда были верными слугами российского императора. В минувшую кампанию отец этого мальчика был под Севастополем и умер несколько месяцев спустя от тяжёлого ранения. Они всю жизнь прожили в Гжатском уезде, князь Тоневицкий до войны был бессменным предводителем уездного дворянства. Согласитесь, что на эту должность мог быть выдвинут только истинный патриот Отечества. Мать мальчика происходит из старейшей московской семьи, все Иверзневы верой и правдой служили государю, и вам это наверняка известно.
– Так его мать – урождённая Иверзнева?.. Того самого генерала Иверзнева – дочь?!.
– Вообразите, это так. И я этому семейству обязан всем, что имею в жизни. И даже самой этой жизнью. Так что сами видите, я не мог не сыграть этой партии.
С минуту Ратманов молчал, не сводя немигающих глаз с лица Закатова. Затем резко, чуть не опрокинув стол, поднялся. Отрывисто спросил:
– Когда и куда прислать мой проигрыш?
– В Столешников переулок. В дом Иверзневых, – ровно сказал Закатов. – И не спешите, штабс-ротмистр. Я не собираюсь ставить об этом в известность нашего с вами полкового командира. А князь Тоневицкий вам с этого часа ничего не должен, его кредитором становлюсь я. За вами только четыре тысячи… И, кстати, можете вернуть их мне на том свете угольками.
По лицу Ратманова было видно, что он сию минуту бросится на своего недавнего противника. Но ничего не произошло. Штабс-ротмистр взял с подоконника свою фуражку, хрипло бросил: «Честь имею», – и, грохоча сапогами, вышел из комнаты с зелёными столами.
Когда минутой позже Закатов вошёл в крохотную каморку наверху, он увидел, что молодой Тоневицкий сидит на кровати Селинки, привалившись плечом к бревенчатой стене, и, казалось, дремлет. Сама Селинка, притулившись на шатком стуле, раскладывала на столе пасьянс. Дверь скрипнула, и она соскочила на пол.
– Ну что там, Никита Владимирыч?
Никита мельком посмотрел на неё и обратился к поднявшемуся ему навстречу юноше:
– Что ж… Я отыграл ваш проигрыш, князь. Господину Ратманову вы больше не должны ни копейки и…
– Но зато должен вам, не так ли? – встревоженно перебил Тоневицкий. – Я готов предоставить деньги…
– Ничего вы не готовы, – устало сказал Закатов. – Своих денег у вас пока что нет и быть не может. Вы будете просить их у матушки. Хочу вам сказать, что я хорошо знаю княгиню Веру и менее всего хотел бы беспокоить её. Так что буду вам обязан, если вы напрочь забудете о своём проигрыше. И, разумеется, не скажете о нём княгине. Ей и без того достаточно хлопот. А с вас я попросту возьму слово никогда не играть по-крупному со случайными людьми.
– Вы хотите сказать, что… господин Ратманов?..
– Нет. По крайней мере, прежде я за ним этого не замечал. Но игра чёрта с младенцем, даже честная, уже в корне своём непорядочна.
Молодой Тоневицкий вспыхнул, но промолчал.
– Итак, ваше слово? – спросил Закатов, внимательно глядя на взволнованного молодого человека.
– Да, я готов… я даю слово. Слово князя Тоневицкого!
– Прекрасно, – кивнул Закатов. – В таком случае позвольте откланяться.
– Но… как же так? Постойте! Господин Закатов! – Юноша бросился за ним следом, и Никита с большой неохотой остановился уже на лестнице. – Я вам так благодарен! Разрешите хотя бы… хотя бы передать поклон от вас матушке!
– Не уверен, что княгиня помнит меня, – помедлив, сказал Закатов. – Не стоит рассказывать ей об этом пустяке. Пообещайте мне это, князь.
– Но…
– Прощайте.
Дверь закрылась. Мгновение Тоневицкий растерянно смотрел на неё, затем повернулся к Селинке. Та пожала плечами, зевнула и переложила трефовую даму к бубновому королю.
…– Вот я так и знал! – мрачно сказал Михаил, открывая дверь. – Ты всё же нарезался, скотина!
– Мишка, перестань, – Закатов неловко протиснулся мимо друга в переднюю, стараясь дышать в сторону. – Пустяк сущий… Ты сам почему не ложишься?
– У меня завтра семинар, я читал! Тьфу, Никита, ну как тебе не стыдно? Сколько можно?! Иди спать, свинья безнадёжная… Право, лучше бы женился!
– Мишка, ну что ж ты, как Егоровна покойная… «Женился»… На ком?! – Закатов, покачиваясь, прошёл в гостиную, где на столе, возле горящей лампы с зелёным абажуром, горой лежали раскрытые книги и растрёпанные тетради, повалился на диван. – Покажи мне хоть одну барышню, достойную этой авантюры, и я сразу же возьму тебя ш-шафером!
Михаил только отмахнулся. Вернувшись за стол, он с суровым видом придвинул к себе толстенный том и уткнулся в него.
Иверзневы были старинной московской фамилией, все мужчины которой по традиции шли на военную службу. Но Михаил, влюблённый в стихи и прозу, читавший запоем все годы обучения в корпусе, нарушил эту традицию, под стоны матери перевёлся в гимназию, с блеском её окончил и поступил в университет. Это, впрочем, не помешало студенту Иверзневу при начале военных действий в Крыму бросить учёбу и немедленно определиться на военную службу. Всю войну он прослужил фельдшером, в Севастополе попал под начало хирурга Пирогова, после окончания кампании вернулся в Москву и восстановился в университете. К крайнему изумлению Закатова, Михаил перевёлся с любимого факультета словесных наук на медицинский и параллельно нашёл себе службу в одной из московских больниц.
– Иверзнев, ты с ума, право, сошёл, – пожимал он плечами, когда вечерами Мишка, сверкая чёрными глазами, взахлёб говорил о желудочных коликах, опухолях и швах с такой же страстью, с какой ещё несколько лет назад дискутировал о Пушкине и Корнеле. – Ты же всю жизнь был книжным червяком, куда тебя в медицину понесло?! Кто это тебе на войне испортил все идеалы?
– Война и испортила, – серьёзно говорил Михаил, и в глазах его зажигался незнакомый Никите сумрачный блеск. – Понимаешь, одно дело, когда тебе старшие братья, Саша или Петя, рассказывают про эти взрывы… про оторванные ноги, про мучения людей, про грязь, кровь, боль… Да сколько я сам про это читал, и меня это ничуть не трогало! Но когда я во всё это попал… Ну чему же ты улыбаешься?!
– Тому, брат, что одновременно с тобой туда попала куча народу. И никому из них в голову не пришло полностью менять жизненный путь из-за вывороченных солдатских кишок. Всё же идеалист ты, Мишка, неисправимый! Война есть война. Войны были всегда, это потребность людской натуры, они в некотором роде даже оздоровляют человечество, и…
– Ну что ты за чушь несёшь, Никита, право!!! – взрывался Михаил. – Посмотри, во что эта война тебя самого превратила! И это ещё чудо, что великому Пирогову удалось сохранить тебе ногу! Не окажись он в Севастополе – скакал бы ты на костылях, а то и вовсе помер бы от гангрены!
– Может, было бы и к лучшему.
– Закатов, ты болван, и я не считаю нужным это от тебя скрывать! – кипятился Михаил. – Если тебе так уж осточертело проживание на этом свете – мог бы поставить об этом в известность Пирогова! Чтоб он не тратил на тебя свои гениальные способности и занялся проникающими ранениями в солдатском отделении!
– Я никак не мог поставить его в известность, ибо находился без сознания! – парировал Никита. – А к случившемуся был вполне готов, поскольку в корпусе нас учили без лишних мыслей отдавать жизнь за Отечество и императора! Мне повезло, другим – так было всегда, на этом стоит мир! А ты…
– А мне это не нравится! Мир может стоять на чём угодно, но приходит время – и он низвергается со своих опор! Кажется, в корпусе, помимо фортификации, тебя учили ещё и истории? За расцветом любой империи неизбежно следует её угасание, и именно сейчас мы это наблюдаем!
– Мишка, Мишка… Думай всё же, что ты говоришь, господин студент!
– Не беспокойся, я знаю, КОМУ и ЧТО можно говорить, ваше благородие! – огрызался Михаил. – Мы с тобой оба были на войне! Оба видели это бездарное командование! Этих несчастных солдат, которых уничтожали целыми полками в Севастополе – помнишь?! «Молодцы ярославцы! Вперёд! Молодцы вологодцы! За веру и Отечество! Молодцы орловцы! За отца-императора!» А они шли, шли и шли… И никто не вернулся назад. Раненых в палатках на жаре помнишь?! Ни эфира, ни медикаментов! Оружие это ваше помнишь?! Вся Европа давно уже на скорострельном вооружении, на паровых морских силах воюет, а у нас что творилось? Кремнёвки эти неподъёмные пороховые… Один раз из неё, канальи, пальнёшь – а тебе в это время от французов уже четыре в ответ из нарезного!
– Мишка, не ори дурниной, тебя в Кремле слышно! Я всё помню, помню…
– И тебе наплевать?!
– Не наплевать, но чего же ты от меня, ей-богу, хочешь? Я не генерал и не министр и вообще не чувствую в себе склонности к политике… Моим делом было воевать за Россию – я это исполнял. А если в армии начнут критиковать начальство, тогда, воля твоя, начнётся форменный развал и…
– Он и так уж начался! Прозрей наконец Никита! Бог ты мой, и откуда в тебе этакая апатия? Ты мне напоминаешь деревенского мужика, который смотрит на засуху, недород, военный набор, барщину, чешет затылок и глубокомысленно говорит: «Стало быть, придётся в этом годе помирать».
– А если бы он этого не сказал – то и помирать бы не пришлось? – пожимал плечами Закатов. – Мишка, оставь ты, ради бога, маниловщину свою! Ты хоть раз в жизни вблизи видел русского мужика? Это я с ними полжизни в отцовском имении прожил…
– Вот-вот, и стал таким же! Кстати, когда ты последний раз был в этом своём Болотееве? Когда видел, как там живут люди?
– Какие люди? – удивлялся Закатов. – Отец давно умер, у меня там одна управляющая, и…
– Да мужики, мужики твои, вот какие люди! Что ты, сидя здесь, в Москве, знаешь об их жизни?! Наши приезжают из деревень, просто ужасы какие-то рассказывают! Ведь только третьего дня встречались здесь, у меня. До утра разговаривали! Я тебя, между прочим, звал, да ты делом был занят – спал с перепою!
– Болтать, брат Мишка, – не мешки ворочать, – отмахивался Закатов. – Знаю я про эти ваши ужасы… Каждый день через стенку слышу, как ты и вся твоя студенческая братия жизнь в России наладить пытаетесь. И, по старой русской традиции, – исключительно пустой болтовнёй! Студенты… В деревню, они, видишь ли, съездили и сразу поняли, как и что там переделать надо! А я, если помнишь, в этой деревне с детства жил! И она какой раньше была, такая и сейчас есть! Вспашка, посевы, покосы, страда, Покров, на печь залечь до весны – вот и вся их жизнь. Она веками такова. И если с имения мне перечисляют доход, стало быть, менять ничего не требуется.
– Больной безнадёжен… – вздыхал Михаил, выходя из комнаты. Но минуту спустя вновь просовывал голову в дверь: – И только попробуй нынче вечером напиться, я тебя вовсе перестану уважать!
Закатов, как мог, делал вид, что не слышал последней фразы.
И подобные разговоры велись неоднократно. Каждый, разумеется, оставался при своём мнении…
Вот и сейчас подобный разговор начался – и угас.
Несколько минут прошло в молчании. За окном снова начался дождь. Закатов лежал на диване не двигаясь и, казалось, спал. Голос его прозвучал в полной тишине так неожиданно, что Михаил вздрогнул.
– Мишка, зачем она вышла за этого Тоневицкого?[1]
– Тьфу, чёрт!.. Напугал… – Михаил неловко подхватил чуть не соскользнувшую на пол книгу, искоса взглянул на бесформенный силуэт на диване. – Сколько раз я тебе говорил – не знаю! Ни я, ни Петька, ни Саша не знают! Это вышло так быстро, так неожиданно… Никому из нас и в голову не приходило! Вера даже не выдержала траур по смерти мамы! Свадьбы не было, гостей, кроме нас, тоже не было… И она никому ничего не рассказала. Не понимаю, право, зачем Верке это понадобилось…
– Загадочная история, верно? – в тон ему добавил Закатов. – Как это можно выйти замуж за самого богатого человека в уезде? Вдвое старше – наплевать, раньше помрёт. Кстати, именно так и вышло в конце концов.
– Никита, прекрати! – вспылил Михаил, с треском захлопывая том. – И уж кому-кому, а тебе положительно стоило бы заткнуться!
– Это почему же?
– Знаешь что, Закатов, я тебе сейчас морду набью!!!
– Не поможет, пожалуй, – зевнув, заметил Никита.
Михаил, подумав, серьёзно кивнул и снова углубился в чтение.
Снова установилась тишина, нарушаемая лишь глухой дробью дождя по окнам.
– Ладно, брат, прости, – наконец подал голос Никита. – Я действительно свинья.
– И сам ещё не знаешь, какая! – тут же охотно откликнулся Михаил. – Почему ты не сделал ей предложения, сукин сын?!
– Я? – изумился Закатов. Но изумление это прозвучало наигранно. Михаил, не сводящий взгляда с лица друга, поморщился, и Никита, заметив это, отвернулся к окну. В лицо жаркой волной ударила кровь. К счастью, в комнате был полумрак.
– Мишка, ну подумай сам, какое предложение… Что у меня было тогда? Ни кола ни двора. Ничего, кроме жалованья подпоручика, на которое только пару подмёток можно купить… Имение должно было отойти брату, я это всегда знал и ни на что не мог рассчитывать. Да Вера Николаевна, как ты знаешь, и не любила меня никогда.
– Положим! – воскликнул Иверзнев. – Я этого знать никак не могу! Она вообще не склонна обнажать свои чувства. Мама ещё могла бы чего-то добиться от неё, но мы… Кстати, Тоневицкого Верка не любила ни капли – в этом могу тебе поклясться на кресте! Я был на венчании! У неё кровинки в лице не было. Шла, словно на заклание!
– Но зачем же в таком случае?!
– Не знаю! Не знаю, чёрт возьми! А ты – просто болван! Чёрт с ним, с предложением, но объясниться с ней хотя бы ты мог?!
– Мишка, едва ли ты имеешь право требовать…
– Господи-и, какой же ты идиот! – Михаил, выйдя из себя, отбросил книгу на другой конец стола. – Что от тебя можно потребовать, пустое бревно?! Чувств, любви, признаний? Помилуйте, это же штабс-капитан Закатов! Господин фаталист, который уверен, что его жизнью за него управляет кто-то другой! Который пальцем не пошевелит для собственного же прозита! Который любую несправедливость принимает как должное, даже если её можно исправить без лишних усилий! И прекрати делать эту глубокомысленную морду! Я уверен, ты мог бы одним словом расстроить эту свадьбу!
– Каким образом? В день венчания Веры Николаевны я со своим полком уже двигался в Болгарию!
– Не выкручивайся, стыдно! Ты мог бы вообще не допустить всего этого! Вы же виделись с Верой здесь, во время похорон мамы! Ни о каком князе Тоневицком ещё и речи не шло, она всего лишь служила гувернанткой при его детях – и всё!
– Мишка, – с горечью заметил Никита, – боюсь, ты преувеличиваешь моё значение в жизни твоей сестры.
– Прекрати фразёрствовать! Ты был ей дорог, и я это знаю! Почему ты, болван, ни разу даже не поговорил с ней?! Ведь ты всегда её любил! Да, и не отворачивайся! Ты в лице менялся каждый раз, когда Вера входила в комнату! И все, кто знал вас обоих, это видели! В тот день, когда ты прибыл на похороны мамы…
С этого мига Закатов слушать перестал. Дождь монотонно стучал в окно, отражение лампы расплывалось в чёрном стекле мутным зелёным пятном – а перед взглядом Никиты стояла такая же непроглядная дождливая ночь трёхлетней давности. Знакомое, милое, самое прекрасное в мире лицо, залитое слезами. Чёрные, как у Мишки, огромные, мокрые глаза.
«Да ведь вы меня не любите, Никита! Чего же проще?»
Что стоило ему тогда сказать: «Я люблю вас»? Что помешало? Знал ли он сам, понимал ли тогда, что никого, кроме этой девушки со смуглым строгим лицом, он не любил на этом свете? Что толку вспоминать теперь об этом, зачем жалеть? Дважды в одну и ту же реку не войти… Один только Мишка с его смешной тягой к справедливости не может этого осмыслить. И кто только преподаёт у них на курсе философию?..
– Да всё просто на самом деле, брат, – медленно сказал он, не отвода взгляда от зелёного пятна на стекле. – Ты меня, конечно, можешь считать последним сукиным сыном, но… Я ведь тогда вовсе не на похороны Марьи Андреевны приехал.
– Как это? – опешил Михаил. – Никита, да ты совсем пьяный, что ли?..
– Совсем. Ты слушай, трезвым я тебе вряд ли это всё повторю. Я приехал тогда просто потому, что… Потому что вляпался в плохую историю. У меня пропали казённые деньги. Много.
– Карты, да? Никита? Ты проигрался?
– Нет, но… Почти то же самое. У меня их попросту спёрли. И я ехал к вам в надежде… Чёрт, да не было у меня никакой надежды! Я, честно сказать, собирался стреляться. А может, не стреляться, но хотя бы денег одолжить у кого-нибудь из вас. А прибыл… на поминки. – Никита криво усмехнулся. Михаил из-за стола пристально, недоверчиво следил за ним, пытаясь поймать взгляд друга, но Закатов по-прежнему смотрел в тёмное окно.
– Ну и суди сам… Приезжаю – а вы все здесь, Вера в слезах, полон дом народу, отпевание, похороны… Да я сам чуть не умер сразу же! Ведь твоя матушка и для меня была… Впрочем, что ж теперь. Ну, и как мне было просить денег?! У кого?! У Саши, на котором лица не было? Или у Петьки, который даже говорить не мог? И… как я должен, скажи на милость, объясниться с твоей сестрой, если на другой день собирался застрелиться?!
Он коротко рассмеялся, и смех этот повис в тишине. Михаил медленно встал из-за стола, подошёл к другу.
– Отчего ж не застрелился? – серьёзно спросил он.
– Что?.. А, да очень просто всё… Наутро получил известие, что отец мой скончался. И Болотеево вместе со всеми доходами теперь моё. Вот и всё, брат… А Вера Николаевна, так и не дождавшись от меня ничего путного, сделала блестящую партию… И не смотри на меня волком! Я – последний, кто мог бы её судить! И вообще отвяжись от меня… Прошлые это дела. Я спать хочу.
Михаил молча прошёлся по комнате. Для чего-то начал складывать в стопку разбросанные по столу книги. Потом снова повернулся к сгорбившейся фигуре на диване.
– Закатов… Но, чёрт возьми, отчего же ты СЕЙЧАС не напишешь Вере? Она – вдова. Ты – полноправный хозяин своего имения. Что мешает тебе…
– Что мешает? – Короткий, отрывистый смешок. – Что мешает… Всё же неисправимый ты мечтатель, душа моя! Спустись-ка с облаков на землю и смотри! Ты полагаешь, княгине Тоневицкой до смерти необходим такой вот супруг? И моё полудохлое Болотеево в придачу к её имениям?
Закатов тяжело поднялся с дивана и встал перед другом, заложив руки в карманы и слегка покачиваясь. Свет лампы дрожал на изрезанном шрамами лице. Серые сощуренные глаза, казалось, смеялись, но, заглянув в них, Михаил почувствовал испуг. И, стараясь скрыть это, пробормотал:
– Ложись лучше спать, Закатов… Ты пьян.
Никита усмехнулся. Неловко опустился обратно на диван и отвернулся лицом к стене.
Он проснулся поздно, с тяжёлой больной головой и дурным вкусом во рту. В окно глядело серое позднее утро. Михаила в комнате не было. На столе, вместо убранных книг и тетрадей, лежал большой пакет. Закатов, шёпотом ругаясь и оглядываясь в поисках ведра с водой, придвинул к себе письмо. Он был уверен, что оно прислано из его имения. Но адрес на пакете, к изумлению Закатова, не был написан косым тонким почерком его управляющей, зато стояла казённая печать. Недоумевая, Никита сломал сургуч, разорвал пакет и принялся читать. По мере того как он пробегал глазами строчки, выражение его лица из безразличного становилось хмурым, недоверчивым и, наконец, испуганным. Закончив читать, Закатов резко поднялся, поморщился, едва удержавшись за край стола, и, на ходу накидывая непросохшую с минувшей ночи шинель, быстро вышел из комнаты.
* * *
– Аннет, да сколько же можно, право?! Тебя даже в Ставках у Команских, вероятно, слышно! Неприлично в конце концов так хохотать! Ты ведь не кухарка и не клоун в цирке! Посмотри, даже Сидор бросил работать и смотрит на тебя! Что дворня подумает! Господа! Княгиня! Скажите же ей, что это недопустимо!
Некрасивая девушка с болезненным лицом раздражённо всплеснула руками и отвернулась. Её подруга, совсем юная брюнетка, большеротая, смуглая и кудрявая, лежала в кресле и заливалась таким живым и дробным хохотом, что остановить его казалось немыслимым.
Стоял тёплый сентябрьский вечер. Большая веранда была залита розовым светом солнца, садящегося за дальние холмы. По тускнеющему небу величественно проплывали белые горы облаков. Из сада доносились смех и разговор девушек, собирающих яблоки, с кухни тянуло сладким ароматом варенья. Горничная разливала чай.
– Аннет, да прекрати же! У тебя даже оборки задираются! Княгиня, посмотрите, это, право, похоже на истерику!
– Александрин, mon dieu, да как же можно прекратить?! – Аннет наконец кое-как взяла себя в руки и, вытирая мокрые глаза, одновременно попыталась оправить находящиеся в полном беспорядке кружева на платье. – Как же можно прекратить, когда всё это так невыносимо смешно?! Маменька, ну судите же сами! Я прекрасно помню ваш реприманд по поводу того, что преждевременно поощрять ухаживания господина Самойленко! Мне всего четырнадцать, я ещё не выезжала, замуж – рано, всё остальное – опасные глупости, он – взрослый мужчина… Помню, помню, всё верно! Но что же делать, если Самойленко каждый раз, как приезжает в гости, просто проходу мне не даёт со своими ухаживаниями?! В конце концов я – хозяйка и не могу нагрубить ему в своём доме! Ну вот, я и решила вчера напугать его до смерти! Чтобы он в полной глубине постиг всю испорченность моей натуры!
С перил грянул дружный мужской хохот. Горничная закрыла лицо платочком, и её плечи мелко затряслись.
– И вот я делаю выражение лица, как у нашей Александрин, когда она находит в сливках муху, и говорю: «Как вы находите «Ревизора» господина Гоголя? Не правда ли, глупо, что эта пьеса провалилась? Разве это не достоверное отражение нашей чудовищной действительности?» И далее с самой кислой миной начинаю излагать статью Григория Белинского о «Мёртвых душах»! Целую мазурку! Восемь фигур! Какой кавалер в здравом уме это бы вынес? А Самойленко что же?! Коля, Коля, иди сюда, ты его замечательно представляешь!
Стройный пятнадцатилетний мальчик в гимназической форме спрыгнул с перил, подхватил сестру, и они понеслись по веранде в бешеной мазурке. Аннет, закатив к потолку глаза и томно обмахиваясь воображаемым веером, говорила по-французски, намеренно утрируя прононс:
– Но согласитесь же, Модест Спиридонович, что этот ужасный городничий – совершенно точный образ! Не правда ли, убедительно изображено? Точь-в-точь наш становой Переперченко!
Коля же, отчаянно подпрыгивая и бухая сапогами в дрожащий пол, надувал щёки, лихо крутил несуществующие усы и басил по-протодьяконски:
– Ах, мадемуазель Аннет, вы обворожительны, по-ло-жи-тельно обворожительны! Как прекрасно встретить юную особу, которая может говорить о чём-то, кроме кружев валансьен! Вы мне делаете сотрясение всех чувств! Я готов даже прочесть господина Гоголя по вашей рекомендации… Ей-богу, любой подвиг будет мал ради вашего расположения! Ах, ах, вы так очаровательны… Вот, право же, нынче же сяду с книгой в кабинете и рядом поставлю своего Петрушку, чтобы он меня будил всякий раз, когда…
Но тут уже в голос, уронив на колени вязание, расхохоталась молодая женщина в чёрном платье, сидевшая в кресле у стола. Александрин посмотрела на неё с изумлением и поджала тонкие губы.
– Вы… находите ВСЁ ЭТО смешным, Вера Николаевна?
– Но, Александрин, как же можно тут не смеяться?! – Княгиня Вера, всё ещё смеясь, нагнулась за упавшей спицей. – У Nicolas определённо способности к сцене! И господина Самойленко он представляет весьма точно! Надо сказать, человек он действительно глупый… Если в свои три с лишним десятка позволяет себе всерьёз увлечься ребёнком четырнадцати лет. Да ещё довести это до её сведения. Думаю, стоит отказать ему от дома.
– Ах, маменька, да не за что же, ей-богу! – беспечно сказала Аннет, снова падая в кресло и встряхивая обеими руками растрепавшиеся кудри. – Он дурак, спору нет, но совсем безобиден. К слову сказать, мне сочинение господина Гоголя вовсе не понравилось. Даже и в театре не хотела бы это видеть.
– До театра тебе, сестрёнка, ещё надо дорасти! – со смехом заметил Коля, присаживаясь на ручку её кресла. – Однако, что тебе не понравилось в «Ревизоре»? Лично я смеялся до колик, ночь спать не мог! Особенно этот городничий… И Земляника… И купцы! А уж Хлестаков! А уж, прошу прощения, Анна Андреевна и Марья Антоновна! Все потрясающи в своей пошлости, глупости и ужимках!
– Вот-вот, это-то и плохо! – Аннет перестала улыбаться и многозначительно взглянула на брата. – На всю пьесу – ни одного порядочного человека! Ни одной достойной героини! Да её и вовсе нет – героини-то! Не эта же дурочка Марья Антоновна с её платочком, честное слово! А герой!.. И правильно пьесу все ругали и с театра сняли! И ничуть даже не жалею, что её не видела!
– Да ведь в том-то и соль, Аннет! – Коля крутанулся на ручке кресла так, что чуть было не свалился на пол, и так же, как сестра, взъерошил обеими руками густые тёмные кудри. – Господин Гоголь именно это и хотел показать – что в современном обществе ничего достойного нет и быть не может! И его замысел с блеском удался!
– Разумеется! – вспыхнула Аннет. – Достойным, по мнению господина сочинителя, может быть только кузнец верхом на чёрте! И запорожские казаки, которых хлебом не корми – а дай перерезать несчастных евреев, которые им ничего худого не сделали! И этот несносный Тарас Бульба, убивший собственного сына! Я от ужаса едва смогла дочитать до конца!
– Но за предательство же!..
– Ну и что, mon dieu?!! Как это отвратительно – убивать своего сына! А мне Андрий так очень даже понравился! Как он был влюблён в полячку, какая прелесть!
– Тебе ещё рано рассуждать о любви, Аннет. Ты – дитя, что ты можешь смыслить в подлинной страсти? – брезгливо заметила Александрин, одновременно бросая быстрый взгляд в сторону, где, не принимая участия в споре, стоял старший из детей Тоневицких – восемнадцатилетний Сергей. Он прислонился к столбику перил, стоя спиной к закату, и в густых пепельных волосах молодого князя играло садящееся солнце. Время от времени он с хрустом откусывал от большого желтобокого яблока, и видно было, что это занятие доставляет молодому князю огромное наслаждение. Казалось, он не заметил брошенного в его сторону взгляда Александрин. Однако, с явным сожалением кидая огрызок яблока далеко в сад, он небрежно спросил:
– А вы, кузина, вероятно, знаете о страсти всё? Этому девиц сейчас специально учат в Смольном институте? Надо же, какое полезное нововведение! Кто бы мог подумать…
Закончить он не успел: Александрин вскочила, с тихим «Ах!» закрыла лицо руками и, подняв ветер оборками платья, кинулась прочь с веранды. Горничная, вносящая самовар, едва успела отпрыгнуть в сторону.
– Ахти! Да что ж это вы, барышня, эдак-то! Чуть не обварила!..
– Ну всё, теперь готов припадок до утра! – с досадой сказал Коля, глядя на захлопнувшуюся дверь. – Как они нервны все в этих институтах – ужас просто!
– Серж, зачем?.. – с гневным укором сказала княгиня, вставая и помогая испуганной горничной установить на столе тяжёлый самовар. – Сколько раз я просила вас! И вы обещали! И чего стоят ваши обещания, если вы, не успев дать слово, тут же его нарушаете?! Вы – дворянин и офицер русской армии, а ведёте себя просто пошло!
– Простите, маменька… Право, виноват. – Синие глаза Сергея смеялись. – Но, поверьте, крайне трудно с собой справляться, глядя на это… институтское райское яблочко.
– Вы несправедливы к Александрин! – отрезала княгиня. – Возможно, она в чём-то наивна, говорит слишком фразисто… Но у неё не было возможности стать другой! После окончания института много лет нужно привыкать к нормальной жизни! И многим привыкнуть не удаётся до конца дней! А вы, вместо того чтобы проявить мужскую снисходительность, отпускаете плоские остроты, на которые ваша кузина не в состоянии достойно ответить! Стыдно, право!
Синие глаза Сергея потемнели, улыбка пропала с загорелого лица.
– Она мне не кузина, maman, – жёстко сказал он. – Она приживалка в этом доме, бедная родственница, взятая вами из милости! На её месте другая не смела бы учить вас, как воспитывать Аннет, и кривляться, как жаба, всякий раз, когда сестрёнка делает успехи. К тому же она шпионка и наушница, как все в этом вашем прекрасном институте! По моему мнению…
– Я не спрашиваю вашего мнения по этому поводу! – Голос княгини был тих и спокоен, но, взглянув в её лицо, молодой князь невольно осёкся. – И хочу вам напомнить, что Александрин была взята из института в этот дом согласно воле вашего покойного отца – как сирота и дочь его родственника! В завещании было чётко указано, что я обязана заниматься судьбой Александрин так же, как судьбой любого из вас! И дать за ней достойное приданое, когда найдётся тот, кто попросит её руки!
– Долго же придётся этого ожидать! – ввернул Сергей.
– Вас это должно волновать менее всего! – отрезала княгиня. – И, полагаю, не стоит вести подобные разговоры при младших брате и сестре. Извольте пройти в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить.
Шурша платьем, она быстро вышла с веранды. Сергей пожал плечами; поймав встревоженный взгляд младшего брата, нарочито засвистел сквозь зубы и пошёл следом.
– Ступай, Домна, я сама разолью, – отослала Аннет горничную и, подставив чашку под дымящуюся струю кипятка, досадливо поморщилась. – Сергей, конечно, ужасно дерзит… Но ведь он прав! Там, где Александрин, – там и скандал! Когда только это кончится?
– А тебе что стоило начать играть? – сердито спросил Коля, в последний момент прикручивая краник самовара над уже переполненной чашкой. – Я же тебе столько раз моргал на пианино! Могла бы и заметить, честное слово! Всего-то надо было сесть и отжарить какую-нибудь элегию погромче! Маменька мгновенно бы забыла о любом разносе!
– И правда, как я только не сообразила… – с досадой согласилась Аннет. – Что ж, раз сама виновата – сама и буду слушать теперь полночи рыдания кузины! И вообрази, подойти утешить себя она не позволяет, а наутро дуется за то, что я, бесчувственное создание, всю ночь храпела без капли к ней сочувствия! И так плохо, и этак нехорошо! А попробуй я попросить для себя отдельную комнату, она и вовсе хлопнется в обморок! Вот всё время не смею у неё спросить: как это институтки так ловко лишаются чувств? Этому специально обучают или нужно иметь врождённые способности?
Выражение живого личика Аннет было непритворно озадачено, но Коля расхохотался и, схватив сестрёнку в охапку, закружился с ней по веранде.
– Нет-нет, Аннет, ты в этом смысле совершенно безнадёжна! И какое счастье, что маменька не отдала тебя ни в пансион, ни в институт! Из всех моих знакомых девиц ты одна более-менее похожа на живого человека! А они все – тупоголовые куклы! И Серж так же говорит! У тебя совсем-совсем другая врождённая способность! Умоляю, садись за инструмент! Будем петь дуэтом эту самую… «Сильфиду»!
– Болван! Какую «Сильфиду», это же балет! И ты напрочь сбил мне дыхание! Отпусти меня, Асмодей неистовый! Подними крышку! И как можно петь с тобой дуэтом, если тебя слухом господь обидел? – Взъерошенная Аннет, кидая на брата гневные взгляды, кое-как оправила платье, уселась за стул перед открытым пианино и, шумно переводя дух, взяла несколько нот. Через минуту в пронизанный закатными лучами сад понеслись звонкое девичье сопрано и отчаянно фальшивящий, но самоуверенный басок:
Минутных дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?..[2]
– Как вы провели время в Москве, Серёжа? – спросила княгиня Вера, войдя в сопровождении молодого князя в свой кабинет. – Надеюсь, с пользой?
– Скучно, – пожал плечами юноша, глядя, однако, с некоторым недоумением. – Был у Скавронских, у Агаповых, у Ильи Константиныча… Вам кланяется графиня Татьяна Фёдоровна, весьма настойчиво зовёт в гости… Да и всё, пожалуй.
– Ни о каких неприятных моментах вы не желаете мне рассказать?
– Я, маменька, право… не понимаю вас.
Княгиня Вера, стоя у открытого окна, смотрела на уже погасшие, подёрнутые вечерним туманом холмы, сбегавшие к озеру. Солнце село; последний луч, пробившись сквозь разрыв низких облаков, скользнул по отдёрнутой кисейной занавеске, упал на лицо княгини, озарив его нежным розовым светом. Княгине Вере, вдове князя Тоневицкого, хозяйке его огромного поместья, недавно минуло двадцать шесть лет, и она до сих пор вздрагивала, когда подросшие дети князя называли её «маменькой». Выйдя замуж, она попыталась было настаивать на прежнем обращении «мадемуазель» – так юные князья и княжна Тоневицкие называли Веру Иверзневу, когда она служила при них гувернанткой. Однако князь настоял на новом обращении, и дети, обожавшие Веру, с восторгом приняли его.
– Серж, вы знаете, как я ненавижу доносы и неподписанные письма, – вполголоса сказала Вера, глядя в сад. – Но вчера я получила одно такое… из Москвы. Оно касается вас.
– Меня? Но кому взбрело в голову?..
– Я более чем уверена, что это просто чья-то гнусная выдумка. Тем не менее прошу вас прочесть. Одно только ваше слово, что это ложь, – и я попрошу у вас прощения, и более мы не вернёмся к этому разговору. – С этими словами княгиня протянула Сергею смятый листок жёлтой бумаги. Тот с непонимающей гримасой взял его, развернул и принялся читать. Вера по-прежнему смотрела в окно и не видела, как меняется лицо молодого человека – от изумления к испугу, отвращению и гневу.
– Гадость какая!.. – с ожесточением воскликнул он, комкая письмо и бросая его на стол. – Почерк мужской, а все ухватки бабьи! И подписаться-то побоялся, мер-рзавец!
– Господи, так это неправда? Серёжа, нет же? В самом деле?! – с облегчением спросила княгиня, поворачиваясь к пасынку. – Боже, какое счастье… Как я глупа, что могла хоть на миг поверить, что вы способны играть по-крупному, играть в долг… Да ещё сумма-то какая немыслимая, пятьдесят тысяч! Мне надо было совсем забегаться по работам, чтобы хоть на миг взять в голову… Серёжа?!
Молодой человек стоял, глядя в пол. До княгини доносилось его хриплое прерывистое дыхание. Вера молча, изумлённо смотрела на него. И Сергей, словно чувствуя этот взгляд, всё ниже и ниже склонял голову. В наступившей тишине отчётливо было слышно сердитое гудение запутавшейся в складках занавески мухи.
– Лишь одно меня ещё несколько утешает, – княгиня старалась говорить холодно, но голос её растерянно дрогнул. – Что вы, кажется, ещё не способны лгать мне в лицо. Но, вероятно, и этот день уже не за горами.
– Маменька, но… я… Поверьте, что…
– Но как же вы могли!.. – с отчаянием вырвалось у княгини. Недоговорив, она медленно опустилась в кресло у окна и некоторое время молчала, глядя в сумеречный сад. Затем тихо, без гнева сказала: – Знаете, что более всего меня огорчает, Серёжа? То, что ваш отец, умирая, взял с меня слово, что я воспитаю из всех вас достойных людей. Я дала ему это слово. И, кажется, поступила слишком самонадеянно. Впрочем, я всегда надеялась на ваш ум, на ваше чувство ответственности… А его, оказывается, и в помине нет! Играть со случайными людьми! Играть в долг! Не суметь даже остановиться вовремя, чтобы просто сообразить – как и чем мы будем платить вашему кредитору? Это ведь почти все деньги, которые должны быть вложены в хозяйство, в постройки, в образование Николая! И, позвольте спросить, на что вы рассчитывали, скрывая от меня это? Каким образом вы собирались расплатиться с… господином Закатовым?
Голос княгини снова дрогнул, и она невольно прикрыла глаза рукой, но Сергей не заметил этого. На его смуглых обветренных скулах дёргались желваки; было очевидно, что он мучительно пытается заговорить – и не может справиться с собой.
Наконец ему это удалось.
– Маменька, я… Поверьте, у меня в мыслях не было… Я готов был рассказать вам обо всём, если бы не моё слово, данное господину Закатову.
– Как?! Он ещё посмел взять с вас слово молчать о проигрыше?!
– Нет… Вовсе нет! – Сергей одним стремительным прыжком пересёк маленький кабинет, сел на пол у ног княгини и, схватив её за руку, уткнулся в неё лицом. Этот жест был полон такого отчаяния, что Вера, охнув, покачала головой и свободной рукой погладила густые пепельные волосы пасынка.
– Ну же, встаньте, Серёжа! Совестно, ей-богу!
– Маменька, я действительно подлец и мне прощенья нет, – глухо сказал он, не поднимая головы. – Но я не хотел, не смел вам лгать… И всё было вовсе не так, как в этой паршивой цидульке… и играл я совсем с другим человеком, и господин Закатов на самом деле просто спас меня! Позвольте, я обо всём вам расскажу! Теперь я могу говорить, потому что эта каналья, написав свой донос, невольно освободила меня от данного слова!
Когда Сергей закончил говорить, в маленьком кабинете стало совсем темно. Последние блики заката погасли на глади озера, и над холмами поднялась ущербная, по-осеннему холодная луна. В кабинет заглянула горничная со свечой, но княгиня Вера отослала её едва заметным движением головы, а Сергей, по-прежнему сидящий на полу, даже не заметил этого.
– Клянусь, всё было так, как я сказал, – сдавленным голосом закончил он, прижимаясь горячей щекой к руке княгини. – Если вы ещё верите мне… Если можете верить…
– Разумеется, да. Разумеется, верю… Ну, встаньте же, мальчик мой. – Вера ласково, но настойчиво вынудила молодого человека подняться и сесть напротив неё. – Одно мне непонятно: какой профит хотел получить этот аноним, донося мне о ваших глупостях? Да ещё выставляя в столь невыгодном свете господина Закатова? Ведь здесь же прямо написано, что это Закатов – ваш кредитор! Не понимаю, право, не понимаю… Надеюсь, вы ещё не успели нажить себе серьёзных врагов в столице?
– Не думаю… – растерянно сказал Сергей.
– И ведь не знай я много лет Никиту Владимировича – я могла бы и поверить в эту отвратительную клевету! И подумать дурно о человеке, который… которого…
– Так вы знакомы с Закатовым?!
– Он лучший друг дяди Михаила, моего брата… Да и всей моей семьи. Моя мать всегда считала Закатова своим сыном, мы дружили с детства… И, видит бог, он остался достойным человеком. Какое счастье, Серёжа, какое счастье, что именно он попался вам в этом ужасном трактире… Как вы только решились отправиться туда!
Сергей тяжело вздохнул, вновь опуская голову к самым коленям.
– Ругайте, маменька, ругайте… Кругом виноват.
– Не буду, – так же тяжело вздохнув, сказала Вера. – Во-первых, повинную голову меч не сечёт… Во-вторых, я не менее вашего виновата, что отпустила вас в Москву, понадеявшись на вашу разумность. А ведь вам в полк ехать через месяц! Что вы ещё там начудите, душа моя?
– И этот сукин сын… простите… эта скотина ещё осмеливается писать вам гадости! – вдруг вспылил Сергей, хватая со стола смятое письмо и комкая его ещё больше. – Как могла русская женщина, столбовая дворянка, выйти замуж за польского гонористого пана и воспитывать его польских щенков! Свинья! Хватило же у него ума не подписаться! Я бы нашёл его из-под земли и вызвал бы на поединок! И застрелил бы с наслаждением!
– Только этого ещё не хватало. – устало сказала Вера. – Мало вам совершённых подвигов?
В кабинете вновь воцарилась тишина. Луна вошла в окно, и кружевная тень от занавесок легла на доски пола. Откуда-то доносилось лёгкое звучание пианино.
– Аннет ещё не спит? – с изумлением, словно внезапно проснувшись, спросила Вера. – Боже, ну вот и поди со всеми вами… Чуть забудешься – и они уже ни о чём не думают! А я совсем забыла пойти утешить Александрин…
– Вот уж большая необходимость! – сквозь зубы заметил Сергей, подходя к окну. – Не много ли чести?
– Серж, у меня уже недостаёт терпения повторять вам одно и то же, – устало сказала княгиня Вера. – Александрин не виновата, что она такова. Её следует пожалеть, а не преследовать недостойными мужчины насмешками.
– Не смею с вами спорить, маменька… Но неужели вы не видите, что она своими кривляниями уже замучила всех! Извела вконец прислугу! Сидор наш, вечно пьяный – и тот старается ей лишний раз на глаза не попадаться! «Ах, опять этот мужик, ах, как от него дурно пахнет, ах, он ужасный, поди прочь!»
– Ну, пьяный Сидор – действительно тяжкое зрелище…
– А эти рыдания по ничтожным поводам? Давеча мы давали бал, съехались гости, все ждут сестру – а Аннет всё не спускается! Иду за ней – и что же вижу? Наша прекрасная Александрин валяется в креслах вся в соп… слезах, от истерики даже говорить не может, а сестрёнка носится вокруг неё с водой и с солями! Натурально, спрашиваю, что за напасть? Оказывается, у кузины разошёлся шов на перчатках и ей не в чем идти танцевать! Аннет уже вывалила перед ней дюжину собственных, чтобы она выбрала, какие ей нравятся, – снова не то! Ах, сиреневое не идёт к зелёному… Ах, жёлтое не идёт к бэж… Ах, как это унизительно всегда пользоваться чужими вещами… Ах, лучше бы ей на свет не родиться… Фу! Маменька, объясните мне, Христа ради, к чему в институтах так воспитывают девиц?
– В институте, Серёжа, никто никого не воспитывает, – с тяжёлым вздохом ответила Вера. – Там только ломают здоровье… И физическое, и душевное. Что может получиться из девочки, которая шесть лет заперта в одних и тех же каменных стенах, шесть лет учится французскому, танцам и манерам… Всему тому, что ни на грош не нужно в жизни! Они не видят новых людей, не читают книг, учатся напыщенным фразам и пустым разговорам о драгоценностях и платьях… и только! И наша Александрин – замечательное тому доказательство.
– Извольте, я готов её жалеть! – сердито заметил после некоторого размышления Сергей. – Но только на дальнем-дальнем расстоянии! Сочувствовать ей вблизи и подсовывать ей свои перчатки, шляпки и шали способна только наш ангел Аннет! Заметьте, вы всегда шьёте платья и Аннет, и Александрин одновременно! То же самое касается и прочих шмотьёв, но кузина всегда недовольна! Всегда и всем! Нет, она, конечно, очень благодарна… – Сергей скорчил гримасу. – Она вечно будет признательна своей благодетельнице, она помнит своё место, она всего лишь несчастная приживалка без гроша за душой… Но кружева у Аннет ЛУЧШЕ! И розовый ей идёт гораздо больше, чем Александрин – вишнёвый! И ботинки у Аннет во сто раз изящнее – пустяки, что их покупали в одном магазине! А того не смыслит, что сестру хоть в рогожу заверни – она всё равно будет лучше, свежее и привлекательнее! Просто потому, что никто и никогда не видел у Аннет кислой мины!
– Одной вещи вы не в состоянии понять, Серёжа, – со вздохом сказала княгиня. – Очень легко быть весёлой, доброй и великодушной, когда тебя с детства любят. Когда ты ни в чём не нуждаешься, когда ты ни разу не слышала, что сидишь на чьей-то шее и обязана быть по гроб жизни благодарна человеку, который, возможно, капли уважения не стоит. Всё тогда становится простым и лёгким. И свои перчатки отдать просто – всё равно у тебя в комоде ещё две дюжины на любой вкус. Бедность весьма портит характер, надо вам сказать.
– Вас, маменька, она ничуть не испортила. – упрямо возразил молодой человек. – Вы нам рассказывали, что ваша семья была небогата, и вы свою молодость прожили по гувернанткам…
– Верно, это так, – улыбнулась Вера. – Но в нашей семье все так любили друг друга, что никакая бедность была не страшна! Братья всю жизнь носили меня на руках. Отец с детства занимался нашим образованием, вкусом, прививал любовь к искусству. Он буквально насмерть бился с маменькой, приучая меня читать книги, – ведь тогда считалось, что девушке вообще читать незачем, что она таким образом становится «синим чулком»! А маменька, несмотря на воркотню, всё готова была сделать для нашего удовольствия… Так что очень прошу вас, Серёжа, – будьте снисходительны к Александрин. Многого вы ещё не можете понять в силу своей молодости, но… Просто сделайте это для меня.
– Для вас я готов сделать всё, что угодно… Но пощадите, не требуйте от меня уважения к этой особе! – вновь вспылил Сергей. – Не вы ли говорили мне, что самое отвратительное на свете – это донос и наушничество?! Не вы ли сейчас комкали с брезгливостью эту бумажонку с клеветой на порядочного человека?! А между тем щели нет в доме, куда бы не сунула свой нос эта Александрин! За всеми следит! За всеми подглядывает! Первое время бегала к вам с докладами – к счастью, вы её быстренько осадили! Этому тоже учат в институте?
– К сожалению, да… И это так скоро не истребить. Но я, Серёжа, догадываюсь, почему вы так обижены на Александрин. – Княгиня слегка улыбнулась, но в темноте комнаты этой улыбки нельзя было разглядеть. – Должна вам сказать, что мне и дворня регулярно докладывает… о ваших рандеву с Варей Зосимовой. Ничего дурного я в этом пока не вижу…
– …потому что в этом и нет ничего дурного! Только такое ничтожество, как Александрин, способно во всём видеть что-то гадкое! Мадемуазель Зосимова – умная, прекрасная девушка! Александрин со всеми своими манерами подошвы её не стоит! Несмотря на разность происхождения и воспитания!
– Серёжа, я всё, всё понимаю… Боже мой, почему это мы с вами до сих пор сидим без огня? Домна! Подай свечу!
Вошла горничная, одну за другой зажгла оплывшие свечи в медном, давно не чищенном канделябре. Дрожащий свет запрыгал по стенам, озарил портрет Пушкина на стене, и на миг княгине показалось, что любимый поэт грустно улыбается ей. Когда язычки свечей выпрямились, а Домна ушла, Сергей быстро подошёл к столу и, искоса поглядывая на мачеху, поднёс к огню скомканное письмо из Москвы. Оно занялось мгновенно и вскоре превратилось в комочек серого пепла.
– Маменька, раз уж мы заговорили о мадемуазель Зосимовой… – нерешительно начал Сергей, возвращаясь в кресло. – Если бы я только мог вас попросить…
– О чём же?
– Скоро именины сестры. Вся губерния съедется, по обыкновению… Я бы очень хотел… и Аннет согласна со мной… чтобы мадемуазель Зосимова была на этом празднике. Со своим папенькой, разумеется. Мы с сестрой попытались пригласить их, но Зосимов упёрся и не согласен! Возможно, если бы вы сами…
Княгиня тяжело вздохнула и задумалась. Молодой князь, всем телом подавшись вперёд, следил за ней пристальным взглядом.
– Серёжа, я боюсь, что это невозможно, – наконец сказала Вера. – Мне очень жаль, но…
– Но отчего же?! Боже правый, я был уверен, что уж вы-то далеки от всех этих предрассудков!
– Я – да. И, как вы помните, я всегда с удовольствием принимала у себя Варю, мне она очень нравится. Но подумайте сами, будет ли она сама хорошо себя чувствовать на нашем балу? Вы сами только что сказали, что прибудет вся губерния… Ужас какой-то! Будут Грановские, Вельтовы, Бзецыньские, графиня Алферина с дочерьми… Весь цвет общества! А у Вари, насколько я помню, всего одно платье и то… весьма…
– Тьфу, какие глупости все эти ленточки-платьица-перчатки! Как только женщины могут всерьёз придавать этому значение!
– Могут, Серж, – заверила княгиня. – И вы даже не представляете, какое. Сами подумайте, что почувствует мадемуазель Зосимова, когда за её спиной начнут судачить – и не очень-то тихо, поверьте! – насчёт её стоптанных туфель, вышедших из моды плерезов и веера, которого у неё, кстати, в помине нет! А потом очень вежливо заведут с ней светскую беседу – и бедная Варя ничего не сможет ответить: она же не воспитывалась в институте для благородных девиц, где только светским разговорам хорошо и учат! С первых же слов гости поинтересуются её семьёй, и Варя вынуждена будет ответить, что она дочь бывшего нашего крепостного! Вы понимаете, как ей будет тяжело? Стоит ли это двух протанцованных с вами мазурок и тура вальса? Господин Зосимов очень умный и гордый человек. Его можно понять.
– Как всё это пошло и, воля ваша, глупо! – сквозь зубы процедил Сергей, вскакивая и меря комнату широкими шагами. Старые доски пола жалобно скрипели. – Целый вечер я буду вынужден занимать этих бестолковых куриц Грановских, этих уродливых барышень Алфериных, делать им комплименты и вертеться с ними в танцах! А единственный человек, которого я действительно хочу видеть…
– Вы с этим человеком и так видитесь каждый день! И не делайте такого лица, лично я в этом ничего дурного не нахожу. Но, боюсь, приглашать Варю на бал по меньшей мере опрометчиво. Она получит от этого больше горя, чем удовольствия. Вы не согласны со мной?
Сергей не ответил. Некоторое время он стоял у окна, глядя в темноту. Затем вполголоса, не глядя на Веру, сказал:
– Я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи, маменька.
– Спите спокойно, Серёжа. – Вера перекрестила подошедшего к ней юношу, ласково погладила его по голове.
Сергей поцеловал её руку и пошёл было к двери, но с полпути вернулся.
– Маменька, но как же нам в таком случае поступить с… господином Закатовым? Ведь несмотря на его слова, я всё равно должен ему деньги, мой долг перешёл к нему и… Разве вы не выплатите ему эти пятьдесят тысяч?
– Насколько я знаю Никиту Владимировича, – медленно проговорила княгиня, – такой мой шаг его страшно оскорбит. Он действительно достойный человек. Кстати, если бы не это мерзкое неподписанное письмо, я бы так ничего и не узнала бы, верно? Вы ведь не собирались нарушать данного слова? Вот и будем считать, что я ничего не знаю. И как жаль, что… Впрочем, ничего, пустое. Ступайте спать.
Сергей ушёл. Вера осталась одна. Она закрыла окно, из которого с каждой минутой всё сильнее тянуло сыростью, и бьющиеся на сквозняке огоньки свечей сразу выровнялись. Некоторое время молодая женщина складывала книги и бумаги на столе, чрезмерно аккуратно разбирая их на ровные стопки. Затем с досадой смешала всё, села за стол и стиснула виски руками. Несколько слезинок упали на бумажные листы, расплылись по ним. Вера машинально провела по кляксам ладонью; затем придвинула к себе стопку бумаги, чернильницу и принялась писать:
«Графу Закатову. Москва, Столешников переулок, дом Иверзневых. Дорогой Никита Владимирович! Первыми же словами хочу поблагодарить вас…» – поползли из-под пера изящные тонкие строчки. Уже половина большого листа была покрыта ими, когда Вера вдруг, словно вспомнив о чём-то, медленно опустила перо. Вздохнула. И, решительно вытерев ладонью мокрые глаза, скомкала начатое письмо. Подумав, поднесла его к свече. Дождалась, пока на серебряном подносе вырастет вторая горка серого пепла, встала и подошла к окну. Прислонилась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза.
– Господи, как глупо всё вышло… как ненужно… – прошептала она. Затем, взмахнув рукой, словно отбрасывая что-то, быстро отошла от окна, задула свечи и покинула тёмный кабинет.
* * *
Над лесом поднималась горбатая сизая туча. Близился вечер. Осенний полуголый осинник натужно шумел. Поля по обе стороны дороги уныло топорщились жнивьём. Поодаль виднелись серые крыши деревни. Широкая дорога, выныривавшая из порыжелого сосняка, пересекала редкую осиновую поросль и тянулась далее через поля.
Из леса выкатился тарантас, запряжённый гнедой лошадкой. На передке сидел нахохленный дед с кнутом, в глубине экипажа дремал закутанный в дорожное пальто седок. Кучер, нахлёстывая лошадь, с тревогой поглядывал на тучу, которая уже закрыла собой полнеба. Поля потемнели. Порыв холодного ветра встопорщил редкие былинки, закрутил над дорогой сухие листья, прилетевшие из леса. Дедок озабоченно взмахнул кнутом, лошадка устало фыркнула… и вдруг встала как вкопанная. Прямо перед ней из вечернего полумрака сотворилась огромная взъерошенная фигура.
– Што ты… Што ты, мил-человек?.. – испуганно закудахтал кучер, взмахивая рукавами. – Поди себе с богом… Вишь, лошадь всполошил!
Но с обочины качнулась к дрожкам ещё одна тень, и дедок, съёжившись, обречённо смолк.
– Да что там у тебя, Тришка? – послышался недовольный сиплый голос из тарантаса. Наружу выглянула мрачная усатая физиономия со встрёпанными бакенбардами и вспухшими ото сна глазами.
– Барин, милый, не полошись, – послышался негромкий, слегка насмешливый голос. – Мы – люди не сильно лихие. Нам от твоей милости много не надо. Давай что есть – и целым уйдёшь.
– Да как ты смеешь!.. – возмущённо начал было тот – и умолк. Разбойник без лишних слов сгрёб его за ворот пальто, и «барин» сразу почувствовал страшную, медвежью силу этой руки.
– Чуешь? – почти весело спросил его разбойник. – Смекай, что будет, ежели всерьёз притисну. Для ча тебе раскатышком-то делаться? Отдавай что есть по-хорошему, за всё благодарны будем!
– Модест Венедиктович, не сердите вы татей, за ради Христа!.. – застонал дедок. – Охти ж, господи, напасть какая… Робята, ведь нету ничего дать-то вам! Какие такие у нас гроши? Из уезда едем, из суда, всё тамошнему крапивному семени ушло…
– Да ну? – Разбойник обшарил тарантас, нахально попросив при этом: – Приподымитесь, барин, несподручно из-под вас тащить… – и извлёк небольшую кожаную шкатулку, забитую бумагами и ассигнациями.
– Не трогай хотя бы документы, свинья! – зарычал барин. – Тебе они всё равно не нужны, это бумаги по имению, закладные…
– Воля твоя. А вот деньги, не обессудь, приберу, – разбойник аккуратно засунул за пазуху пачку ассигнаций. – Они нам поболе твоего надобны. Ого! Антипка! Братка! Да ты поглянь! Я столько и у тятьки после базарного дня не видал!
Тот, кто держал лошадь под уздцы – широкоплечий, кряжистый, со спутанной копной грязных волос, – молча покачал головой – казалось, неодобрительно.
– Чего гривой трясёшь? – усмехнулся его брат. Садящееся солнце неожиданно выстрелило из-за туч низким пронзительным лучом, осветив молодое, загорелое дочерна лицо с чётко выбитыми скулами и зеленоватыми недобрыми глазами. Парень улыбался, но, глядя на эту улыбку, ограбленный господин невольно почувствовал холод на спине.
– Ефимка, ни к чему это, – негромко сказал второй. – Нам столько не надобно. Возьми одну деньгу – и ладно будет. Бога не серди.
Ефим только ухмыльнулся. Короткий шрам на его скуле побелел.
– Не сердить, говоришь?.. Ну-ну… Ладно, барин, поезжай. Спасибо, что с голоду подохнуть не дал.
– Послушай, каналья, имей совесть! – в сердцах выругался господин. – Куда тебе такие деньги, здесь же четыре тысячи! Ты хоть в руках столько держал когда-нибудь?
– Вот теперь и сподобился, подержу! – заржал Ефим, откровенно забавляясь. – Всё, барин, прощевай, не поминай лихом! Трогай, дед! Да живей, туча близко! Намокай тут из-за вас…
Полумёртвый от страха старик взмахнул кнутом над задремавшей было гнедушкой. Та, коротко всхрапнув, дёрнула с места тарантас. Ефим издевательски взмахнул рукой ему вслед, сощурился, вглядываясь во что-то… и вдруг заорал:
– Антип, падай! Падай, оглобля стоеро…
Но из тарантаса, заглушив крик, грянул выстрел. Антип, сдавленно выругавшись, схватился за плечо. Брат бросился к нему:
– Антипка, чего?.. Сильно?! Тьфу, холера на тя, кричал же!.. Ну, барин, пожди! – Он метнулся было вслед за тарантасом, но брат, перестав зажимать рану, здоровой рукой так огрел его по спине, что Ефим с проклятием растянулся на дороге. Тарантас к тому времени уже успел скатиться в ложбинку между холмами и вскоре скрылся в полумгле.
– Уймись ты, леший… – сквозь зубы выругался Антип, глядя на то, как сквозь его пальцы узкими вишнёвыми лентами бежит кровь. – Говорено ж тебе было… У-у, нечисть, чисто огнём жгёт… Живо, братка, уходить надо! Ну как барин с подмогой вернётся? Деньги-то немалые…
– Покажь дырку-то, – мрачно попросил Ефим, поднявшись на ноги. – Экий прыткий барин оказался… Кто ж ведал, что у него пистоль припрятанный? Да стой, не брыкай… сейчас тряпку оторву, замотаю.
Он дёрнул рукав своей старой истрёпанной рубахи. С треском оторвав его, неумело принялся заматывать рану брата. Но сквозь старый холст тут же просочились кровяные полосы.
– Идём до лесу, – обеспокоенно сказал Ефим. – Там Устя посмотрит, она, верно, знает, что делать. Тьфу, чтоб ему кишкой удавиться, барину этому!..
– Пошто ты меня не послушал, дурак? – морщась от боли, спросил Антип. – Говорил же: не хватай деньгу, не бери греха на душу! Вот и огребли…
– О душе моей болеешь? – процедил Ефим, поглядывая на гаснущую в свинцовых полосах искру багрового солнца. – Так поздно уж, братка…
Голос его казался спокойным, но Антип сразу умолк. В молчании братья дошли до кромки леса – уже совсем тёмного, глухо шумящего ветвями, – нырнули под разлапистые ветви старых елей на опушке. Вкрадчиво зашуршали первые капли дождя. Прямо из-под ног у Антипа метнулся прыгучей тенью заяц. Антип невольно дёрнулся в сторону, зацепил раненым плечом низко нависший сук, выругался. Через несколько шагов, догнав Ефима, спросил:
– Для ча ты так сделал-то? Уговаривались ведь: харчей только попросить, а коли уж не дадут, тогда и… Что мы – кромешники какие? Лихим делом на большаке промышляем? Что вот ты теперь с этими деньжищами делать будешь? На что они нам? За них, поди, целую деревню купить можно, ещё и с хутором… Четыре тыщи, шутка ли! Да и барин шум подымет, это уж как пить дать. Тьфу, опять ты, леший, лесу наломал… Не доберёмся мы эдак до Москвы-то! И Танька идти не может, и я теперь подбитый…
Ефим молчал, ожесточённо отбрасывая со своего пути мокрые ветви и ругаясь сквозь зубы, когда упругий лапник всё же хлестал его по лицу. Они шли сквозь лес ещё несколько минут под усиливавшимся дождём. Наконец выбрались на круглую поляну, заросшую иван-чаем и низкой муравой. Среди травы высился шалаш, рядом тлел костёр. Поляна казалась безлюдной, но Ефим негромко присвистнул, и из-за шалаша появилась высокая девушка в изорванном сарафане.
– Слава Богородице – явились… – с облегчением вздохнула она. – Пошто долго-то так, Антип Прокопьич? Мне поблазнилось, что и палил кто-то на дороге! Господи… Антип… да что ты там зажимаешь-то?!
– Да ништо… Шкуру малость царапнуло, – успокаивающе прогудел Антип. – Поглянь, Устя, – может, травку какую надо?
– Так это что ж… – ахнула Устя. – Это в тебя, что ль, выпалили?! У-у, черти, говорила ж я вам! Говорила, что добра не будет! Говорила, что на худое дело тоже талан нужен! А вы что?!
– Жрать-то что будем, дура? – мрачно, сквозь зубы спросил Ефим, который стоял возле углей и с отвращением смотрел на обугленные прутики с нанизанными на них подосиновиками. – Снова грибы эти? С сеном пополам? Нутро всё с них крутит, издохнуть впору…
Устинья ничего не сказала ему. Лишь коротко, сумрачно сверкнула глазами из-под широких, как у мужчины, бровей. Ефим, сделав вид, что не заметил этого взгляда, присел возле углей, взял один прутик и, обжигаясь, начал стаскивать с него почернелые комочки испечённых грибов. Антип коротко, нехотя рассказал о случившемся. Лицо Устиньи потемнело.
– Худо, – коротко сказала она, откидывая за спину небрежно заплетённую косу. – Совсем худо, Антип. Кой вас чёрт попутал?
Антип, украдкой покосившись на неподвижную фигуру брата, пожал плечами – и тут же сморщился от боли.
– Эка вот… Кажись, и не сильно царапнуло – а жгёт, спасу нет!
– Свят господи, да где же не сильно?! – ахнула Устинья, взглянув на набрякшую от крови повязку, и, торопливо поснимав с углей грибные палочки, бросила на тлеющие головешки охапку хвороста. Отсыревшие ветки занялись не скоро, долго шипели, грозясь погаснуть, и Устинья шёпотом приговаривала:
– Ну, живей, миленькие, живей!
Наконец огонь разгорелся, искры взметнулись к нависшим еловым лапам, и Устя ловко и бережно принялась разматывать окровавленную тряпку на плече Антипа. Тот казался спокойным и лишь изредка морщился. Ефим через огонь костра напряжённо следил за ним.
– Ну что там у меня, Устя? – с нарочитым безразличием спросил Антип. – Живой буду?
– Пуля-то, кажись, не вышла, – сквозь зубы ответила девушка. – Вытащить бы. Ефимка, ножа дай.
Ефим, к которому Устинья обратилась впервые, вытащил из-за голенища и молча протянул узкий нож. Устя не глядя взяла его и принялась старательно прокаливать на огне.
– Что ж, терпи, Антип Прокопьич, – чуть погодя сказала она. – Коли вовсе худо будет – кричи, полегчает. Я споренько постараюсь.
– Ништо, – проворчал Антип, основательно усаживаясь у корней старой ели и прислоняясь спиной к её влажному потрескавшемуся стволу. – Не заяц небось, верещать не стану. Ещё Танька напугается… Заснула она у тя, что ль?
– Угу… – Устинья перевела дух, ещё раз попробовала пальцем лезвие ножа – остыло ли? – и решительно поднесла его к ране.
Антип сдержал слово: у него не вырвалось ни стона. Лишь на лбу сизыми жгутами вздулись жилы и выступила бисером испарина на висках. Нахмуренная Устинья, нарочно стараясь не смотреть в лицо парня, быстро орудовала кончиком лезвия. Получалось плохо: видно было, что дело это для лекарки непривычное. Когда в сырую траву возле костра шлёпнулся свинцовый шарик, Устинья с облегчением бросила нож.
– Фу… Всё, кажись. Ну, как ты, Антип Прокопьич? Уж прости, не особо ладно вышло. Не умею я… Пожди, сейчас заново завяжу, травки положу. А утром, как рассвенёт, другой поищу, поздоровше. Не боись, быстро заживёт.
Антип ничего не говорил, тяжело дышал, украдкой вытирая со лба пот. Но когда из шалаша вдруг донёсся слабый стон и голос: «Устя, мужики пришли, што ль?» – он сразу выпрямился и нарочито бодро отозвался:
– Пришли мы, Танька! Ты спи, спи…
Но из шалаша уже выглянула растрёпанная рыжая голова, и худенькая девушка выбралась к костру на четвереньках, волоча за собой обмотанную грязными тряпками ногу.
– Для ча вылезла, кулёма? – сердито спросила её Устинья. – Коль уж заснула – так и спала бы, во сне всё само на человеке лечится. Ну, раз выползла, садись: травку поменяю тебе. Тьфу, навязались вы на душу мне… Эдак мы до второго пришествия в Москву не придём!
– Придём, Устька, – как можно уверенней сказал Антип. – Коль господь сподобит, так и…
Договорить он не смог, потому что рыжая Танька, щурясь сквозь языки пламени, наконец-то разглядела повязку на его плече и немедля принялась охать, всхлипывать и расспрашивать. Антипу пришлось заново рассказать всю историю, и причитания Таньки утроились. Она даже не замечала, как Устинья разматывает тряпки на её ноге и страдальчески морщится, оглядывая длинную, вспухшую, покрытую бляшками гноя и засохшей крови царапину.
– Ну что там, Устя? – вполголоса спросил Антип.
– Кажись, только хужей делается, – так же тихо ответила Устинья. – Вот ведь горе, Антип, не растёт тут мышья травка-то. Я нынче весь лес на карачках обползала – не нашла… А у нас-то дома под каждым забором, как лопухи! Ума не приложу, что теперь делать.
А Танька ничего не слышала:
– О-о-о, да и за какие ж грехи опять напасть на нас приключилася?! Ой, говорила ведь я – дайте лучше я в деревню схожу, ногу свою драную-раздутую там покажу, Христа ради попрошу-у… Ой, да чтоб у того кромешника, кто нас обокрал, шкура наизнанку вывернулась да дождь солёный на неё прошёл! Ой, Антип Прокопьич, да что за нечистый вас на худое дело-то понёс? И когда ж над вами Ефим верховодить-то перестанет?! Ведь вы старшой брат-то!
Антип ничего на это не сказал, угрюмо глядя в огонь, но Ефим сразу же вскинулся:
– Язык прикуси, шишига, не то…
– Помолчи, – устало сказала Устинья. Она даже не повернулась к парню, но Ефим осёкся на полуслове, резко отвернулся. На щеке его дёрнулся желвак. Антип встревоженно посмотрел на него; покосившись на Устинью, покачал головой. Та неслышно вздохнула, нахмурилась. К счастью, в это время Танька взахлёб разревелась. Обнимая и уговаривая рыдающую подружку, Устинья то и дело взглядывала через её плечо на Ефима. Но тот сидел по ту сторону костра, повернувшись спиной к остальным, молчал, и лица его Устя не видела.
– Ладно, Татьяна, не вой попусту, – наконец посоветовала она. – Что сделано, то сделано, не воротить. Антип Прокопьич, что ж нам теперь поделать-то?
– По-хорошему, так уходить отселева скорей надо, – хмуро сказал Антип. – Барин тот не дурак, разом сообразит, что, кроме как в лесу, нам схорониться негде. Нам-то этот лес чужой, незнашный, а местные, поди, кажную тропку здесь ведают. Деньги-то большие, не пятак медный… С утра, чего доброго, барин людей соберёт да искать пойдёт.
– Как уходить-то, Антип? – сквозь зубы спросила Устя. – Ты взглянь! – резким движением подбородка она показала на распоротую от подошвы до колена ногу подружки. – Далеко ль Танька с этаким упрыгает? И ты её теперь на себе волочить не сможешь!
– Ефимка сможет, – хрипло сказал Антип. Из-за раны у него начал подниматься жар, глаза болезненно заблестели в свете огня. Устинья, заметив это, украдкой вздохнула и принялась перевязывать оторванной от подола рубахи холстиной ногу подружки. Танька вздрагивала и всхлипывала, шёпотом поминая Богородицу. Когда перевязка закончилась, она посмотрела на подругу и тихонько сказала:
– Устька, вам бы без меня дальше идти… Дело-то делать надо. Оставили б меня здесь, я уж как-нибудь перекручусь, а сами…
– Как оставить-то тебя, дура?! – потеряв самообладание, выкрикнула Устинья, и из кустов, испуганно вереща, метнулась прочь разбуженная птица. – Здесь, в лесу чужом, оставить, чтоб тебя волки сожрали?! Или сама с голоду подохла?! Мы уж все грибы на полверсты вокруг собрали, где новых найдёшь? С ногой-то разодранной?!
– Я с ней останусь, Устя, коли так, – негромко подал голос Антип. – Права Татьяна, поспешать надо. И так уж неделю почти даром просидели. А вы с Ефимкой забирайте бумаги да ступайте далее. Вы здоровые, ноги целые, деньга теперь какая-никакая есть… доберётесь вскорости.
– Не брошу я тебя тут, – не оборачиваясь, подал голос Ефим. – И даже слова не заводи.
– А тебя никто и не спрошает, – добродушно, но твёрдо сказал Антип. – Встанете завтра с Устей Даниловной и с богом тронетесь. А по-доброму, так прямо сейчас уходить вам надо. Пока барин охоту на нас не поднял.
Рыжая Танька, охнув, всплеснула руками. Её заплаканные глаза округлились.
– Охти… Антип Прокопьич… А с нами-то… С нами-то что будет, коль сыщут нас здесь?
– Стало быть, судьба такая, Татьяна Якимовна, – помолчав, отозвался Антип. – Не свезло ни тебе, ни мне. А дело делать надо. Не для себя одних стараемся, сама знаешь. Всё обчество за нами стоит.
Спокойный, ровный голос парня не произвёл на Таньку никакого впечатления: она схватилась за голову и заскулила с новой силой:
– Господи… Богородица пречистая… Да за что же… Устька, Ефим, да как же… Ой, да я пойду, пойду… Ползком на пузе поползу, ежель надо будет…
– Уходите сейчас, Устя, – словно не слыша причитаний Таньки, повторил Антип. – Дожидать уж нечего. Берите бумаги да ступайте.
– Не могу, Антип, никак! – поразмыслив немного, с досадой сказала Устинья. – Коли я нужной травы не найду – помрёт Танька у тебя на руках-то! Сам видишь, какая худая рана-то у ней сделалась! Ногу вон вдвое раздуло! У нас в Болотееве я бы в два дня её залечила, а тут… Нет, нужно мне с утра ещё малость по лесу походить. Авось сыщется мышья травка-то! Иль тёрник хотя бы… Коль найду, что нужно, – оставлю тебе да научу, как прикладывать. Тогда и тронемся с божьей помощью.
Антип только сокрушённо покачал головой. Устинья подняла и подала ему прутик с грибами.
– Поснедай вот… Другого-то нет ничего. И спать ложитесь, во сне голод не мутит.
– Тебе лучше знать, – без улыбки сказал Антип. И обеспокоенно спросил: – Ты-то на ночь глядя куда подхватилась?
– До бочага спущусь, травку погляжу.
– Впотьмах-то? – удивился Антип. – Тебя там ещё в воду утянет…
Но Устинья только отмахнулась и, подоткнув подол сарафана, чтоб не мочить его о траву, скрылась между чёрными ветвями.
– Кто её утянет, игошу эту? – хмуро сказал Ефим, только сейчас поворачиваясь к костру. Рыжий отсвет лизнул его сумрачное лицо с опущенными глазами. – Она ж в лесу-то как дома… И в темноте видит ровно днём.
– Взаправду видит? – с интересом спросил брат. – Сама тебе говорила?
– Скажет она… – буркнул Ефим. Встал и шагнул между двумя елями – туда, где только что скрылась Устинья. Костёр, словно прощаясь, выстрелил ему вслед снопом искр.
Устя не ушла далеко. Неделю назад, ища пристанища в незнакомом лесу, они обнаружили небольшую круглую бочажину с заросшими осокой берегами. Из озерца вытекал, бормоча, небольшой ручей. Тёмная, холодная вода вполне годилась для питья. Сейчас на берегу было темным-темно. Никакой травы, разумеется, не было видно, да Устинья и не думала её искать. Спустившись к воде, она неловко села на землю, обхватила руками колени и застыла. И не шевельнулась, когда рядом послышались торопливые шаги и послышался встревоженный голос:
– Устька! Здесь ты?
– Здесь, – не сразу отозвалась Устя, украдкой вытирая мокрое от слёз лицо. – Здесь. Иди ближе.
– Ревёшь, что ль? – осторожно спросил Ефим, подходя и садясь рядом.
– Вовсе не думала.
Парень взглянул недоверчиво, но промолчал. Некоторое время они сидели молча. В бочаге что-то чуть слышно плеснуло, блеснула короткая рябь. Ефим невольно отодвинулся. Устинья не пошевелилась.
– Кикиморы, что ль, плещутся? – как можно равнодушнее проворчал парень.
Устя мотнула головой:
– Поздно уж им, на дно ушли. Не бойся.
– Откуда знаешь?
– Бабушка сказывала…
– Ты взаправду в лесу ничего не боишься?
– А чего в лесу бояться? – пожала плечами Устя. – Лесные не вредят… Это хужей человека ничего на свете нет. Глянь, туча ушла, месяц встаёт!
В паутине ветвей действительно появился острый рог месяца. На тёмную воду упал клин бледного света. Лунная полоса скользнула по лицу Устиньи, и Ефим сразу увидел мокрые дорожки на её щеках.
– Ну, вот те… а ещё брешет, что не ревёт. Устька, ну что ж ты?.. – Недоговорив, он с досадой махнул рукой, умолк.
Устинья сердито, уже не скрываясь, высморкалась. Хрипло сказала:
– Антип верно сказал. Завтра вдвоём нам с тобой идти придётся.
– Не брошу я его тут, – упрямо буркнул Ефим. – Чтоб его в каторгу забрали, а я…
– Так всех нас заберут, – устало возразила Устя. – Никто не вывернется. Нешто сам не разумеешь?
– Вас-то за что? – мрачно спросил Ефим.
Устинья не ответила, глядя на то, как поднявшийся месяц укладывается серебристым пятном на воде озерца. Ефим, сидя рядом, молча, исподлобья поглядывал на неё, но Устинья не оборачивалась. И, вздрогнув, отпрянула, когда парень взорвался:
– Ну, что молчишь?! Что ты молчишь-то, ведьмища проклятая?! Сидит, молчит, на месяц таращится… Что ты из меня душу-то тянешь?! Давай уж говори! Подружка-то твоя небось уж поголосить-то успела! «Ой, и пошто ж вас, Ефим Прокопьич, бес попутал, пошто ж худое дело сделали, пошто большие деньги взяли?!» А как по-другому-то было, скажи мне?! Полдня возле дороги высидели – хоть бы пёс пробежал! Как повымерли все! Говорю Антипу: пошли к деревне ближе – так нет, упёрся, леший! Оно и правильно, конечно, там народ набежать мог… И вдруг тарантас господский катит! Нешто пропустить было?! Ведь четвёртый день на одних поганках твоих да на траве! Живот ведь крутит, Устька, спасу нет!
– А деньги у барина зачем взял? – спокойно, без упрёка спросила Устинья.
– Так не было там ничего другого-то! – заорал Ефим на весь берег. – Не было, дура! Ни харчей, ни меди! Одни бумажки по закладным! Коль умна через край – сама б пошла да добыла! Твоё-то дело малое было – по лесу за травой ползать! Давай налаживай из себя суд небесный, а я погляжу!
– Я тебе не судья, уймись, – спокойно, почти безразлично отозвалась Устя. – Вы с Антипом и впрямь непривычные – голодовать-то. Это мы с Танькой на лебеде с крапивой всё лето… Чисто козы. А у вашего тятьки в дому завсегда хлебно было. Нешто ты виноват? С голодухи-то люди и не такое творят.
Ефим зло покосился на неё, подумав: издевается. Но худое лицо Устиньи не выражало ни гнева, ни насмешки, и парень, отвернувшись, шумно вздохнул. Некоторое время они сидели не разговаривая. Устинья вытирала слёзы, которые, как назло, не желали униматься. Ефим, не пытаясь её утешать, смотрел себе под ноги.
– Устька, будет выть, – наконец глухо выговорил он. – Сил нет глядеть… Чем выть, кричи лучше хоть на меня. Можешь и кулаком в харю приложить – слова не скажу…
– Толку-то?.. – отмахнулась она. – Легче ж не будет.
– А мне будет.
– Ну тебя, право… Теперь уж бей не бей – не поправишь. – Глубоко вздохнув, Устя повернула наконец к парню мокрое от слёз лицо, криво усмехнулась: – Ты не думай, я не затем реву, чтоб тебя, чёрта, усовестить… Просто уж мочи нет. И такая жуть берёт, господи… Ефим! Что будет-то с нами, а? Что?! А ну как вовсе не дойдём? И… и не узнает наш барин ничего? И попусту погибель всем нам будет… Господи! Кой только чёрт этого варнака на нашу дорогу принёс?! Ведь всё ладно без него могло быть…
Ефим молча обнял её, и девушка неловко ткнулась встрёпанной головой в его плечо. Её плечи беспомощно задрожали. Месяц скрылся за набежавшей тучкой, и серебристые блики на воде погасли.
Месяц назад, вечером, все они – четверо беглых крестьян – расположились на ночлег на обочине широкого тракта, ведущего к Смоленску. Это была оживлённая дорога, по которой катились телеги и возы, ползли вереницы пешего народа, пролетали почтовые кареты и ямщицкие тройки. Днём беглецы шли по этой дороге, смешавшись с пёстрой, оборванной, беспаспортной толпой нищих и богомольцев, а вечером, в сумерках, останавливались на ночлег в поле.
Было по-осеннему сыро, поле застлал туман, и ветви, сложенные для костра, долго не хотели разгораться. Устинья, сбегав в рощу неподалёку, принесла в подоле ворох уже пожелтелого щавеля и пожалела, что нет котелка.
– Кабы был, я бы штей хоть каких наварила, а так…
– Хлеб-соль, православные! – послышался вдруг спокойный голос из тумана. Это было так неожиданно, что из рук Устиньи посыпался щавель, Ефим вскочил, а Антип схватился за лежащую рядом суковатую палку.
– Эка шуму наделал! – усмехнулся незваный гость, входя в круг света. Это был мужик лет тридцати, невысокий, поджарый и словно высушенный насквозь степным солнцем, в заплатанном, подвязанном верёвкой армяке и неожиданно хороших смазных сапогах. За плечами его висела холщовая котомка. Чёрные, сощуренные глаза мужика живо блестели. Рябоватое добродушное лицо было чудовищно грязным.
– Да не пужайтесь, крещёные, худого не сделаю.
– А чего нам пужаться, мил-человек? – пришёл в себя Ефим. – Ты один, а нас четверо. Кто таков будешь?
– Человек божий, калика перехожий. – Ярко сверкнули белые зубы. – Я тут слыхал, баба твоя убивалась, что котелка нету. Так у меня имеется. Мой котёл, ваш навар. Годится эдак?
Братья Силины переглянулись. Никакие знакомства по пути в Москву им нужны не были. Устинья, держа за руку испуганную Таньку, молча, внимательно смотрела на незнакомца.
– Хорошо слышишь, мил-человек, – сдержанно ответил Антип. – А только шёл бы ты мимо подобру-поздорову. Коли хлеба хочешь – поделимся, а постой у нас свой.
«Человек божий» негромко рассмеялся.
– А молодец ты, паря! Всё верно говоришь, чужих сторожиться надобно. Особливо ежели дела лихие крутишь…
– Какие такие дела лихие, что говоришь-то! – гневно привстал Антип. – А ну ступай прочь, дядя, не то…
– Что «не то»?
– Не то мы уйдём, – неожиданно спокойно отозвался Ефим. – Эй, девки! Собирайте пожитки, дале пойдём!
– Да постой ты! – Нежданный гость перестал улыбаться. – Зачем с хорошего места уходить? Я вас ни о чём не спрошу, вы из меня тоже душу не потянете… так чего ж вместе не переночевать? У меня третий день в пузе ничего не болтается, скоро кишки к хребту прилипнут. А у вас котелка нет. Отчего всем добро не сделать? Наутро в разны стороны разбегимся и не свидимся боле.
Парни снова переглянулись. Антип нахмурился. Ему, хоть режь, не нравился этот явившийся из тумана пришлец с насмешливой искрой в чёрных цыганистых глазах. Он был явно не местным, не Смоленской губернии и не ближней к ней Калужской. В его неспешной чёткой речи отчётливо слышалось круглое «оканье». «Шут его знает, кто таков… Вдруг разбойником каким окажется? А хоть бы и так… Мы-то с Ефимкой всяко его сильнее! Коль чего – скрутим да свяжем, и всего трудов!»
– Как звать тебя, тоже не спрошать? – слегка успокоившись, усмехнулся Антип.
– Ярькой зовите, – отозвался гость, присаживаясь у огня и развязывая свою котомку. Внутри оказался закопчённый котелок с продавленным боком, нож, пара новых лаптей, связка бечевы, трут и кресало, кусок сухого ржаного хлеба, несколько картошек и соль, увязанная в тряпицу.
– Охти, и сольца имеется! Ну, сейчас вовсе добрых штей сварим! – возрадовалась Танька, не обращая внимания на тычки в бок от подружки. – Да ты, дяденька Ярька, поближе к огню садись! Экой на тебе армяк сырой, просушись! Под дождь попал, что ль? Позволишь ли ножичек твой взять, щавель покрошить?
– На здоровье, красавица, – усмехаясь, разрешил Ярька и, расстелив свой армяк на траве, растянулся сверху. Настороженных взглядов парней он, казалось, не замечал и дремал, прикрыв глаза, до тех пор, пока Устинья не сняла с огня котелок с пустыми щами. Ели ложками, наспех вырезанными Антипом из липовых чурок во время одного из привалов. У Ярьки ложка оказалась своя, черпал из котелка он в очередь, быстро насытился, похвалил пустую похлёбку, в которой только и доброго было то, что с картошкой да солёная, и быстро уснул. Вслед за ним легли и остальные, втихомолку уговорившись спать вполглаза, потому – человек чужой и мало ли чего можно от него ждать.
Наутро Ярька сказал:
– Ну что, крещёные, за хлеб-соль благодарствую, пора бы в путь трогаться, – он посмотрел на солнце в лохматых тучках, на затуманенное поле, поскрёб спину под рубахой и предложил: – А то давайте вместе до Москвы. Вам, коли беглые, сторожиться надо, а я калач тёртый-валяный, пособить могу.
Силины и девушки изумлённо молчали. Ефим открыл было рот, но старший брат жестом остановил его и спросил сам:
– А ты, дядя Ярька, с чего взял, что мы беглые? Мы от обчества посланы, ходоками до барина…
– Другому кому рассказывай, паря, – добродушно отозвался Ярька, не отрывая глаз от крошечного ястреба, парящего в небе. – А я этаких посланцев без одного тыщу видал. Какое такое обчество вас с безмужними девками послало? И девки вовсе обдёрганные… У Устиньи вон и рожа битая, едва зажило. Да и собрать вас мир-то подобрее мог. А у вас ни котелка, ни рогожки, ложки – и то наспех рубленые.
Крыть было нечем: Антип молчал. Вместо него подал голос Ефим:
– А тебе, дядя Ярька, мы на что сдались? Ты, видать, человек бывалый, что тебе с нас проку?
– Один – не господин, – усмехнувшись, заметил Ярька. – До Москвы идти долго, а людей лихих на большаках всегда вдосталь было. Вы – парни здоровые, с вами поспокойней будет. Да и вам со мной хлопот не станет. Спрошать мне вас не о чем, только дорога общей будет.
Парни молчали. Рябая, грязная Ярькина физиономия была совершенно безмятежной, глаза равнодушно смотрели в небо. Было очевидно, что он не изменится в лице, какой бы ответ ни услышал. Тем не менее Антип осторожно сказал:
– Ты, коль не в обиду будет, обожди малость. Нам посоветоваться надо.
– Понятное дело, надо. – Ястреб по-прежнему занимал всё Ярькино внимание. – Говорите, а я отойду.
Через четверть часа Антип нашёл Ярьку в зарослях пожухшей полыни и объявил, что они согласны принять его в попутчики.
– Ну и слава богу, – не обрадовавшись и не удивившись, ответил тот и не спеша отправился увязывать котомку.
Антип проводил его внимательным взглядом. Он не стал говорить о том, что Устинья, которой крайне не понравился их случайный знакомый, упорствовала до последнего:
– Воля ваша, Антип Прокопьич, только глупость вы удумали! По всему видать – разбойник, каких мало! У доброго-то человека нешто будет рожа так измазана? И умыться не утрудился вечор! На что он вам сдался? Теперь ни единой ночи спокойно не поспим! Лежи да жди, покуда он тебя зарежет…
– Да брось, Устька! – возражал Ефим, которому Ярька почему-то пришёлся по душе. – И что с того, что морда грязная? С чего ей чистой быть? Бродяга небось, а не барин… Ты сама рассуди: как нам идти-то без знающего человека? Убежали ведь в чём были, взаправду ни ложки, ни плошки… Хорошо, тятька денег успел сунуть! А ведь даже не знаешь, в какое село с теми деньгами зайти можно, чтоб не скрутили… Вон Ярька нас в один миг раскусил, что беглые! Стало быть, и другие тако ж могут!
Устинья, закусив губу, молчала. Было очевидно, что Ефим прав. Их желание добраться во что бы то ни стало до Москвы, к барину Никите Владимирычу Закатову, могло не сбыться по тысяче причин, первая из которых была их неопытность. Устя с Танькой никогда в жизни не покидали пределов родного села. Самым дальним путешествием Ефима были поездки с отцом на ярмарку в уездный город, а Антип однажды даже был в Смоленске у старшего брата и считал это невесть каким дальним светом. Опытный на дорогах человек в самом деле был им необходим, и спорить дальше Устинья не стала. Она лишь предупредила сквозь зубы:
– Антип, Ефим, вы только, ради Христа, осторожней с этим… У меня всё нутро переворачивается, когда на него гляжу!
Парни серьёзно пообещали быть каждый миг начеку.
Казалось, впрочем, что беспокоились они зря. Ярька вопросов случайным попутчикам не задавал, о себе тоже ничего не рассказывал, неутомимо отмахивал версту за верстой по дороге, не жалуясь ни на дождь, ни на усталость. Дорогу эту он, по-видимому, знал хорошо, сам заходил в деревни покупать картошку, репу и хлеб для всей компании на деньги, которые ему давал Антип. Однажды Ярька, вглядевшись в крошечное пятнышко пыли на горизонте, спокойным голосом предложил попутчикам отойти с дороги и «перележать чуток» в зарослях травы на обочине. Те послушались – и через несколько минут с испугом глядели из сухого бурьяна на грохочущую мимо тройку урядника. В дороге Ярька обычно молчал. Вечерами, сидя рядом с попутчиками у костра, слушал их разговоры о деревенской жизни, о страде, о податях и рекрутских наборах, похмыкивал, но не вмешивался. Так прошло около недели пути.
…В одну из ночей Ефим никак не мог задремать. Из близкого оврага тянуло сыростью, небо заволокло низкими седыми облаками, сквозь которые по одной, словно нехотя, проглядывали холодные звёзды. Взошёл тонкий, почти прозрачный месяц, и пустое поле подёрнулось его мертвенным светом. Совсем рядом прошуршала полёвка; Ефим даже ощутил на щеке мимолётное прикосновение её влажного носика. Мышь уселась было неподалёку, теребя сухую соломинку – но вдруг беззвучно метнулась в траву. Со стороны углей послышалось слабое копошение. Ефим, не поворачиваясь, скосил глаза. Бесформенная тень качнулась к нему. Раздался чуть слышный шёпот:
– Паря, отойдём… Всё едино не спишь.
– Зачем, дядя Ярька?.. – недоверчиво спросил Ефим.
– За делом! Побалакать надобно… Нет, ежели боишься, так спи…
– Чего бояться-то? – проворчал парень, вставая и украдкой поглядывая на лежащего рядом брата. Но Антип храпел вовсю. Девки, измучившись за день, тоже спали мёртвым сном. Ефим передёрнул плечами и, стараясь ступать неслышно, пошёл за скрывшимся в тумане Ярькой.
Тот не ушёл далеко. Сидел на берегу ручья, поглядывал на смутно поблёскивающую в лунном свете воду. Ефим сел рядом:
– О чём балакать хотел?
Некоторое время Ярька молчал, и Ефим, напряжённо вглядываясь в темноте в его лицо, мог бы поклясться, что их случайный попутчик улыбается.
– Ты мне, паря, вот что скажи… – наконец заговорил он. – На кой чёрт вас в Москву-то несёт? Беглых, да беспашпортных, да с девками на хребте?
– Тебе-то что? – без особой вежливости процедил Ефим. – Ты, я вижу, такой же беспашпортный будешь… только что без девки. А на Москву тоже пробираешься. У тебя свои дела, у нас – свои… Об чём балакать-то?
– Будет Москва – будет и пашпорт… – медленно сказал Ярька, почёсывая грязную голову. – Это надо только верных людей знать. Очертя голову, как вы, в петлю не полезу.
– Думаешь, гиблое наше дело? – помолчав, спросил Ефим.
– Гиблое, – не задумываясь, ответил Ярька. Месяц сбоку освещал его грязное курносое лицо, которое без привычной ухмылки казалось проще и моложе. – Я тебя спрошать не буду, чего вы там у себя в деревне наворотили… Только дело, видать, лихое случилось. Пришибли, что ль, кого?
Ефим молчал. Ярька искоса взглянул на него, скупо усмехнулся краем губ.
– Я, паря, советов чужих не люблю и сам не даю. И к становому не побегу про вас докладываться – к чему мне? Но ведь, воля ваша, дребедень вы задумали – через две губернии в Москву тащиться. Словят вас на дороге да к барину назад возвернут, а там уж – пропадай шкура пропадом…
– Не возвернут, – процедил Ефим. – Барин наш как раз на Москве засел. До него и идём.
– Вон как, – без удивления сказал Ярька. – Что ж у вас там за несправедливие случилось?
– Управляющая всю кровь выпила, – неохотно пояснил Ефим. – У нас на две деревни да село всего полторы сотни душ осталось – а было четыреста без малого! Да беглых ещё сколько, да в некрута без череды с десяток Упыриха эта сдала! Три года свадеб не игралось, не давала, ведьма: мол, неча гулять, работайте! Мы ж и работали – света не видали! Только хоть вусмерть на барщине расшибись – а всё едино хозяйству разор! Потому какой же это работник, ежели его от голода валяет? Коли барин-то нас послушает да приехать решит, враз всё ладом пойдёт! Тятька наш – староста, его всяк уважает… Он и барина научит, как хозяйство-то наладить без мучительства лишнего! И жисть у людей враз легче станет!
Говорил Ефим медленно, обдумывая каждое слово и мучительно колеблясь: нужно ли сообщать всё это чужому человеку. Ярька, впрочем, слушал молча, внимательно и, казалось, с сочувствием.
– Кабы, паря, с вашего походу ещё хуже не стало, – заметил он, когда Ефим умолк, соображая, не наговорил ли чего лишнего. – Когда это на белом свете было, чтобы баре о своих холопах думали? Деньги небось ему Упыриха ваша слала? Ну, так с чего ж ему недовольным-то оказаться? Небось ещё и рад был, что у него этакая сноровистая баба при хозяйстве состоит. А теперь что? Вы с братом ту Упыриху, часом, не придушили?
Ефим молчал, изо всех сил стараясь скрыть смятение. От слов Ярьки словно взорвалась успокоившаяся, улёгшаяся было память. Перед глазами снова встал серый предутренний свет на стене барского дома, тёмная кровь, хлестнувшая на пол, хриплый вскрик, глухой стук выпавшего из его собственных рук топора… Не забыть теперь до смертного часа, не выкинуть из головы… А по-другому было нельзя, и Ефим знал наверняка: случись вернуться тому страшному рассвету – и он снова всё сделал бы так же.
Парень незаметно перевёл дыхание. Скосил глаза на Ярьку и заметил, что тот, глядя в сторону, продолжает благодушно рассуждать:
– По-доброму-то, вам не к барину на Москву, а в Сибирь аль на Дон надобно. Хотя, конечно, с девками-то оно не больно сподручно… ну так и бросили б девок-то! Им по бабьему делу много не назначат…
– Чего не назначат?
– Батожья, – мирно пояснил Ярька. – И им, и вам, ежели в дурь упрётесь. А опосля в ту же Сибирь пойдёте, только в цепках кандальных. Коли, конечно, после кнута живыми останетесь. Тут уж от палача зависит. Бывает, что человека, кажись, и живого отвязывают, – а он через два дня в лазарете богу душу отдаёт. В кнуте не то страшно, что шкуру рвёт, а то, что нутро отшибает. Хотя вы-то с братом, кажись, здоровые, сдюжите. Да кроме того, ежели у тятьки деньга имеется, – пущай он палачу-то заплатит. Умеющий палач с одного удара из человека дух вышибает – и тот уж ничего не чует. Да и удар удару розь. Ежель по-умному бить, так нутро цело останется. Но это уж больших денег стоит. Найдётся у тятьки-то вашего?..
– Так барин-то что ж?.. – растерянно спросил Ефим.
– А что «барин»? Ты ведь его и в жизни своей не видал, поди? – хмыкнул Ярька. В его голосе не было издёвки, он говорил с тем же лёгким сочувствием, и именно это пугало больше всего. – Барин в Москве сидит… До вас ему дела не было и нету. Коли б было – давно б сам приехал глянуть, что у него в именье творится. Вот вы говорите – расскажете ему про мытарства свои, он приедет, всё наладит… Может, оно и так, всяко бывает… бог со скуки иногда и чудеса творит. Только вам-то, парень, всё едино под суд идти. И тебе, и Антипке, и девкам вашим. Коли вы всамделе смертоубийство сотворили, то и барин вам заступой не будет.
– Что ж… Стало быть, пропадать, – процедил сквозь зубы Ефим. Он старался сказать это равнодушно, но по спине нехорошими мурашками пробежал озноб.
– А на что? – искренне удивился Ярька. – В твои-то годы – пропадать? Вы с братом – парни здоровые, силу вашу видал я. Вас на Волге как царей примут!
– Кто примет-то? – с недоумением взглянул на него Ефим. – В работу там, что ль, народ нанимают? Так беспашпортных-то, поди, купцы-то не возьмут, а ежели…
Закончить он не успел, увидев, что Ярька смеётся – беззвучно и взахлёб.
– Это ты, паря, верно заметил, купцы – не возьмут! – сквозь смех едва выговорил он. – Да только на Волге купцов самих берут… за мошну берут и трясут, а они, сердешные, земно кланяются, что живота не лишили!
– Это кто ж… так озорует-то?
– Известно кто… Ватажники! – Ярька перестал смеяться так же внезапно, как и начал, в упор взглянул на оторопевшего парня чёрными цыганистыми глазами. – А что ты вытаращился? Не слыхал, что ли, в лесу своём о таком-то?
Наступила тишина. В ручье чуть слышно что-то плеснуло, и, словно дождавшись этого, зарылся в тучи месяц. Белёсое покрывало, лежащее на поле, растаяло, скрыв и ручей, и дорогу. Теперь Ефим мог видеть лишь смутно блестевшие белки глаз сидящего напротив.
– Так ты из тех, что ли… дядя Ярька? Из ватажных?
– Ох, спрашиваешь много, паря, – Ярька покосился на тучу, зевнул, потянулся. Поднимаясь на ноги, не спеша сказал: – Я тебе, Ефимка, всурьёз говорю: не суй ты башку в петлю! Будь ты тюхой каким, я б и рот не открыл уговаривать тебя. А у меня чуй звериный, я своего завсегда унюхаю! Нечего тебе на каторге казённые цепи протирать, когда молодой да могутный. Таких на Волге завсегда ждали. Бросай всё, да идём со мной!
– Это как – бросать-то? – мрачно спросил Ефим. – Брата я брошу? Девок? Нет, дядя Ярька. Это ты человек вольный, а мы… Спасибо тебе, только я эдак не могу. Вместе мы дело задумали – стало быть, и отвечать всем. А дальше уж как бог рассудит.
– Ну, была бы честь предложена, – усмехнулся Ярька. – А коли всё-таки вздумаешь – так добирайся до Жигулей. А там сыщи атамана Берёзу – знающие люди покажут. Говори, что от Ярёмы Рваного явился.
– Ты, что ли, Рваный-то будешь? – осторожно поинтересовался Ефим.
– Спрашиваешь много… – донеслось из тумана, Ярька уходил. Ефим некоторое время сидел один возле ручья, вертя в губах былинку и поглядывая на месяц, кочующий из облака в облако. Затем поднялся, дошёл до погасших углей, лёг рядом с братом и заснул – словно провалился.
Его разбудил истошный вой. Голосили так пронзительно и громко, что, казалось, в тяжёлую со сна голову с размаху вбили калёный гвоздь. Ефим вскочил, огляделся. Тут же оборвался, как отрубленный топором, и крик. Протерев кулаком глаза, парень увидел, что Устинья, растрёпанная и злая, держит в охапке бьющуюся Таньку и яростно зажимает ей рот.
– Да замолчи ты… Умолкни, дура! С дороги услышат не то!
– Да что стряслось? – хрипло спросил Ефим. – Антипка-то где?
Из низких туч сочился блёклый рассвет. Всё поле было покрыто плотным туманом, в котором не видать было даже дороги в трёх шагах. Откуда-то слабо доносился колокольный звон. «Заутреня… – машинально подумал Ефим. – Спас же медовый… Аль ореховый уже?»
Из тумана вывалился запыхавшийся, встрёпанный Антип.
– Нету нигде! – выпалил он. – Кругом не видать, туман!
– Да ты сядь, Антип Прокопьич, – устало посоветовала Устя. – Чего уж теперь-то… Он, варнак, поди, ещё ночью утёк.
– Да кто утёк? – почему-то шёпотом спросил Ефим, уже понимая, что случилось что-то страшное. – Ярька? Куда его понесло, лешего?
И тут он увидел малахай брата – вывернутый наизнанку, перекрученный, небрежно брошенный у давно погасших углей. И сразу словно ледяной водой окатило сердце, и Ефим сел на сырую траву там, где стоял. Одними губами спросил:
– Деньги?..
– Все, как есть! – с убитым видом подтвердил Антип, яростно встряхивая в руках ни в чём не повинный малахай. – До последнего гроша, кромешник, выгреб! И как подобрался, анафема? Как я-то не услыхал ничего?! Ведь в полу зашито было, не враз подкопаешься…
Танька больше не кричала и молча, беззвучно заливалась слезами, схватившись за голову. Устинья сидела рядом с ней, глядя в землю и стиснув зубы так, что на худых скулах дёргались желваки.
– А бумаги-то? – словно со стороны услышал Ефим собственный голос. – Бумаги-то отца Никодима целые?
– Навроде целы. – Антип бережно, как ребёнка, развернул тряпичный свёрток, и Ефим увидел, что огромные, кряжистые руки брата дрожат. – Не… их не взял, слава богу, аспид. Побрезговал. И то – на что они ему? Тьфу, и как только спроворил, ирод!.. И поди найди его теперь, в тумане этаком! И как я не почуял-то?!
Ефим, однако, почувствовал некоторое облегчение. «Летопись села Болотеева», вручённая им перед уходом сельским священником, была во сто раз дороже украденных денег. В записках отца Никодима год за годом описывалась жизнь болотеевских крестьян – страшная, тяжкая, беспросветная: смерти детей, болезни, голод, убивающая работа, издевательства управляющей. Главной заботой беглецов было доставить эту драгоценную рукопись в Москву, к барину.
– Ты не убивайся, братка, – медленно выговорил Ефим, глядя на потёртый свёрточек. – Самое главное, бумаги-то – на месте… А этот Ярька и самого чёрта ободрал бы как липку. Кромешник он. Ватажник с Волги.
Все дружно, с изумлением уставились на Ефима. Тот в двух словах рассказал о ночном разговоре на берегу ручья – умолчав, однако, о том, что Ярёма Рваный звал его с собой. Но Устинья всё равно почуяла неладное.
– Пошто ж он тебе открылся-то, Ефим? – подозрительно спросила она, глядя в упор на парня серыми, неласковыми глазами. – До того неделю молчал, ни о чём говорить не хотел… Чем ты ему, анчихристу, глянулся?
Ефим только пожал плечами, избегая её взгляда.
– Стало быть, варнак, каторжник… – пробормотал Антип. – Вон что…
– Считай, что даром отделались, – буркнул Ефим. – Мог бы просто всех порешить для надёжи – и делу конец. А он, гляньте, – ещё и котелок свой нам оставил. Вон на палке болтается… По-божески, стало быть, обошёлся!
Устинья проследила за его взглядом – и вдруг расхохоталась. И смех этот, хриплый, низкий, похожий не то на рычание, не то на всхлипы, напугал Ефима до мороза на спине. Он метнулся к девушке, схватил её за плечи, несколько раз с силой, не жалея, встряхнул:
– Хватит, Устька! Уймись! Тебя не хватало только… Живы – и слава богу! Полдороги уже позади, дойдём как-нибудь!
– И то верно, – прогудел Антип, бережно заматывая в тряпку рукопись отца Никодима. Однако, не закончив, выпустил из рук потёртый лоскут и взглянул на девок: – Давайте-ка лучше место запоминайте, где барин наш обитает: Москва, Столешников переулок, дом Иверзнева. Чего вылупились? Повторяйте, покуда как «Отче наш» не затвердите! Мало ли что… Вдруг все не доберёмся иль бумаги потеряем… Всяко быть-то может, сами видите!
Через полчаса с неба заморосило. Под холодными каплями путешественники собрали свой небогатый скарб и тронулись по ещё затянутой туманом дороге.
С того дня всё и пошло наперекосяк. Денег больше не было, купить хлеба потому не на что, а остатки его быстро подъели. Просить Христа ради под окнами было почти бесполезно: вдоль дороги тянулись нищие деревни, обитатели которых сами шатались с голодухи. Танька и Устинья, привыкшие по целым дням ходить голодными, страдали меньше. Но парни, у отца которых всегда было что подать на стол, мучились страшно. Антип не жаловался, но разговаривать перестал совсем. Ефим, напротив, словно выплёскивая в брани неутолённый голод, крыл последними словами барина, Упыриху, «кромешника» Ярьку, всё воинство небесное и добирался уже до самого Господа Бога, когда его сердитым бурчанием одёргивал старший брат. Немного легче стало, когда Устинья предложила отдохнуть хоть несколько дней в лесу, где она чувствовала себя как дома. За час она набрала полный подол грибов, и вечером, черпая из Ярькиного котелка немудрёную похлёбку, путешественники почувствовали себя почти сытыми.
– Грибов-то тут пруд пруди! – радовалась Устинья, нанизывая на прутики оставшиеся боровики и подберёзовики. – С голоду теперь наверняка не помрём! Посушим, с собой возьмём, надолго хватит! А завтра я ещё схожу поищу!
– Кабы ещё хлебца… – вздохнул Ефим.
– В Москве поедим! – отрезала Устинья.
«В остроге», – чуть было не добавил парень. Но, покосившись на осунувшееся лицо девушки, промолчал.
Может быть, всё и сладилось бы так, как говорила Устя. Но неудачи, вцепившись в них, никак не желали отставать. На другой день девушки ушли за грибами уже вдвоём, предупредив, что раньше вечера их и ждать незачем: «Побольше наберём, чтоб на сушенье, в дорогу хватило». Но они вернулись уже через час: почерневшая от натуги и злости Устинья волокла на спине ревущую благим матом подружку. Танькина нога была распорота от ступни до колена. Кровь сочилась сквозь небрежно накрученную тряпку, падая в траву крупными каплями.
– В яму медвежью, кикимора, провалилась! – поведала, отдуваясь, Устинья. – И как ведь только угораздило! Я и уследить не успела, а уж слышу – верещит на весь лес! А отколь верещит – и не вижу! Яма-то глубокая оказалась, полтора аршина наверняка будет! А на дне – кол острый! Ещё слава богу, что она не сама на этот кол насела, а только ногой проехалась! Я надорвалась вся, эту дурищу выволакиваючи! Посмотришь – в чём только душа держится, а на горб возьмёшь – так и дух вон!
Танька рыдала в голос, глядя на взбухшую от крови повязку.
– Ой, лишенько… Ой, смерть моя пришла… Ой, обезножею теперь, как есть обезножею… Ой, как дальше-то идти буду, ведь отсохнет нога-то… Ой, судьба моя пропащая-я-я-я…
– Да не отсохнет у тебя ничего, дура, уймись! – вскричала, потеряв самообладание, Устинья. – Дай гляну, завяжу по-хорошему! К вечеру травки нужной сыщу, и через два дня снова поскачешь, как кобыла саврасая! Замолчи только, ради Христа, сил нет вытьё твоё слушать!
Танька, всхлипывая, умолкла. Устя, сердито сопя, пробежалась вокруг полянки, принесла какие-то красноватые стебли, растёрла их в ладонях, приложила к кровоточащей ране и накрепко примотала обрывками своей рубахи.
– Вот! Так! И лежи! А я пойду грибы дособеру, а заодно мышью травку гляну! Моё слово – через неделю на обеих ногах пойдёшь!
Однако поиски ничего не дали: прочесав половину леса, падая от усталости, Устинья вернулась вечером к поляне с пустыми руками. Нужная травка не росла здесь ни при болоте, ни в овраге, ни в заросшей папоротниками низине.
– Как же быть теперь-то, Устя Даниловна? – спокойно спросил Антип, но по глубоко прорезавшей лоб морщине видно было, чего стоит парню это спокойствие. Ефим и вовсе ничего не говорил: сидел рядом со всхлипывающей Танькой и с отвращением поглядывал на её замотанную ногу.
– Что поделать, Антип Прокопьич, обождать придётся, – отрывисто проговорила Устинья. – Даст бог, обойдётся и так. Завтра пойду ещё поищу.
Однако не обошлось. Нужная травка не нашлась, несмотря на все усилия Устиньи. Её тайные страхи, о которых она побоялась сказать, сбылись: подружкина нога распухла и загноилась. К вечеру Таньку уже кидало в жар. Она плакала, просила то пить, то хлебца, пусть даже из коры с лебедой, то домой, в Болотеево, и пусть хоть секут насмерть, хоть на воротах вешают… Устинья подносила к обмётанным губам подруги берестяной ковшик с водой, тревожно смотрела на парней. Те отвечали ей такими же взволнованными взглядами. Было очевидно: в ближайшее время продолжить путь не удастся. К счастью, у них был котелок, и Устя уже чуть ли не добрым словом вспоминала разбойника Ярьку, оставившего им такую ценную вещь. В прокопчённой посудине теперь готовились и грибная похлёбка пополам с травой, и отвары от лихорадки, и травяная мазь для лечения. Парни на скорую руку сметали из веток и лапника шалаш, перед которым постоянно дымили угли. Костёр, впрочем, не спасал: сырой, пронизывающий холод преследовал путешественников и днём и ночью. Они уходили из родного Болотеева тёплым августом, уходили в чём были, и только у Антипа был суконный малахай, подаренный отцом Никодимом. Теперь под этим малахаем по ночам вдвоём дрожали Устинья и Танька. Парни мёрзли в рубахах. Раньше этого холода можно было не замечать из-за бодрой ходьбы по дороге и из-за чугунного, мёртвого сна по ночам. Теперь же идти было некуда, занять себя нечем, разговаривать не хотелось, и в голову против воли лезли тяжёлые безнадёжные мысли.
А осень между тем вступала в свои права, поливая поредевший стылый лес ледяным дождём, давя сверху свинцовыми тяжкими тучами. Давно было не слышно птиц. Устя опасалась появления злых лесных кабанов, против которых у путешественников не было ничего, кроме рогатины. Однажды на рассвете к их шалашу вдруг вылез, ломая сухостой, огромный бурый медведь. Парни спали; Устинья, копошившаяся у углей, замерла, сделала знак Таньке, уже открывшей рот для истошного вопля, и, стараясь не шевелиться, тихонько сказала:
– Не шали, Михайло Потапыч, сделай милость! Мы твоего не возьмём, и ты нас не тронь. Ненадолго мы здесь, уйдём скоро.
Медведь взглянул на неё, казалось, с недоумением. Затем мотнул огромной мохнатой головой и вперевалку удалился в лес. Полумёртвая от страха Танька ничком повалилась на подстилку из лапника. Устинья глубоко вздохнула и принялась перебирать собранные накануне грибы, стараясь, чтобы подружка не заметила, как трясутся у неё руки. «Уходить надо… Ох, уходить… Скоро ещё волков леший принесёт! А как уходить-то?! О-о, будь она проклята, доля наша!»
День шёл за днём. Таньке лучше не делалось. Вдобавок кончилась хранимая как зеница ока соль, и хлебать пустое грибное варево стало невмоготу даже Устинье. Парни, привыкшие к постоянной работе, теперь маялись от безделья. Кроме сбора дров и поиска орехов по кустам, заняться им было нечем. Антип изредка вырезал ножом из сучков смешных зверьков, стараясь позабавить совсем павшую духом Таньку. Однажды он отыскал в лесу старую толстую липу, надрал лыка и сплёл несколько пар лаптей для девок. Лапти, однако, пока были ни к чему: Танька не могла ступить и шагу, а Устя привыкла до самых заморозков бегать по лесу босиком. Однако за лапти поблагодарила: впереди ещё была долгая дорога.
Ефим же не хотел делать даже этого и часами сидел возле углей, изредка вороша их палкой и глядя в их малиновое нутро угрюмым неподвижным взглядом. И когда однажды утром братья Силины, тихо посовещавшись, ушли через лес к дороге, ведущей в деревню, Устинья поняла, что удерживать их бесполезно.
Над лесом спустилась ночь. Низкий месяц застрял в облетевших ветвях осин, посвечивая оттуда блёкло, жутковато. Мёртво белели в этом свете сухие палки камышей у берегов бочага. Двумя валунами казались фигуры парня и девушки, сидящих рядом у воды.
– Устька, Антип дело говорит: уходить нам с тобой надо. Я сначала сам не хотел… А теперь думаю: по-другому-то впрямь никак. Сами мы с тобой целые, ноги здоровые – в неделю дошагаем. А с Танькой хворой на плечах да с Антипкой подбитым как?.. Глядишь, и вправду… и дела не сделаем, и сами сгинем.
– Господи, Ефим, замолчи! – с сердцем воскликнула Устя. – Сказано ж – никуда не пойду, покуда мышьей травки не сыщу! Я давеча в соснах бродила, так ветром сырым с севера потянуло. Наверняка есть там ещё болотце какое-то! Я завтра спозаранку туда схожу, поищу. Если уж и там не найдётся… Тогда воля ваша. Как хотите, так и решайте.
– Устя… – после недолгого молчания тяжело выговорил Ефим. – Я тебе ещё когда сказать хотел… да думал, может, обойдётся. Только, вижу, беда одна не приходит. Пропадать-то нам так и так придётся. Мне кромешник наш, Ярька, всё как есть истолковал.
В двух словах, сквозь зубы Ефим передал то, что рассказал ему Ярёма Рваный в последнюю ночь перед своим исчезновением. Устинья слушала молча, не ахая и не ударяясь в слёзы. В её расширившихся, сухих глазах мутно блестел свет месяца.
– Стало быть, всё едино конец? – сдавленно выговорила она после того, как Ефим умолк и уставился в сторону.
– Стало быть, так. Миру-то, может, облегченье и будет, ежели барин в имение вернётся… А нам добра не жди. Как ни крути – всё равно суд, кнут да Сибирь выходят. И вас с Танькой не пожалеют, всё едино – беглые. И про убивство знали, да не донесли. А уж нам с Антипом и вовсе…
Устинья промолчала и тут: просто беззвучно ткнулась взлохмаченной головой в колени. Ефим обнял девушку, прижал к себе, чувствуя, как она дрожит – то ли от ночного холода, то ли от страха. Устинья приникла к нему, содрогнулась всем телом от подавленного рыдания.
– И не венчаны мы с тобой даже, – тихо сказал Ефим, прижимаясь щекой к влажным от сырости спутанным волосам девушки. – Я-то думал в отцов дом тебя взять, откормить… Поглядеть хоть, какая ты, когда сытая. Отродясь ведь не видал! Глядишь, и подобрела бы… игоша болотная.
– Сам-то и кормленый, а бешеный, – проворчала Устинья, незаметно утирая слёзы. – В кого только – неведомо.
– Про то мамку с тятькой расспросить бы, – жёстко усмехнулся Ефим. – Да не приёмных, а кровных.
– Экой грех говоришь! – укорила Устинья. – Прокоп Матвеич тебя, поди, с родными сынами вырастил, различья не делал!
– Не делал, – согласился Ефим. Без привычной усмешки медленно выговорил: – А я ведь барину-то нашему, почитай что, родня. Мать моя в девичьей служила… От старшего барчука меня и прижила.
– Выдумал – «родня»! – фыркнула Устинья. – Да у бар этакой родни по всем дворам косяки бегают! Поменьше б ты о том думал, пользы-то всё едино нету! Вредномыслие одно…
– Это верно, – согласился Ефим. И, подумав, решительно потянул Устинью на себя. Та, испуганно вскрикнув, упёрлась обеими руками в его грудь.
– Ефим!!! Да ты что, ирод, вздумал-то? Ишь, чего творит… Пусти, ну… К чему это сейчас?
– А когда ж после-то, Устька? – спокойно возразил он. – Ну, сама рассуди, коль умна. Сейчас венчаться нам недосуг… Да и какой поп возьмётся беглых окрутить, без барского дозволения? А опосля и вовсе не до того окажется. Там дай бог хоть живым остаться. И о чём мне на каторге вспоминать будет? О том, как мы с тобой вдвоём на болоте сидели да зубами стучали – каждый в свою сторону? Ты ж, дура, знаешь… Мне, кроме тебя, никого не надобно. За тебя я и смертный грех на душу взял. И до смерти о том не пожалею.
– Ах ты, Ефим, кровушка господская… Беда ты моя… – пробормотала Устя, ещё обороняясь, но уже запрокидывая голову под жадными, неловкими поцелуями парня. – Ах ты, душа разбойничья… Пропадать нам… Всё едино пропадать… Что поделать, коли судьба… Трава мы мирская, топчут нас – и не замечают… И пусть, пускай… Чего уж, коли так назначено… Мне-то… Мне-то тоже для кого себя беречь? Чего дожидаться? Да не рви ты, варнак, рубашку, от ней и так одни лоскуты ос-та-ли-и-ись… Господи… Ефим… сердце ты моё, тоска моя… Господи!
Но рубашка, разодранная надвое, уже поползла в траву. Ефим стиснул девушку так, что та застонала, опрокинул наземь, тяжело дыша, дорвался губами до шеи с дрожащей жилкой, до груди, до худых, замёрзших плеч. Устя то плакала, то слабо бормотала что-то, пытаясь сдержать его, унять, но какое там… Ефиму казалось, что промедли он хоть миг, – и исчезнет навсегда, скроется в ночном тумане эта разноглазая ведьма. И гадай потом – была ли эта тёмная сырая ночь, или примерещилось всё, привиделось…
– Устька… Устька! Ну, что ты ревёшь, глупая… У меня ведь ты одна… Ты только… Всегда по тебе сох, никакой другой в сердце не держал, игоша ты болотная… Только ты, Христом богом клянусь…
– Врёшь… Всё врёшь, анафема, молчи-и…
– Чего молчать? Когда вдругорядь скажу? Всю ты мне душу вымотала!
Темнота, сырость, мокрые капли на лице – и не разберёшь, то ли слёзы, то ли дождь, то ли роса… Руки – сильные, неумелые, торопливые, ими за соху держаться, а не девок ласкать… Горячие губы, сбивчивый шёпот:
– Да не реви ты… Скажи лучше – больно, что ль? Так я обожду…
– Не жди… Ох, не жди, Ефим, некогда нам ждать… Я-то… Я-то, кроме тебя, нешто любила кого? Мне не больно, вот тебе крест… хорошо мне! Николи в жизни так хорошо не было! И не будет уж…
– Будет… Будет! Врозь-то нам не быть… Да ты ревёшь аль смеёшься, скаженная?!
Устя и впрямь смеялась сквозь слёзы. Словно спасаясь от чего-то, она обхватила мощные, напрягшиеся мускулами плечи парня, уткнулась мокрым лицом в его шею, прижалась всем телом к широкой твёрдой груди и – не думала, не жалела больше ни о чём.
Месяц давно сел. Близился рассвет. Небо над осинами начало зеленеть. Поредевший лес тихо шумел. На той стороне озерца попрыгивал по рыжим кочкам осторожный заяц. Устинья, лёжа навзничь в измятой траве, следила за ним взглядом из-под руки. Затем шевельнулась. Заяц застыл столбиком, поводя ушами, затем подскочил и кинулся упругим комком прочь через болото. Устинья невольно улыбнулась и, кряхтя от ломоты во всём теле, принялась подниматься. Её сарафан и разорванная рубаха были мокрыми насквозь. По подолу расплылись кровяные пятна. Морщась, Устинья осмотрела их. Затем пожала плечами, стянула сарафан, стащила через голову рубаху и, дрожа от холода, спустилась с ней к воде. Из камышей, шумно хлопая крыльями, взметнулись две кряквы, в лицо Усте плеснуло стылой водой. Она досадливо отмахнулась, присела на корточки и принялась тереть в воде окровавленный подол. И не обернулась, когда за спиной послышался хриплый спросонья голос:
– Бог ты мой, рёбры-то частоколом торчат…
– А ты отвернись, чёрт бесстыжий, – посоветовала Устинья, скупо усмехаясь.
– А вот не буду, – важно сказал Ефим, подходя сзади и непринуждённо прихватывая её за грудь. – Потому я тебе теперь есть супруг законный.
– Угу… – невесело хмыкнула Устя, отталкивая его локтем. – Венчали нас вкруг ели, и лешие нам пели!
– Разница-то какая? – бодро возразил Ефим и сунул в воду у берега руку. – У-у, холодища… Вылазь давай из воды этой, ещё застудишься, мало нам Танькиной хворости! Поди, поди, у огня обсушишься!
– Смотрите, люди добрые, сразу и начальствовать взялся! – проворчала Устинья, тем не менее вытаскивая из воды рубаху и торопливо отжимая её. – Да отвернись же ты, бессовестный, сейчас прямо вот рубахой-то по глазищам наглым!.. Дай одеться! Вот что мы сейчас с тобой брату твоему да Таньке скажем, отвечай?! Они нас, поди, всю ночь дожидались, перепужались…
– Скажем, что муж и жена теперь, всего и делов… Не пособить тебе с рубахой-то?
– Да не доводи ж ты до греха, нечистая сила! – всерьёз обозлилась Устинья, выдёргивая из грязи жилистый камышиный стебель и замахиваясь им. Ефим благоразумно отошёл подальше. Присев на кочку и посмеиваясь, терпеливо стал ждать, когда «жена» облачится в расползающиеся под руками мокрые лохмотья.
Беспокоилась Устинья зря. Когда они вышли на полянку с потухшими головешками костра, из шалаша доносился ровный мирный храп и торчали чёрные Танькины пятки. Рядом, в подозрительной близости от них, лежали сапоги Антипа.
– Танька! Антип Прокопьич! – недоумевая, позвала Устинья.
Ефим за её спиной в открытую расхохотался.
– Ты глянь! Не одни мы с тобой умны оказались!
Из шалаша послышалось испуганное ворчание, и босые ноги исчезли в тёмном нутре. Вместо них появилась встрёпанная, рыжая, вся в прошлогодней хвое Танькина голова. Следом выглянула заспанная физиономия Антипа.
– А вас где носило?! – хором спросили они.
– Свадьбу играли, – не моргнув глазом, заявил Ефим. – Что, братка, и ты под венцом оказался?
– Выходит, так, – без малейшего смущения согласился Антип. – Мы с Татьяной Якимовной поговорили да решили: лучше через грех, чем вовсе никак. Ведь кто знает, что с нами завтра-то станется?
– Ну вот, подруж, мужние жёны мы теперь с тобой, – подтвердила широко улыбающаяся Танька. – Дождалися! Три года дожидались, я уж и высохла вся!
Впервые за последние дни её худое веснушчатое личико посветлело, и Устя, глядя на неё, тоже хмуро улыбнулась.
– С голодухи ты высохла, дура… – и вдруг улыбка сошла с её лица. Устинья смотрела округлившимися глазами куда-то через плечо Ефима. Парень, резко обернувшись, увидел сквозь поредевший, тонкий молодняк осин приближающиеся фигуры.
– Вот и всё, братка, – Антип тоже смотрел в осинки, и его некрасивое лицо казалось спокойным как никогда, а огромная рука сжимала запястье Таньки. – Бежите. С богом. На, бумаги держи.
И Ефим сразу понял, что только это и можно сделать сейчас, и время не ждёт.
– Устька, бежим! – гаркнул он, одной рукой хватая свёрток, а другой дёргая девушку за рукав. – Уходим!
– Вот они, крещёные! – донеслось из осинника, и взъерошенные фигуры двинулись напрямик к маленькому шалашу. – Здесь разбойники-то! Поспешай, сейчас всех разом и прихватим! Эй, а ну, стой! Сто-о-ой!
Какое там… Ефим летел по лесу, с треском, как лось, проламываясь сквозь падунки и сухостой, оскальзываясь на мокрой траве. Кто-то кинулся ему наперерез, Ефим уложил его на ходу страшным ударом кулака, понёсся было дальше… И вдруг замер, нагнанный отчаянным криком:
– Ефим!!!
«Устька!» Ефим кинулся на голос, проклиная замшелые брёвна, скользившие под ногами. Сквозь багряный осинник он увидел, что Устинья, оскаленная, как волчица, отбивается сразу от двух, и в какой-то миг парню показалось: отобьётся… Но те мужики навалились, скрутили ей руки, бросили в траву.
– Эка девка каторжная! Силищи-то…
Договорить он не успел: Ефим отшвырнул его в кусты лещины, ударил в зубы второго, огрел кулаком подоспевшего третьего… Устинья уже вскочила на ноги и, дико озираясь, встала рядом с парнем. А из осинника к ним уже бежали мужики, и наперерез, смыкая кольцо, спешили другие.
– Отобьёмся, Ефим… – одними губами, задыхаясь, выговорила она. – Отобьёмся…
Но тот, не слушая, бросил ей свёрток.
– Вот! Держи, Устька! И бежи! Бежи, придержу я этих! Бумаги береги, донеси в целости! Не забудь – Столешников переулок, дом Иверзневых! Ну!
Устя умоляюще взглянула на него… И поняла, что Ефим уже её не видит. Он стоял, расправив плечи, спокойно поджидая бегущих к нему преследователей. В волосах его запутался одинокий красный лист осины. Зелёные глаза парня были стылыми, пустыми, страшными. Устинья видела его таким во время деревенских кулачных боёв, на которых братьям Силиным не было равных. Смертный ужас сжал сердце, и Устя, стиснув на груди драгоценный свёрток, кинулась бежать. За спиной слышались вопли, дикая ругань, звуки ударов, треск веток, но она уже не знала, кто ругается, – Ефим или мужики. Ветер свистел в ушах, голые ветки хлестали по лицу, мокрая трава хватала за ноги, грозя уронить, стреножить… Не то птица, не то заяц с верещанием выметнулся из-под ног, метнулся прочь – Устя не разглядела его. Она неслась, задыхаясь, без устали, и ей всё слышались топот и крики за спиной.
Устинья очнулась в незнакомом сосняке, тяжело гудящем над головой. Под ногами был рыжий ковёр из палой хвои. Небо над сосновыми кронами сходилось серыми тучами, рядом топорщились лысые кусты крушины. Вокруг было тихо-тихо – ни воплей, ни треска сучьев. С минуту Устинья стояла не двигаясь, тяжело переводя дыхание. Затем торопливо ощупала свёрток бумаг за пазухой. Шатаясь, добрела до огромной, в три обхвата сосны, привалилась спиной к красному шершавому стволу. Закрыла глаза. И тихо завыла сквозь оскаленные зубы.
* * *
– Какое счастье… Боже, какое счастье, что вы приехали! Домна, спасибо, ступай спать, дальше я сама… Вели только принести ужин Михаилу Николаевичу – и иди!
– Благодарствую, барыня.
Усталая горничная вышла, и княгиня Вера осталась на веранде со своими братьями. Приём и бал по случаю именин юной княжны Тоневицкой был назначен на завтра. Княгиня сбилась с ног, стараясь поудобнее расселить гостей, следя за тем, чтобы экипажи были загнаны в каретный сарай, а лошади – распряжены и накормлены. На кухне целый день стоял дым коромыслом, приводились в порядок сад, беседки и площадки для крокета и городков. Вся дворня сбилась с ног, горничные и казачки носились с сумасшедшими глазами. Братья Тоневицкие с раннего утра благоразумно исчезли из дома, и занимать прибывших барышень пришлось завтрашней имениннице. Кузина Александрин с утра лежала с жестокой мигренью и помочь ей не могла. Немудрено, что к вечеру княгиня Вера уже не чуяла под собою ног и с ужасом думала о грядущем празднике, который ещё и начаться-то не успел – а сил уже ни на что нет… Когда на закате солнца у ворот раздались колокольчики, Вера молча схватилась за голову и зажмурилась, вспоминая, остались ли ещё незанятые комнаты во флигеле. Вспомнить не удалось. Наспех оправив платье и принимая радостный вид хозяйки, она вышла на крыльцо… И невольно вздрогнула, увидев двух бегущих к ней навстречу весьма солидных господ в офицерской форме, одного – с эполетами полковника, другого – ротмистра. Сначала Вера ахнула. Затем схватилась за перила. А после, пронзительно взвизгнув, как девчонка, спрыгнула с крыльца через три ступеньки разом и помчалась по песчаной дорожке навстречу.
– Петя! Саша! Боже мой, какое счастье! Ай-ай, Сашка, поставь меня немедленно на место! Люди… дворня… гости!!!
Какое там… Полковник Генерального штаба Александр Иверзнев подхватил сестру на руки и вовсю кружил её. Затем Вера попала в огромные лапищи среднего брата – Петра, страшную силу которого до сих пор с трепетом вспоминали его однокурсники по кадетскому корпусу. Сейчас Пётр Иверзнев служил в Варшаве и был уверен, что вовсе не сможет вырваться в гости к сестре: столица Польши сотрясалась от беспорядков, со дня на день ожидали бунта. Однако подвернулась оказия в Петербург, братья встретились там и вместе покатили в Смоленскую губернию.
С веранды за этим наблюдали слегка шокированные гости, которым сконфуженная Вера, едва её оставили в покое, поторопилась представить своих братьев.
Остаток вечера ушёл на церемонные беседы в гостиной, а в полной темноте снова раздались колокольчики у ворот, и в дом влетел сияющий и страшно голодный Михаил. После трёх лет разлуки семья Иверзневых наконец-то была в сборе.
Только к полуночи, когда сонные гости наконец расползлись по отведённым им комнатам, Вера осталась наедине с братьями. Принесли ужин – холодную ветчину с хлебом, и Михаил с жадностью набросился на еду. Вера тем временем разливала чай, одновременно сердито спрашивая у Александра:
– Почему Соня с детьми не приехала? Я ведь столько раз писала…
– Соня шлёт тебе тысячу поклонов и уверений в глубокой преданности! – усмехнулся в густые чёрные усы полковник. – Прибыть на означенное событие не смогла в силу непреодолимых обстоятельств!
– Да какие же это у нашей сестры могут быть обстоятельства? Служба? Присутствие?
– Хуже. Особое положение.
– Как – опять?! – обрадовалась Вера. – И когда же ожидать?..
– Предположительно к Рождеству. Надеюсь, прибудешь в гости?
Вера только отмахнулась и подошла к столу, где Пётр и Михаил вели приглушёнными голосами какой-то ожесточённый спор. Она прислушалась.
– …а по-моему, на месте государя давно уже пора дать Польше свободу и избавиться раз и навсегда от этой многолетней головной боли! – кипятился Михаил. – Право же, поляков можно понять! Кому понравится, когда кто-то чужой распоряжается в твоём доме под предлогом того, что он лучше знает, как всё устроить и наладить!
– Ты, Мишка, говоришь как обчитавшийся Герценом студентишка, коим и являешься! – добродушно вставил Александр. – Надеюсь, ты в университете этих глупостей не повторяешь? Польский вопрос сейчас настолько обострён, что…
– Я не повторю, так повторят другие! – возмущённо отозвался Михаил. – Полагаешь, так легко заткнуть все рты? Вот ей-богу, Саша… ну что ты улыбаешься?! Ничего смешного не вижу в том, что мы постоянно берём кого-то под своё покровительство и после получаем очередную бесконечную войну! До сих пор ещё не можем покончить с Шамилем, а сколько лет до этого пришлось мучиться?
– Но послушай, не могла же Россия оставить Грузию под пятой Турции? Да и собственные границы стоило поберечь…
– Вот-вот! Собственные границы! И именно из-за этих границ мы со времён Потёмкина гоняем горцев по ущельям! Хотя, казалось бы, что нам Гекуба, что мы Гекубе? Неужели мало собственных внутренних забот? Того и гляди, мужики поднимутся по всем губерниям, а мы…
– Ну, уж это ты брат, хватил.
– Поднимутся, поднимутся! Уже и так, что ни уезд, то бунт! В южных губерниях что творится – жуть! А Польша – это вовсе пороховой погреб, только уголёк бросить! И не угомонятся поляки никогда! Так понадобилась же нам эта язва желудка! Они же всю жизнь нас ненавидят, имеют на то кучу оснований, и, по-моему, лучше будет раз и навсегда отмежевать их и избавиться, чем…
– Ну да, ну да! И Кавказ тоже отмежевать! И Сибирь, и Астрахань, и Казань, пусть Иван Грозный в гробу перевернётся! Остаться в границах Кремля, как при Юрии Долгоруком, и поливать со стен татар кипящей смолой! А ещё лучше – воткнуть на Воробьёвых горах Перунов столб и ему кланяться! Вот Европа-то обрадуется!
1
Прочитать об этом можно в романе А. Тумановой «Убежим с тобой, желанная!».
2
Романс П. Булахова на стихи В. Жуковского.