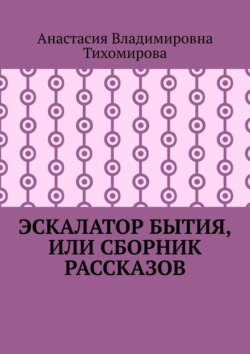Читать книгу Эскалатор бытия, или Сборник рассказов - Анастасия Владимировна Тихомирова - Страница 2
ОглавлениеБеззащитный.
Бац – взмахнулся гиревик и создал трапецию в воздухе своим поднятием гири. Он досадил смотрящим, но при этом ласточкой пронзил сердце каждого. Но вот изнурение пришло раньше пика выступления. И он наигранно набезобразничал – начал кидать это событие всем в лицо. После этого он обостренно обособился – никто не хотел его обнять. Ведь он был такой блестящий, с бицепсами, которые раздавят каждого, похожими на виноград… Он вызывал только желание попасть ему поскорее в нос… Ударить его по промежности…
Вера.
Роспись была бледно-желтой, покоренная пшенично-желтым, высовывающимся из окна, исходящим от солнца. При ней, прямо перед ней производились покаяния – каждый мог плюхнуться в свои обвинения на самого себя и отцедить безделушки, и омыться. А потом озлобиться на самого себя за то, сколько грехов было сотворено этим сознанием и озираться на плюшевые выходки в объятиях «беса», который есть только образ кирпично-красный. Обходительно относиться к целой системе покаяния – в итоге – страшной и призывающей мучительно. И думать, сколько пота и крови пролито для побега от искушения, чтобы все-таки отдаться ему. И начать бояться уже всего подряд…
Волос.
Ветчина с прослойками жира и мяса создавала волокно, но вопиющий волос упал на нее с головы служанки, он воплотился с помощью ветчины в «портящий», ветчина хотела высечь волос за его громогласное вмешательство. Волос – один волос – где угодно всегда ленивая приманка – он так отвратителен, когда один особенно, ну, или со своим дружком. Волос на столе во время еды – дьявол во плоти. На письменном столе посланник дьявола. Все зависит, куда его сместить, он везде меняет имя. Как многое значит контекст. Волос на полу тоже не приятен, но не так. Почему от обычного фона так меняется это слагаемое? Он не имеет никакого тождества с самим собой…
Воля.
Недреманный и почти подстреленный, он лежал на голом бетоне, и даже не подложил мягкую руку под голову – как недруг сам себе. Какое-то недоразумение. Он отхлестал самого себя. Ходил туда, куда противилось идти его сердце. Ел то, отчего тошнит – намеренно. Делал все, что приходило ему в голову, от чего мурашки по коже и шел прямо на встречу этому. Чтобы обогнать несчастье, которое всегда стучится не вовремя и обескураживает на повал, чтобы оно его не застало во всей красе, чтобы он его опередил своей волей…
Время.
Компьютерная мышь сломалась, и он вышел на улицу с массой одежды на себе, был холод и черные тучи покрывали город, но он озадаченный вышел из дома и принялся обдуваться ветром там, да сям. И снова вернулся домой, не дойдя до магазина, как и все прошлые разы без смелости в кармане. Ничто не могло пока его вздернуть. Он начал просматривать кучу фильмов и рыдал, и смеялся, и утихал, и все, что угодно и тогда пошел он в магазин, чтобы произвести фурор – образы вывешивались на его черепных впадинах, и никак нельзя было их вывинтить, они создавали ему калейдоскопический имидж, грозный по своим размерам. Один, второй, третий мог нагрянуть и оставить его бездыханным. Теперь он в паутине кинематографа, зачаровывающей даже неодушевленное! – да!
– Здравствуйте, я ищу компьютерную мышь!
– Подождите!
– Что значит «подождите!»?
– Постойте пока…
– Да Вы знаете, с кем говорите?
– С кем же?
– Я личность. Этого достаточно…
– Да Вы что? Я тоже личность.
И он очень усомнился в себе. Он решил, что он совсем никчемный. И длительность времени снова стала его сдавливать в упорствующей манере. Оно – время – совсем не разодетое, такое не практичное, но сварливо текущее само по себе. Иногда, кажущееся мужественным кулаком – время ложится прямо на сердце. Из-за времени он так зорок на происходящее. Когда измеряет его оголенным как при бесцельной прогулке оно становится невыносимо сдавливающим. И для нашего друга поход за мышкой – это безделье. О! Время! Срубающее все живое даже косвенно!
И только кино может завладеть плавающими конструкциями, призрачными и весомыми, и тогда испачканное время становится уже добрым диктатором в клоунском, иногда пусть серьезном обличии, но уже не так страшно! Наш друг, познав в этой длительности свою самость через чужие воплощения в кинематографе. Одел мягкую подушку безопасности. Но не только конкретные образы впились в его сущность. Еще более размягченные и рассыпчатые.
Он решил, что если наденет наушники, в которых будет играть серьезная музыка – классика, то она обязательно защитит его от скуки и соответственно от времени. Он разговаривал через наушники:
– Добрый день! – проорал он, чтобы услышать себя.
– Добрый день.
– Что?
– Добрый день. Снимите наушники.
– А? Ладно! Мне нужна компьютерная мышь!
Прошло около минуты.
– Держите!
– Спасибо Вам!
Грызущее.
Он успел нализаться леденцом на палочке – этот игрушечный антураж, как это всегда бывает, прикрывал его нутро вовсе не куртизиана, а поэта, который не гонится за слащавым опытом- стрептизершей. Что если содеянное бьется сердцем в жирной точке телесности абстрактной – так он напугал своего отца совсем не нарочно, зайдя в комнату громадно и с гамом в ушах отца, он хотел сообщить новость, но напугал его, но больше сотрясалась грудь нашего героя, а не отца после этого. Он долго думал, как исправить такие въедшиеся чувства – эти события наложились на события подобные из прошлого – в чью пользу работает мозг?
Естесство.
Она сидела под гулкой царапиной дерева, которая была плясала насквозь дерева – девочка чувствовала себя дирижером, когда прикрывала и открывала ладонью эту сквозную щель. Перебирала пальцы как на трубе по кнопкам. Это заметила проходящая женщина, идущая по парку, слушая в наушниках концерт номер три Рахманинова – тре5петал и блистал у нее в ушах. Незнакомка с нетерпением подошла к девочке, чтобы раскусить ее щебетание телесное. Она с нетерпением двинулась к девочке. Они вместе стали овладевать зовом ветра. Это было редкостно. Наблюдали слитность композиции, которая повторяется. Но все это время здесь находились те, кто желал зла этим деревьям – рабочие должны были срубить деревья. Эта работа длилась безостановочно, и маленькая девочка с женщиной не были для них преградой.
– Идите отсюда, пожалуйста.
– Что вы не видите особенности этого дерева? Его нельзя срубать.
– Нам положено срубить весь парк!
– Но все же только посмотрите!
И они учиняли настоящую симфонию.
– Нас это не волнует! Это дерево еще старше, чем другие!
И они срубили его.
Девочка пошла плакать и играть на пианино, а женщина оказалась музыкальным жюри и дирижером и предложила девочке сыграть в каком-то конкурсе.
Жестокость.
Конический креозот в бутылке, как вы понять могли, в форме конуса, с добавлением листвы, если его вылить – составляет листопад горючий – ему подвергся линолеум и говорил:
– Привет, братья мои, листья измотанные, но все еще юные, богатые опытом, который взвалился на ваши плечи.
– Приветствуем, все больше опытный линолеум, который из дерева сотворен, и испытал на шкуре своей – так много перетерпел.
И разбилось стекло в форме конуса и говорило:
– Я также многострадально! Могу быть вашим другом!
Но не приняли они его, так как оно пострадало еще больше от сотворения какой-то совсем не близкой природе формы…
– Мы не принимаем тебя, уйди…
– Но я так же было сделано из песка и извести.
– Мы не видим в тебе этого, значит в тебе этого нет…
И лежало стекло одиноко все свое время…
«Живописность Франца Шуберта»
Риф – продолговатость, свирепствующая одному агнцу, который шел по нему своей дорогой – он
хотел побывать везде. Но он ему не давал сделать это сполна. Агнец споткнулся. И не мог
превозмочь свои силы, он уже утратил свою веру – веру во всякую вседозволенность, которую
как-то наблюдал, которая была у него с рождения – она уже потухла – он не может даже внятно
изъясниться, думая, что шорох – это опасность. Это некоторая крайность, которая никак не
разлучает его с трясиной его нутра – все бьется трепетно, но никак это не освободить. И верность
своему сердцу осталась гнить в помойке мыслей, которые шатаются уже под ногами – сопливые и
неудачные, они даже не имеют дома, только танцуют в ходячем таборе под укрощением
рассудка, которые натирает их до блеска – до цирковых, они начинают биться как вон выходящие
от такой «заботы». И становятся одной большой мыслью, пожирая друг друга. Этот агнец уже
совсем обомлел от пустоты у него в голове, от одной только жирной ленивой точки.
Поговорим об утраченном чувстве вседозволенности, когда у агнца была чистая голая
воля и он хотел прямо ее выразить и не думал еще, что это может быть подчинение. Он только
хотел, чтобы желания соответствовали Бытию, а Бытие желаниям. И вот здесь он и стал
постепенно опускаться с небес, пока совсем не снизошел до океанских глубин. Желания его с
возрастом становились более очерченными и презентабельными, а главное более сильными. И
так получилось, что величина их была для идеологии небес очень сомнительной, не уважаемой —
слишком большой. В их обществе для него было все в миниатюре – то как они излагаются, как
себя ведут – они были для него слишком вялые. Так что ему приходилось себя сдерживать почти
что с одышкой. Никто его не понимает, даже его Отец – Всевышний – так думает агнец. Он изгой
повсюду. Никто не хочет с ним затевать беседы. Так что со стороны наш агнец – бедный, но
вообще- то это не так.
Он боится свободно брать предметы в присутствии своего Отца, мало ли
они затрещат и потревожат его покой, а наш агнец, когда один любит составить целую симфонию
из резких ударов по предметам, даже когда он просто их берет. Из-за гипер-аккуратности, которая
предполагает заранее избегать беду, он съежившийся – это привил ему закон. Но он никому не
уступал, поэтому Отец направил на него весь свой гнев и приказал опускаться до морского дна – и
жить мирским, где как Отец думал, ему место. Энтузиасты всегда считались на небесах
подозрительными. Хотя с отцом он всегда был наигранно почтительным из-за неопределенного
страха, если описать приблизительно – он боялся, избиения, ора, что его эго будет разорванно
воплем всемогущего – но это все потенциально – Отец никогда не поднимал на него руку. Агнец
был с ним ласков для того, чтобы вселить в Отца немного ласки, хотя бы кусочек и получить
вероятно обратно. И это иногда получалось – он улыбался в ответ, но
напыщенности при этом не было конца, только редкие просветы, лучики. Он слышал о
художниках, поэтах, писателях – все они, великие, – отличались экстравагантностью. Для него
было раз плюнуть – совершить безумный огненный поступок для сочности жизненного опыта, не
подумайте он не просто бился головой об стены – для него это была жизнь – нарушать значит
ставить под сомнение, проверять. Добавлять в бытие, кроме озорства и банального юмора,
добавлять частицу чего-то непосредственно-свежего, переворачивать наизнанку сознания,
доводить их до ручки, менять, создавать – одним только поведением. Но никто его не понимал.
Но постепенно до них доходило, что и как. Он начал писать – много писать – настоящую
злободневную насыщенную прозу. После того, как Отец его прогнал, агнец возненавидел его. Он
рассказал все брату своему и тот пошел с ним. Они были неразлучны. Они были посланы на
землю. И оба решили, так как первый агнец уговорил своего брата, оба решили вести стиль жизни
великих писателей, поэтов, и прочих блуждающих и ищущих душ, за которыми они наблюдали. Только у брата это не получилось со временем. И
спустились они на землю. И решили все испробовать. И пошли они в кабаре в людском обличии,
так что не вызывали никакого подозрения. И спросили они, что обычно заказывают здесь поэты,
писатели, художники и прочие недурственные личности. И получили они ответ, и заказали два
абсента. И сильно скорчились оба брата и подумали, что все это выдумка и что их обманули. И
разозлился агнец, и встал на стол и начал читать стихотворения тех, кем восхищались и произвели
фурор. Ему аплодировали сидящие напротив личности, тогда агнец познал красоту молодого
тщеславия, испытанного впервые. Он стал еще громче выкрикивать слитно собранные отрывки из
Шекспира и тогда понял, что нет конца тщеславию, что оно может приесться, если только
повторять это тысячу раз, приесться только из-за однобокости. Он понял, что ничем оно больше не
плохо. И если представить, что кто-то еще жаждет славы и признания, ему просто надо или встать в
очередь, или бороться. И после выпитых стаканчиков они почувствовали прилив сил и тогда
заказали еще. Они заказали второй, третий, четвертый раз – и почувствовали страсть к этому, и не
нашли меры – и узнали пакостность этого занятия. Но хотели еще – это ведь их дебют. И
продолжили кутить напропалую – танцевать с официантами и официантками. Они хотели познать
гетеросексуальность и гомосексуальность, о которых слышали ранее. Только слышали, как чистые
абстракции они не сливались в соитии для получения нового рода, они зарождались сами из
антивещества. И потому они испытывали все по-новому, причем влечение у агнца было к
обоим полам. И тогда он понял суть сексуальности и как она велика и как ее можно направлять
и использовать для созидания – не выпускать и держать в себе на привези. И он начал
безудержно писать и писать. Это было очень заметно для их соблазнителей. Перед этим он
попросил у бармена листы и ручки, и писал.
Отец за всем этим наблюдал и был очень, предсказуемо, зол. Он хотел их вернуть, но одумался и
решил, что их большее наказание на земле. Они пришли непредвзято. Лишениями овитые. Но
забыть их легко. Так что сейчас они бродят по земле, не то, чтобы скитаются, наоборот.
И встретил агнец солнцестояние в жаркую сиесту и полюбил женщину, которая так ускоренно
перебирала руками клубнику, о, ее ломкое от худобы тело, которое надо хранить как реликвию. И
персидские ковры, застилающие от солнца ее глаза – в тени неоправданной – не померкшие
глаза, огрызающиеся, и он влюбился в нее, но это для меня понятно, что он влюбился, но для него
это распыление чувств, которые затем стрелой вонзились в самое сердце. Она была едкая и
проворная во всех делах, за ней было не поспеть, так что он долго приглядывался и наблюдал,
чтобы потом подкрасться и бац! Но он не сделал этого, а просто созерцал ее красоту. Вдруг она
уронила большой тяжелый ящик с фруктами, и он затрепетал в конвульсиях о ее здоровье,
которое было распределенным по всему нежному телу – витамины сделали ее непревзойденной.
И переливающиеся раскачивающиеся деревья в разные стороны – составляли суматоху на фоне ее
целостности и продуманной ловкости – продавец фруктов – не была продавцом по существу – она
уже выкарабкалась из этого. При наблюдении за ней агнцем, она резко ушла вдаль, забрав с
собой клубнику. Она тащилась и ела клубнику всю дорогу, пока агнец не поставил ей подножку.
– Стойте, не суетитесь! – говорит он ласково и нежно.
– Что Вы сделали, вы толкнули меня! – она спонтанно крикнула.
– Простите, что Вас потревожил…
– Да, Вы, кем бы не являлись, меня потревожили!
Сколько девственной злобы, она еще не тронута миром – она защищается изо всех сил, хотя это
бессознательно. Я убежден, что никакой рациональности не живет еще в ней. «Как ваше имя?» —
хотел спросить агнец, даже при том что знал его, так как наблюдал за ней долгое время и
выкрики ее босса, когда тот завывал-звал ее. Так вот и обозначение агнцу – ее имя – было совсем
не нужно. Но есть одно «но». Люди только так затеивают разговоры с незнакомцами.
Но ее красота была священна и непредсказуемо-лихая, она то пряталась в тени, то выходила под
лучами белого солнца. Он так засмотрелся на нее во время этого разговора – молчания тет-а-тет,
что рухнул без сознания и очнулся с ее ликом у себя в глазах – таким родным и радостным, что ее
тревогу он даже не заметил. Ее красота была невинна и подтверждающая все слова, когда-либо
написанные о любви поэтами. Его сердце так билось, что он подумал – это легкая смерть, что он
пережил все, что можно пережить в насыщенности ее бровей, ресниц и волос. И тогда он поняли
красоту и стал сочинять, и сочинил композицию, посвященную ей – «Ave Maria». О, Мария. И дал
себе имя Франц Шуберт на этой земле. И даже ни капельки не образованная, Мария, поняла
сочиненный труд Франца и отдалась ему – и эта платоническая любовь заставила озеро
превратиться в ручей и все озера окружающие их наполнились грацией и потекли, гонимые
ветром. Они не хотели гасить чувства, направляя их в бесполезную страсть. Оба не хотели. Мария
была рождена, как узнал у нее Франц, в обеспеченной семье, но после войны все ее братья и
родители погибли – ей было пять лет – ее забрали в приют и ничему не научили – только разве что
корысти и умению продавать – ах! – все это превращает сердце в камень! Но она выпуталась из
этого изощренного гнилью и вонью места, избавилась от абсурдного проживания жизни.
Еще Франц написал музыкальный момент три в F minor – он удивил ее сполна. И они решили
зарабатывать этим на жизнь.
Он начал писать симфонии и дописал до восьмой и не закончил ее, он понял, что тело мужчины
говорит ему, что пора уходить от каждодневной красоты, что есть еще виды, на которые он
должен без предвзятости посмотреть сам, кроме того он совсем забыл о брате.
И он покинул Марию и оставил ее в слезах, уродующих ее лицо и постепенно разъедающих. Она
бежала за ним безустанно, и ему пришлось грубо с ней поступить, чтобы избавить ее от вечной
тоски напрочь и оставить только секундную озадаченность и некоторую ненапыщенную
проходящую злость. Он не знал еще, что это было его самый тяжким испытанием, что горечь
проглотит его и он так и не допишет восьмую симфонию, она останется незаконченной…
Он решил, пройдя разные долины и города, поступить в университет на композитора. Кроме того,
показывать свои музыкальные работы известным композиторам Австрии, и он даже не мог
подумать, что прославится. Но скоро его работы не остались недооцененными, и он прослыл
гением. Франц много учился. Он, из-за невосполнимой утраты, которую осознанно утратил, стал
пить, много пить – не спал всю ночь и пил-пил. Он пил в местном кафе и вернулся домой к утру —
встал, оделся и направился в университет. Ему хотелось отдохнуть и сделать это со вкусом – он лег
на лестницу, на проходную лестницу. Все шагали мимо него, переступали, пока одна отважная
женщина не напугала его своим воплем и не прогнала его. Он вымолвил, что можно ли ему здесь
остаться – ему удобно – она была в недоумении. Экстравагантность он распылял повсюду. Потом
он забежал со скрипкой в класс философов и начал стремительно играть свою композицию.
Он долгое время проводил со своим учителем и что-то крылатое начал к нему испытывать. Это
было что-то невнятное и тонкое, эластичное, как бы он этого не раскручивал и не растягивал, все
время в одной поре – и сердце его снова забилось, так что вот-вот выпрыгнет. Он подумал это
привязанность, но некуда было бежать, это было намагниченная любовь. Он испытывал ее без
всякого стыда и быстро искренне об этом рассказал своему учителю, с которым все делился. Тот
попятился и начал объяснять, что это ошибка, наш Франц – юнец, который путает свои чувства.
– Возможно, ты мне просто благодарен…
– Да, я Вам благодарен, но кроме этого, я вижу в Вас необъяснимую красоту…
– Что Вы такое говорите?
– Я люблю Вас…
Франц впервые захотел кого-то поцеловать – он набросился на мистера Грина со вспышкой в
глазах – он крепко взялся за его плечи и начал целовать его в каждый уголок губ. Мистер Грин
опрокинулся назад, он опирался за стол и в итоге лег на него.
– Простите, у вас такой напуганный вид…
– Я не гомосексуалист! Больше, юноша, не смейте затеивать что-то подобное!
– Простите, я виноват.
Францу никак не было под силу расточить эту объемную проблему – сделать так, чтобы любовь,
которая стала уже однозначной, была бы взаимной. Нужно сделать так, чтобы профессор Грин
стал восхищаться Францем и потом, возможно, какая-то дверца приоткроется у профессора Грина.
Он начал усердно учиться и дописал восьмую симфонию, так что Франц был не только лучшим в
университете, но и во всем городе, во всей Австрии – но и тут принципиальный профессор
отстаивал некоторое несовершенство Франца и требовал большего, а также с какой-то
презрительностью и предвзятостью относился к его творчеству. Франц лез из кожи вон и не мог
больше трепаться с профессором – терпеть его холодность. Он с голодной грудью был истощен
сполна и оплаканный небесами, стонал о великой неразделенной боли. И тут появился его брат,
которой попросту, испробовав все – не делал выводы и не трещал обо этом сам с собой, в отличии
от Франца.
– Дорогой брат, я так болен сейчас сердцем…
– Ты не можешь, тебе все дано на время.
– Но я не могу, не могу абстрагироваться…
– Ты должен.
– Нет.
– Ты добился больших успехов на земле, тебе следует отдохнуть в этом теле.
– А что будет, если я не стану?
– Ты умрешь от изнеможения. И куда ты попадешь?
– Тебе легко говорить!
– Ты прав.
Наш Франц был очень раздосадован, но одновременно ему не претила эта отверженность, так он
себя чувствовал лишенным всего рыцарем, более мужественным. Он думал, что жизнь его
потрепала, что он обтерся об нее. А кроме того недосягаемость профессора Грина его очень
прельщала, это было так сладко – он словно маленькая девочка вырывался из рук Геракла.
– Брат, помоги мне стать на правильный путь, снова…
– Начни думать, что все это мимолетно.
– Но как же страсти и насыщенность жизненного опыта и искренний поиск?
– Брось все это.
– Я не могу, я хочу испробовать все на этой земле…
– Не получится, ты раньше умрешь.
Кроме всего, он понял так же, что рассудок его очень центростремителен и эгоистичен, что он
вспомнил о брате только тогда, когда у него появились неразрешенные проблемы. Что он любит
своего брата, только из-за того, что он рядом с ним постоянно и что он его никогда не бросит. И
стало стыдно ему. И перестал он стыдиться и забыл. И было ему все еще грустно из-за утраты им
профессора Грина, которого он так откровенно всем сердцем любил. И в этот раз он уже не хотел
платонической любви, но настоящих интимных отношений причем среди людей – на площади —
любовный акт, что осветит улицы без фонарей. Но привык он к недосягаемости и стал попросту
восхищаться и превозносить как кубок чемпиона с питьем после долгого изнурительного забега.
Но и это прошло, он бросил навзничь все дела и последовал совету брата своего – начал читать
взахлеб все великие рукописи, которые ему только попадались.
И потерял он дар речи и стал писать по-своему, и стал он писателем. И коряво, и не слитно писал,
и писал.
– Брат, разве это жизнь, если проводить ее только за писательством?
– Если ты не можешь иначе, и познал красоту этого, которая никогда от тебя не уйдет, если ты не
уйдешь от нее сам, то да это жизнь… Как для меня, например.
– О! Брат! Для меня жизнь – это сочетание разных прожорливых кусочков Бытия, которыми я
владею, которых я созерцаю, которых я созидаю…
И тогда он понял, что пора ему двигаться дальше – ниже, что здесь он все испытал и что не хватит
ему больше героизма идти дальше по земле. И спустился он в безмолвный океан. Там кишит
жизнь, безмолвная жизнь, которую можно охватить одной рукой. И видел он, что она не касается
его и не усердствует, и не нападает, но ему как-то дико. И понял он тогда, чтобы он не менял
ничего не изменится в его сердце, пока… И он так и не узнал ответ на этот вопрос…
И вернулся он на небеса к Матери своей, которую любил и ценил больше жизни своей.
– Ты должен вернуться на землю и найти то, что ты искал, но так и не нашел – гармонию с самим
собой, признание, и когда ты будешь везде принят и твой талант будет на расхват – ты все это
можешь.
– Да, мама, ты права, я верю твоей разборчивости. Я вернусь обратно на землю. Но я так не хочу
возвращаться туда, и не хочу утратить твоего присутствия.
– Нет, больше всего ты боишься быть отвергнутым. Взгляни на своего брата, он остался на земле,
обзавелся семьей и стал хорошим трудящимся.
Скатился он громом с небес и сразу, как только шаг его остался на земле, Франц двинулся он в
публичный дом и познал тело мужчины, когда занялся любовью с мужчиной легкого поведения и
был он испещрен могуществом и сливочный рывок в конце объял его необъятное желание и
угасло на время влечение.
Но возжелал он еще познать женщину и сократилась она достоинством перед ним и пала на
колени и совершила оральный ритуал. И это, шептала ему мама с небес, не совсем то, что он
ищет. И не послушался он ее.
– Родители земли не ругайте то, что понять не смогли, ваши дети уже давно не ваши рабы! —
кричал он гулко на улицах.
– Чего ты повздорил сам с собой? – спросил его брат.
– Нет, ты только подумай, люди делят себя на сочетание между мужчиной и женщиной, но права
женщины быть с женщиной или мужчины с мужчиной ни у кого нет.
И хватило ему сполна этих опытов и занялся он музыкой и писал то, что видел в свечении луны, в
своих чувствах, в дороге. И писал он фортепианные концерты.
И узнала полиция о том, что Франц якобы гомосексуалист, причем открытый. И отправили его
лечиться в психиатрическую клинику и думал он, в чем отличие свободы человека от его
несвободы – в каких точках можно найти их различие. И познал он, что для человека свобода
отличается от несвободы в том, что на свободе он ест то, что хочет и когда хочет, тоже касается
занятия любовью, хождения в туалет. Но ведь в психушке можно читать, можно сочинять сколько
угодно, потому агнец не мог понять в чем ее ужас, но познал уродство человеческой свободы. Если это, конечно, не психушка с криками и
воплями, куда он попал позже – это совсем другое дело. Только сны о Марии его спасали и не
отпускали – верная и сердитая любовь, которая изредка ликует глазами бешенного носорога. Ему
снилось, как она растрепанная рассеянно его зовет и эхо наслаивается на ее нежный голосочек.
Но он не хотел быть с ней, а только желал внимать ее как бело-желтую звезду на небосводе —
такую отдаленную…
Когда его выписали из психиатрической больницы, он пошел рыскать в поисках свежей сладости.
Кроме того, что он писал романы, сочинял музыкальные этюды, он много пил и знакомился с
разными духовными тунеядцами.
Франц осознал тяжесть раздирающей жестокости человека, который готов делать все ради денег,
а потом тратить на все материальное – в большинстве случаев. Но есть филантропы – редко. Но он
все-таки дико опылился человеческим родом – ненасытностью и неугомонностью.
Но не только это удивляло, поражала целая организация повседневности – их один день походит
на другой, и не нашел он ничего лучше для борьбы с однобокостью – течением смывающим —
временем, представляющимся в одной стилистике, ничего не нашел кроме творчества, которое
хватает за шею это время и меняет его.
– Дорогой брат, как живешь ты, что ты нашел?
– Я обрел семью и детей, и стал финансистом, большего мне не надо.
– Ну, для меня это радостно и горько одновременно!
– Почему горько, брат?
– Потому что ты не достиг пика своего в этом теле и не стал великим!
– Я горжусь тобой, не всем это дано…
– Нет, всем.
– Я захотел размеренной жизни и меня все устраивает.