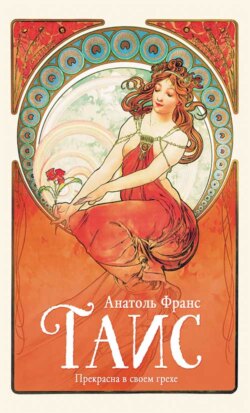Читать книгу Таис - Анатоль Франс, Анатоль Франс - Страница 2
I. Лотос
ОглавлениеКогда-то давным-давно в пустыне жили отшельники. По берегам Нила были разбросаны сооруженные ими из веток и глины бесчисленные хижины, находившиеся, однако, одна от другой на таком расстоянии, чтобы их обитатели в случае необходимости могли помочь друг другу. Кое-где над хижинами высились церкви, увенчанные крестами, и монахи ходили туда по праздничным дням, чтобы принять участие в богослужениях и причаститься. На самом берегу реки стояли также обители, в которых затворники, заточившиеся каждый в отдельной келье, селились лишь для того, чтобы еще более ощутить одиночество.
Отшельники и монахи соблюдали воздержание и принимали пищу только после захода солнца, вкушая лишь хлеб с толикой соли и иссопа[1]. Некоторые, уходя далеко в пустыню, находили себе пристанище в какой-нибудь пещере или гробнице и вели еще более уединенную жизнь.
Все блюли целомудрие, носили власяницу и куколь, спали на голой земле после долгих бдений, молились, пели псалмы – то есть каждый день совершали чудеса покаяния. Памятуя о первородном грехе, они отказывали своему телу не только в радостях и удовольствиях, но даже в той заботе, которая считается необходимой в соответствии с мирскими представлениями. Они считали, что наши болезни очищают наши души и что лучшим украшением плоти являются язвы и раны. Так исполнялось слово пророков, сказавших: «Пустыня покроется цветами».
Некоторые жители этой святой Фиваиды[2] проводили свои дни в созерцании и аскетизме, другие зарабатывали на пропитание плетением пальмовых волокон или нанимались на время жатвы работниками к местным земледельцам. Язычники подозревали, что некоторые монахи живут разбоем, присоединяясь к кочевникам-арабам, грабящим караваны. Однако отшельники презирали богатство, и фимиам их благочестия возносился к небесам.
Ангелы в обличье молодых людей с посохами в руках навещали жилища отшельников как путешественники, а демоны под видом эфиопов или диких зверей бродили поблизости, пытаясь ввести их в искушение. Придя утром к источнику, чтобы наполнить кувшины водой, монахи видели на песке следы сатиров и кентавров. С духовной точки зрения Фиваида являла собою поле битвы, где непрерывно, но особенно ночью, происходили священные сражения между Небесами и преисподней.
Аскеты, осаждаемые полчищами нечистых, защищались от них благодаря вере в Бога и ангелов его, приняв обет покаяния и умерщвления плоти. Иногда жало плотских желаний терзало их так жестоко, что они вопили от боли, и их стенаниям вторил под звездным небом хохот голодных гиен. И тогда демоны представали перед ними в соблазнительных обличьях. Ведь бесы могут иногда прикрыть свое уродство внешней красотой, которая не даст увидеть их подлинную сущность. Аскеты Фиваиды жили в своих кельях в страхе, созерцая дивные образы, которых не могли себе даже вообразить величайшие мирские распутники. Но на отшельниках был знак креста, и это помогало им не поддаваться искушению – потому злые духи бежали на заре, приняв свое истинное обличье, исполненные стыда и ярости. Нередко можно было встретить утром одного из них, шедшего прочь в слезах и отвечавшего на вопросы так: «Я стенаю и плачу, потому что один из живущих здесь христиан отхлестал меня розгами и изгнал с позором».
Старейшины пустыни распространяли свою власть на грешников и неверных. Их доброта подчас бывала ужасна. Они унаследовали от апостолов право карать за преступления против истинного Бога, и ничто не могло спасти тех, кого они осудили. Жители других городов и даже Александрии с ужасом говорили о том, что земля разверзалась, поглощая грешников, которых они ударяли своим посохом. Поэтому их очень боялись люди, ведущие жизнь неправедную, особенно актеры-мимы, шуты, женатые священники и блудницы.
Праведность этих монахов была такова, что им подчинялись даже свирепые звери. Когда один отшельник готов был уже отойти в мир иной, лев лапами вырыл ему могилу. Святой отец, догадавшись по этому знаку, что Бог призывает его к себе, пошел облобызать своих собратьев на прощание. Затем он с радостью лег в могилу, чтобы почить в Бозе.
И вот, когда Антоний, которому было уже более ста лет, удалился на гору Кольцинскую со своими любимыми учениками Макарием и Амафасом, не было во всей Фиваиде монаха более усердного, чем Пафнутий, антинопольский настоятель. По правде говоря, Ефрем и Серапион руководили множеством монахов и прославились земным и духовным руководством своих монастырей, но Пафнутий более строго держал пост и иногда голодал по три дня подряд. Он носил власяницу более жесткую, бичевал себя утром и вечером и часто падал ниц и долго лежал на земле.
Его двадцать четыре ученика, построившие хижины рядом с пристанищем отшельника, подражали его аскетизму. Он горячо любил их во Христе и постоянно призывал к покаянию. Среди его духовных чад были мужчины, которые много лет занимались разбоем, но увещания праведного настоятеля растрогали их настолько, что они приняли монашеский постриг. Чистота их жизни стала примером для их собратьев. Был среди них и постоянно ливший слезы бывший повар королевы Абиссинии, которого тоже обратил в истинную веру антинопольский настоятель, и диакон Флавиан, который отлично знал Писание и был наделен даром красноречия. Но самым замечательным из учеников Пафнутия был молодой крестьянин по имени Павел, которого прозвали Юродивым за крайнюю наивность. Люди смеялись над его простодушием, но Бог к нему благоволил и наделил его даром пророчества, посылая ему видения.
Пафнутий заслужил благодать, посвящая все время обучению учеников и практике аскетизма. Он также часто размышлял над священными книгами, стараясь найти в них аллегории. Вот почему, будучи еще довольно молод, он имел множество заслуг. Бесы, осаждавшие добрых отшельников, не осмеливались приблизиться к нему. Ночью, при свете луны, семь маленьких шакалов сидели возле его хижины неподвижно и тихо, навострив уши. Считают, что это были семь демонов, которым он преградил путь силою своей святости.
Пафнутий родился в Александрии и был сыном благородных родителей, которые обучили его светским наукам. Его вводили в соблазн вымыслы поэтов, и в ранней юности он так заблуждался, а мысли его шли по столь неверному пути, что он верил, будто род людской утонул в водах потопа во времена Девкалиона[3], и дискутировал со своими соучениками о природе, символах и даже о самом существовании Бога. Он вел тогда беспутную жизнь, подобно всем язычникам. Об этом времени он вспоминал со стыдом и смирением.
– В те дни, – говорил он собратьям, – я предавался ложным удовольствиям.
Он хотел этим сказать, что ел искусно приготовленные мясные блюда и посещал общественные бани. И так в миру жил он до двадцати лет жизнью, которую следовало бы скорее назвать смертью. Но, вняв наставлениям отца Макрина, стал другим человеком.
Пафнутий имел обыкновение повторять, что правда пронзила его, будто кинжал. Он уверовал в крестный путь и возлюбил распятого Христа. После крещения он еще год оставался среди мирян, где его удерживала сила привычки. Но однажды, войдя в церковь, он услышал, как дьякон читает стих из Святого Писания: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим». Он сразу же продал все свое имущество, раздал нищим вырученные деньги и принял монашеский постриг.
И те десять лет, которые провел вдали от людей, он больше не предавался плотским утехам, но залечивал тело и душу целительным бальзамом покаяния.
Итак, однажды, когда по своей благочестивой привычке он вспоминал часы, прожитые вдали от Бога, и анализировал все свои ошибки, чтобы постичь все их безобразие, он вспомнил, как в театре Александрии увидел красавицу-актрису по имени Таис. Эта женщина выступала на сцене, не гнушаясь участвовать в танцах, движения которых, отработанные с невероятной точностью, отражали самые похотливые страсти. Она также изображала некоторые из тех постыдных действий, которые языческие мифы приписывают Венере, Леде или Пасифае[4]. Так она разжигала в зрителях огонь похоти; а когда красивые юноши или богатые старики, воспылав к ней любовью, вешали гирлянды цветов над дверью ее дома, она их принимала и отдавалась им. Погубив свою душу, она погубила и множество других.
Таис чуть было не ввела в плотский грех и самого Пафнутия. Она зажгла в его крови желание, и однажды он приблизился к дому Таис. Но на пороге дома блудницы его остановила естественная робость ранней юности (ему тогда было пятнадцать лет) и боязнь быть отвергнутым из-за отсутствия денег, ибо его родители следили за его расходами. Бог в своем милосердии поставил эти две преграды, чтобы спасти юношу от падения. Но Пафнутий сначала вовсе не был ему благодарен, так как в то время плохо понимал собственное благо и жаждал ложных утех. Итак, стоя на коленях в своей келье перед деревянным крестом, на котором был распят Спаситель мира, Пафнутий думал о Таис, ибо она была его грехом, и он долго размышлял с точки зрения аскетизма о страшном уродстве плотских утех, вкус к которым разбудила в нем эта женщина, о днях смущения и невежества. После нескольких часов таких размышлений образ Таис предстал перед ним чрезвычайно ясно. Она явилась ему искусительницей, прекрасной во плоти своей. Сначала она предстала перед ним в образе Леды, раскинувшейся на богатом ложе, запрокинув голову. Глаза ее были влажны и метали молнии, ноздри трепетали, рот был приоткрыт, молодая грудь прекрасна, а руки напоминали два ручейка. Представляя себе ее, Пафнутий бил себя в грудь и повторял:
– Господь мне свидетель, я осознаю всю гнусность моего греха!
Однако образ незаметно менялся. Опущенные кончики губ Таис свидетельствовали о ее тайном страдании. В расширившихся глазах ее сверкали слезы, из груди вырывались стоны, а дыхание было прерывистым. При виде ее преображения Пафнутий был смущен до глубины души. Простершись на земле, он начал читать молитву:
– Ты, вселивший в наши сердца жалость, подобную утренней росе на лугу, справедливый и милосердный Боже, будь благословен! Слава, слава тебе! Избави раба Твоего от этой ложной нежности, которая ведет к похоти, и позволь мне любить все создания только в Тебе, ибо они преходящи, а Ты вечен. Если меня и интересует эта женщина, то лишь потому, что она Твое творение. Сами ангелы заботливо склоняются над нею. Разве она не есть, Господи, Твое дыхание? Нельзя позволить, чтобы она продолжала грешить со столькими своими согражданами и иноземцами. Великую жалость испытываю я к ней. Преступления ее отвратительны, при одной мысли о них я содрогаюсь и чувствую, как волосы мои становятся дыбом. Но чем более она виновна, тем сильнее я должен ее жалеть. Я плачу, думая о том, что бесы будут терзать ее вечно.
Размышляя подобным образом, он увидел, что маленький шакал сел у его ног. Он был чрезвычайно удивлен, так как дверь в его келью была заперта с утра. Животное как будто прочитало мысли монаха и завиляло хвостом, как собака. Пафнутий перекрестился: зверь исчез. Поняв тогда, что впервые дьявол проскользнул в его комнату, он прочитал краткую молитву, а потом снова подумал о Таис.
– С Божией помощью, – сказал он себе, – я должен ее спасти!
И уснул.
На следующий день, помолившись, он отправился к святому человеку, Палемону, который в некотором отдалении от его хижины вел жизнь отшельника. Пафнутий застал его в саду, где тот по своему обыкновению со спокойной улыбкой копал землю. Палемон был стар, дикие звери лизали ему руки, а бесы уже не мучили его.
– Хвала Господу, брат Пафнутий! – сказал он, опершись на лопату.
– Хвала Господу! – ответил Пафнутий. – Да пребудет с тобой мир, брат мой!
– И с тобой да пребудет мир, брат мой Пафнутий! – ответил старец Палемон, утирая рукавом пот со лба.
– Брат Палемон, все наши речи должны славить Того, кто обещал прийти к людям, которые собираются во имя его. Вот почему я хочу поговорить с тобой о том, что задумал совершить во славу Господню.
– Да благословит Господь твой замысел, Пафнутий, так же, как он благословил мой салат! Каждое утро он благословляет меня росой в моем саду, а я славлю его огурцами и тыквами, которые он мне посылает. Помолимся же, чтобы он и впредь даровал нам покой, ибо нет ничего страшнее смятения, терзающего наши сердца. Когда наше сердце мечется, мы становимся похожи на пьяниц и шатаемся то вправо, то влево, готовые постыдно упасть. Иногда эти метания вызывают у нас бурную радость, и тот, кто ей предается, оскверняет воздух безбожным хохотом. Эта постыдная радость ввергает грешника во всякого рода прелюбодеяния. Но иногда также это смятение души и чувств ввергает нас в кощунственную грусть, в тысячу раз более пагубную, чем радость. Брат Пафнутий, я всего лишь несчастный грешник, но за долгую жизнь понял, что у отшельника нет большего врага, чем грусть. Я говорю о том глубоком унынии, которое окутывает душу, как туман, и скрывает от нее свет Господень. Нет ничего более опасного для спасения души, и дьявол одерживает самую большую победу, когда вселяет это испепеляющее черное чувство в душу монаха. Если бы посылал нам лишь радостные искушения, он и наполовину не был бы так опасен. Увы! Ему прекрасно удается нас печалить. Разве не посылал он нашему отцу Антонию видение черного ребенка такой красоты, что вид его вызывал слезы? С Божией помощью наш отец Антоний избежал искушения дьявола. Я познакомился с ним, когда он еще жил среди нас; он радовался вместе со своими учениками и никогда не впадал в уныние. Но ведь ты, брат мой, пришел рассказать мне о своем замысле? Я буду рад, если ты поведаешь мне о нем, если только это замысел во славу Господню.
– Брат Палемон, я истинно хочу славить Господа. Укрепи же меня своим советом, ибо ты многоопытен и грех никогда не затмевал света твоей мудрости.
– Брат Пафнутий, я недостоин того, чтобы развязать ремешки твоих сандалий, и прегрешения мои так же бесчисленны, как песчинки в пустыне. Но я стар и опытен и не откажу тебе в помощи советом.
– Признаюсь тебе, брат Палемон, что я стражду, думая о том, что живущая в Александрии гетера по имени Таис пребывает во грехе и вводит людей в соблазн.
– Брат Пафнутий, это действительно мерзость, о которой подобает скорбеть. Среди язычников многие женщины живут подобным образом. Ты нашел лекарство от этого великого зла?
– Брат Палемон, я хочу пойти в Александрию, найти эту женщину и с Божией помощью обратить ее в веру истинную. Таков мой замысел. Одобришь ли ты его, брат мой?
– Брат Пафнутий, я лишь несчастный грешник, но наш отец Антоний имел обыкновение говорить: «Где бы ты ни находился, не спеши покинуть это место».
– Брат Палемон, узрел ли ты что-то нехорошее в моем замысле?
– Милый Пафнутий, упаси меня Господи сомневаться в намерениях брата моего! Но отец наш Антоний также говорил: «Если рыбу вытащить из воды, она умрет, подобно тому как монах, который покинет свою келью и пойдет к мирянам, отклонится от пути праведного».
Сказав это, старец Палемон вонзил в землю острие лопаты и начал усердно окапывать землю вокруг молодой яблони. Пока он копал, газель, вмиг, не примяв листвы, перепрыгнувшая через окружавшую сад изгородь, остановилась, удивленная и испуганная, трепеща, а затем в два прыжка приблизилась к старцу и положила изящную голову на грудь своего друга.
– Да благословен будет Господь в пустынной газели! – сказал Палемон.
Он взял в своей хижине ломоть черного хлеба, и изящная газель принялась есть из его рук. Пафнутий стоял некоторое время, задумавшись, глядя на дорожные камни. Затем он медленно пошел в свою келью, размышляя об услышанном. Он крепко задумался.
«Этот отшельник, – думал он, – хороший человек, он весьма осторожен. И он сомневается в мудрости моего замысла. Однако мне тяжко было бы и далее оставлять Таис во власти одолевшего ее демона. Пусть Господь просветит и наставит меня!»
Продолжая свой путь, он увидел ржанку, попавшую в сеть, которую какой-то охотник расставил на песке, и понял, что это самка, так как самец подлетел к ней и стал клювом разрывать ее ячейки, пока там не образовалось отверстие, через которое его подруге удалось выбраться. Божий человек, наблюдая за этим зрелищем, понял мистический смысл вещей: он догадался, что пойманной птичкой была Таис, попавшая в мерзостные сети, и что, подобно самцу ржанки, разрывавшему своим клювом конопляную сеть, ему надлежало разорвать своими пламенными речами невидимые нити, которые удерживали Таис во грехе. Пафнутий воздал хвалу Господу и укрепился в своем первоначальном решении. Но затем он увидел, как лапки самца запутались в сети, которую он только что разорвал, и его вновь одолели сомнения.
Он не спал всю ночь, и на заре ему было видение. Вновь ему явилась Таис. На лице ее не лежала печать греховной похоти, и на ней не было ее привычных прозрачных одежд. Она была закутана в саван, который скрывал даже часть лица ее, так что настоятель видел только глаза, из которых лились сверкающие слезы.
Тогда он и сам заплакал, думая, что это видение было послано ему Господом, и утвердился в первоначальном решении. Он встал, взял узловатый посох – символ христианской веры, вышел из своей кельи, тщательно закрыв за собой дверь, чтобы живущие в пустыне животные и птицы небесные не могли испачкать книг Святого Писания, лежавших у изголовья его кровати, позвал дьякона Флавиана и поручил ему руководство своими двадцатью тремя учениками. Затем, одетый лишь в длинную власяницу, направился к Нилу, решив пешком пройти вдоль ливийского берега до города, основанного Александром Македонским. От самой зари брел он по песку, пренебрегая усталостью, голодом и жаждой; солнце уже склонялось к горизонту, когда увидел он великую реку, несущую свои кровавые воды меж золотых скал и огня. Он пошел вдоль реки, испрашивая во имя Господа хлеба у дверей редких хижин, и радостно принимал оскорбления, отказы и угрозы. Пафнутий не боялся ни разбойников, ни диких зверей, но старательно обходил города и деревни, лежавшие у него на пути. Он боялся наткнуться на детей, играющих в бабки возле дома, или увидеть возле колодца улыбающихся женщин с кувшинами и в голубых рубахах. Все может погубить отшельника: иной раз даже опасно прочитать в Святом Писании, что божественный учитель ходил из города в город и ужинал со своими учениками. Узоры, которые отшельники вышивают на ткани своей веры, столь же нежны, сколь и великолепны: мирское же прикосновение может заставить цвета поблекнуть. Вот отчего Пафнутий избегал заходить в города, опасаясь, как бы его сердце не смягчилось при виде людей.
Он шел по безлюдным дорогам. По вечерам, когда легкий ветерок, лаская ветви тамарисков, заставлял их шелестеть, он, содрогаясь, надвигал куколь на глаза, чтобы не видеть окружающей красоты. После шести дней ходьбы он пришел в место, называемое Сильсиле. Река там течет по узкой долине, которую окаймляет двойная цепь гранитных гор. Именно там египтяне во времена, когда поклонялись демонам, высекали своих идолов.
Пафнутий увидел там огромную голову Сфинкса, еще не отделенную от скалы. Страшась, что в ней заключена некая дьявольская сила, он перекрестился и произнес имя Иисуса, и тотчас же летучая мышь вылетела из одного уха зверя – Пафнутий понял, что он изгнал злого духа, гнездившегося в этой голове на протяжении нескольких веков. Набравшись решимости, он схватил большой камень и бросил в лицо идола. И тогда на загадочном лице Сфинкса отразилась такая глубокая грусть, что Пафнутий растрогался. В самом деле, выражение нечеловеческой боли, которым было отмечено это каменное лицо, растрогало бы самого бесчувственного человека. Вот почему Пафнутий сказал Сфинксу:
– О зверь, следуя примеру сатиров и кентавров, которых увидел в пустыне отец наш Антоний, признай божественную природу Иисуса Христа, и я благословлю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
После этих слов розовый свет мелькнул в глазах Сфинкса, тяжелые веки его задрожали, и гранитные губы с трудом, как бы подражая голосу человека, вымолвили святое имя Иисуса Христа. Вот почему Пафнутий, простерши правую руку, благословил Сфинкса из Сильсиле.
Затем он продолжил путь. Когда долина расширилась, он увидел руины огромного города. Еще не разрушившиеся храмы поддерживались колоннами в виде идолов, и по попустительству Божию женские головы с коровьими рогами вперяли свой пристальный взгляд в Пафнутия; он побледнел. Так шел он семнадцать дней, питаясь лишь травами и ночуя в разрушенных дворцах, среди одичавших кошек и крыс фараона, к которым иногда присоединялись женщины с туловищами, заканчивающимися рыбьими хвостами. Но Пафнутий знал, что эти женщины – порождение преисподней, и отгонял их, осеняя себя крестным знамением.
На восемнадцатый день он увидел вдали от селений жалкую хижину из пальмовых листьев, наполовину занесенную песком, который принес ветер пустыни. Он подошел к ней в надежде, что там живет какой-нибудь набожный отшельник. Двери у хижины не было, и он увидел внутри кувшин, немного луковиц и ложе из сухих листьев.
– Вот обстановка, достойная аскета, – сказал он себе. – Обычно отшельники не уходят надолго из своей хижины. Я обязательно с ним встречусь. Хочу дать ему поцелуй мира, по примеру святого отца Антония, который, пришедши к затворнику Павлу, облобызал его трижды. Мы поговорим о вечных материях, и, может быть, Господь пришлет нам ворона с хлебом, который хозяин предложит мне скромно разделить с ним.
Так разговаривая сам с собой, он обошел вокруг хижины в надежде увидеть кого-нибудь. Не прошел он и ста шагов, как увидел человека, сидящего со скрещенными ногами на берегу Нила. Человек был обнажен, его волосы и борода были абсолютно седыми, а тело было краснее кирпича. Пафнутий не усомнился, что это отшельник. Он приветствовал его словами, которыми обычно обмениваются при встрече монахи.
– Мир тебе, брат мой! Да будет тебе дано вкусить однажды сладость рая!
Человек ничего не ответил. Он сидел неподвижно и, казалось, не слышал приветствия. Пафнутий вообразил, что это молчание было вызвано блаженным восторгом, так свойственным святым людям. Сложив руки, он стал на колени рядом с незнакомцем и так молился до захода солнца. Тогда, увидев, что незнакомец не двигается, он сказал ему:
– Отец, если ты вышел из молитвенного созерцания, в которое был погружен, благослови меня во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Человек ответил ему, не поворачивая головы:
– Незнакомец, я не понимаю, о чем ты говоришь, и я не знаком с этим Господом Иисусом Христом.
– Как?! – воскликнул Пафнутий. – Пророки предсказали его появление, легионы мучеников повторяли имя Его, даже Цезарь стал поклоняться ему, и вот совсем недавно я заставил Сфинкса из Сильсиле славить его имя. Возможно ли, что ты его не знаешь?
– Друг мой, – ответил тот, – это возможно. Это даже было бы совершенно очевидно, если бы в этом мире существовало хоть что-то очевидное.
Пафнутий был удивлен и огорчен невероятным неведением этого человека.
– Но если ты не знаешь Иисуса Христа, – сказал он, – тогда все твои труды будут напрасны и ты не заслужишь жизни вечной.
Старик ответил:
– Тщетно действовать или воздерживаться от действия; безразлично, жить или умереть.
– Но как же? – спросил Пафнутий. – Разве ты не хочешь жизни вечной? Скажи мне, не ты ли живешь в хижине в пустыне, подобно отшельникам?
– Возможно.
– Не ты ли живешь обнаженным и лишенным всего?
– Возможно.
– Не ты ли питаешься кореньями и не ты ли блюдешь целомудрие?
– Возможно.
– Не ты ли отказался от всей тщеты этого мира?
– Я действительно отказался от суетных вещей, которые обычно так заботят людей.
– Итак, ты, так же как и я, беден, целомудрен и одинок. Но ты поступаешь так не из любви к Господу, как я, и не ради вечного блаженства. Этого я не могу понять. Для чего же ты добродетелен, если не веришь в Иисуса Христа? Для чего ты отказываешься от мирских благ, если не надеешься заслужить блага вечные?
– Незнакомец, я не отказываюсь ни от каких благ и надеюсь, что выбрал для себя удовлетворительный образ жизни, хотя на самом деле жизнь не может быть ни хорошей, ни плохой. Ничто само по себе не является ни достойным, ни постыдным, ни справедливым, ни несправедливым, ни приятным, ни тягостным, ни хорошим, ни плохим. Лишь суждения наделяют вещи определенными качествами, как соль придает вкус блюдам.
– Итак, ты считаешь, что ничто не очевидно. Ты отрицаешь истину, которую искали даже язычники. Ты покоишься в своем невежестве, как усталая собака, спящая в грязи.
– Незнакомец, бесполезно оскорблять как собак, так и философов. Нам не известно, что такое собаки и что такое мы сами. Мы не знаем ничего.
– О старец, не принадлежишь ли ты к нелепой секте скептиков? Не принадлежишь ли ты к тем жалким безумцам, которые отрицают движение и покой и не умеют отличить свет солнца от ночного сумрака?
– Друг мой, я действительно скептик и считаю свою секту достойной, тогда как ты ее считаешь нелепой. Ибо одни и те же вещи имеют разные свойства. Пирамиды Мемфиса на закате кажутся конусами розового света. А на заходе солнца на фоне пылающего неба они выглядят как черные треугольники. Но кто поймет их сущность? Ты упрекаешь меня в том, что я отрицаю видимость, хотя, напротив, видимость – это единственная реальность, которую я признаю. Солнце мне кажется ярким, но его природа мне не известна. Я ощущаю жар огня, но не знаю, ни как, ни почему он так горяч. Друг мой, ты меня не понимаешь. Впрочем, совершенно безразлично быть понятым так или иначе.
– Спрашиваю еще раз: отчего ты живешь в пустыне и питаешься финиками и луком? Отчего ты подвергаешь себя таким страданиям? Я сам подвергаю себя страданиям и, как и ты, практикую воздержание и отшельничество. Но я это делаю, чтобы угодить Господу и заслужить вечное блаженство. И эта цель разумна, ибо разумно страдать в ожидании великого блага. И, напротив, неразумно сознательно изнурять себя и подвергать напрасным страданиям. Если бы я не верил – прости мне это святотатство, Ты, Свет предвечный! – если бы я не верил в истинность того, чему научил нас Всевышний через пророков, через жертву своего сына, через деяния апостолов, через постановления соборов и свидетельства мучеников, если бы я не знал, что телесные страдания необходимы для здоровья души, если бы я, подобно тебе, прозябал в неведении святых тайн, то немедленно возвратился бы в мир, постарался бы скопить богатства, чтобы жить в достатке, как живут счастливцы в этом мире, и сказал бы страстям: «Придите, дочери мои, придите, служанки мои, придите все и налейте мне вина, опьяните меня любовными напитками и благовониями». А ты, безумный старец, лишаешь себя всех преимуществ, терпишь страдания, не ожидая никакой выгоды, отдаешь, не надеясь ничего получить взамен, и нелепо подражаешь замечательным подвигам наших отшельников – так, как наглая обезьяна воображает, пачкая стену, что копирует картину прекрасного художника. О глупейший из людей, каковы же твои побуждения?
Пафнутий говорил страстно. Но старик был невозмутим.
– Друг мой, – ответил он мягко, – какое тебе дело до побуждений собаки, спящей в грязи, и зловредной обезьяны?
Пафнутий все время думал лишь о славе Господней. Гнев его прошел, и он извинился с подобающим смирением.
– Старче, брат мой, – сказал он, – прости меня за то, что любовь к правде позволила мне перейти границы дозволенного. Бог мне свидетель, меня возмутил не ты сам, а твое заблуждение. Мне больно видеть, что ты блуждаешь в потемках, ибо я люблю тебя во Иисусе Христе и сердце мое исполнено заботы о твоем спасении. Говори, изложи мне свои доводы – мне не терпится их узнать, чтобы опровергнуть.
Старец ответил спокойно:
– Я одинаково расположен как говорить с тобой, так и молчать. Итак, я изложу тебе свои доводы, не спрашивая в ответ твоих, ибо ты меня совершенно не интересуешь. Мне безразличны и твое счастье, и твое несчастье, мне безразлично, думаешь ты так или иначе. И как бы я мог любить тебя или ненавидеть? И отвращение, и симпатия одинаково недостойны мудреца. Но поскольку ты меня спрашиваешь, я тебе отвечу, что зовут меня Тимокл и родился я на Косе у родителей, разбогатевших торговлей. Мой отец снаряжал корабли. Мудрость его очень напоминала мудрость Александра, которого прозвали Великим, но она была более гибкой. Можно сказать, он был человек слабый. У меня было двое братьев, которые пошли по его стопам. Мне же была любезна мудрость. Отец принудил моего старшего брата жениться на карианке по имени Тимесса, которая настолько ему не нравилась, что он не мог пребывать рядом с нею, не впадая в глубокое уныние. А меж тем Тимесса внушила моему младшему брату преступную любовь к ней, и эта любовь вскоре превратилась в пагубную страсть. Карианке же оба они были одинаково противны. Она любила одного флейтиста и принимала его по ночам в своей спальне. Однажды утром он забыл там венок, который обычно надевал во время празднеств. Мои братья, найдя этот венок, поклялись убить флейтиста и на следующий же день засекли его хлыстом до смерти, невзирая на его мольбы и слезы. Моя невестка была в таком отчаянии, что утратила разум, и трое этих несчастных, подобно диким зверям, в безумстве выбегали на берега Коса и выли, как волки, не смея поднять глаз, сопровождаемые насмешливыми криками детей, бросавших в них ракушки. Они умерли, и мой отец сам похоронил их. Вскоре после этого он отказался принимать пищу и умер от голода, хотя был настолько богат, что мог скупить все мясо и фрукты на всех базарах Азии. Он был в отчаянии от того, что оставляет богатство мне. Я же потратил его на путешествия. Ездил по Италии, Греции и Африке, но не встретил там ни мудрых, ни счастливых людей. Я изучал философию в Афинах и Александрии и был оглушен неистовыми спорами. Наконец я добрался до Индии и увидел на берегу Ганга обнаженного человека, который сидел там неподвижно вот уже тридцать лет. Лианы обвили его иссохшее тело, и птицы свили гнезда в его волосах. Однако он был жив. Увидев его, я вспомнил Тимессу, флейтиста, моих братьев и отца и понял, в чем мудрость этого индуса. «Люди, – сказал я себе, – страдают потому, что лишены того, что кажется им благом, или боятся это благо потерять, или же им приходится терпеть то, что они считают злом. Избавьтесь от подобных убеждений, и вы обретете счастье». Вот почему я принял решение ничто не считать благом, отрешиться от земных удовольствий и жить в одиночестве и безмятежности подобно тому индусу.
Пафнутий со вниманием выслушал рассказ старца.
– Тимокл Косский, – ответил он, – признаю, что слова твои не лишены смысла. В самом деле, мудро пренебрегать благами этого мира. Но неразумно пренебрегать также и благами вечными, подвергая себя гневу Господнему. Я скорблю о твоем невежестве и хочу преподать тебе истину, чтобы ты узнал, что Бог существует в трех ипостасях, и покорился Ему, как дитя покорно воле своего отца.
Но Тимокл прервал его:
– Остерегись, незнакомец, излагать мне свое учение и даже не мысли принудить меня разделить твои убеждения. Любые споры бессмысленны. Я предпочитаю не иметь никакого мнения. Я не ведаю тревог, потому что живу без предпочтений. Иди своей дорогой и не пытайся нарушить мое блаженное спокойствие, в коем я пребываю, как в благоуханной ванне, отдыхая от трудов дневных.
Пафнутий был сведущ в вопросах веры. Будучи знатоком людских сердец, он понял, что Господня благодать не снизошла на старого Тимокла и что спасение еще не обещано этой душе, упорно стремящейся к гибели. Он ничего не ответил, опасаясь, что наставление не будет услышано. Ибо случается иногда, что, вступая в спор с неверными, их вновь вводят в грех, вместо того чтобы обратить в веру истинную. Поэтому те, кто постиг истину, должны говорить о ней с осторожностью.
– Ну что ж, прощай, несчастный Тимокл! – сказал Пафнутий.
И, тяжко вздохнув, он продолжил в ночи свое благочестивое путешествие.
Утром на берегу реки Пафнутий увидел ибисов, неподвижно стоявших на одной ноге у кромки воды, в которой отражались их бледно-розовые шеи. Поодаль ивы склонили над водой свою мягкую серебристую листву, в безоблачном небе плыл журавлиный клин, а из камышей доносились крики невидимых цапель. Широкая река несла вдаль свои зеленые воды, над которыми, как крылья птиц, скользили паруса; по берегам были разбросаны белые хижины, над водой поднимался пар, а из зелени островов, покрытых пальмами, фруктовыми деревьями и цветами, взмывали в небо шумные стаи уток, гусей, фламинго и чирков. Слева, до самой пустыни, простиралась плодородная долина, покрытая полями и садами, колышущимися под дуновением ветра, солнце золотило колосья, и над богатой землей витал легкий аромат. Увидев этот пейзаж, Пафнутий опустился на колени и воскликнул:
– Благословен Господь, подвигнувший меня на это путешествие! Боже, окропивший росой смоковницы земли Арсинои[5], всели благодать в душу Таис, которую ты создал с такой же любовью, как цветы в полях и деревья в садах. Да расцветет она от моих забот, как благоуханная роза в твоем горнем Иерусалиме!
И всякий раз, увидев цветущее дерево или яркую птицу, думал он о Таис. Так, следуя по левому берегу реки, по плодородным и многолюдным местам, он за несколько дней добрался до Александрии, которую греки называли золотой и прекрасной. От рассвета минул уже час, когда с высоты холма Пафнутий увидел огромный город, над крышами которого поднимался розовый пар. Он остановился и, скрестив руки на груди, сказал себе:
– Так вот он, тот чудный край, где я был рожден во грехе, тот сладостный воздух, насыщенный пагубными ароматами, то полное неги море, где я слушал пение сирен! Вот моя земная колыбель, вот моя родина в миру! Цветущая колыбель, славная отчизна, как говорят люди! Дети твои, Александрия, любят тебя как мать, и я был зачат в твоем благодатном лоне. Но аскеты презирают природу, мистики пренебрегают видимостью, христиане видят свою земную родину местом изгнания, монахи бегут от мира. Я отвратил сердце свое от любви твоей, Александрия. Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя за твое богатство, ученость, за кротость и красоту. Будь проклят ты, храм демонов! Бесстыдное ложе язычников, зловонная плоть ариан[6], будь же ты проклята! А ты, крылатый сын Неба, приведший отца нашего, святого отшельника Антония, из глубин пустыни в эту твердыню язычества, дабы укрепить веру исповедников и стойкость мучеников, ты, прекрасный ангел Господень, незримое дитя, первое дыхание Бога, лети предо мной и разгони своими благоуханными крыльями пагубный воздух, который мне придется вдыхать средь темных владык века!
Так сказал он и продолжил свой путь. Пафнутий вошел в город через ворота Солнца. Эти каменные ворота гордо возвышались над городом. Нищие, укрывшиеся в их тени, предлагали прохожим лимоны и фиги или, стеная, просили милостыню.
Старуха в лохмотьях, стоявшая на коленях, ухватилась за край власяницы монаха, поцеловала ее и сказала:
– Раб Господень, благослови меня, чтобы и Господь меня благословил. Я много страдала в этом мире – хочу вкусить всех радостей в мире ином. Ты послан Богом, о святой человек, вот почему пыль с ног твоих драгоценнее золота.
– Хвала Господу! – сказал Пафнутий.
И он начертал рукой знак искупления над головой старой женщины.
Но едва лишь прошел он двадцать шагов по улице, как ватага ребятишек закричала, свища и бросая в него камни:
– Противный монах! Он чернее бабуина, и борода у него длиннее, чем у козла. Он бездельник! Почему его не повесят в каком-нибудь саду, как Приапа[7], чтобы он стал пугалом для птиц? Да нет, он может наслать град на цветущий миндаль! Он приносит несчастье. Пусть этого монаха распнут! Пусть его распнут!
И камни градом посыпались на него под эти крики.
– Господи! Благослови этих детей, – пробормотал Пафнутий.
Он продолжил свой путь, размышляя так: «Я почитаю эту старую женщину и презираю этих детей. Значит, один и тот же предмет может быть по-разному оценен людьми, нестойкими в своих убеждениях и предрасположенными к заблуждениям. Следует признать, что для язычника старый Тимокл не лишен здравомыслия. Слепец, он понимает, что лишен света. Но насколько в своих суждениях он превосходит этих идолопоклонников, которые восклицают из бездны своей темноты: „Я вижу свет!“ Все в этом мире есть лишь мираж, зыбучие пески. Постоянство в одном лишь Господе».
Так он шел по городу быстрым шагом. После десяти лет отсутствия он узнавал каждый камень, и каждый из них был камнем позора, напоминавшим ему о его грехе. Вот почему он ожесточенно ступал босыми ногами по камням широких дорог и радовался, видя на них кровавые следы своих искалеченных ступней.
Оставив слева роскошные портики храма Сераписа[8], он свернул на улицу, по обе стороны которой высились дома богачей, окутанные благовониями. Сосны, клены, фисташковые деревья высились над красными карнизами и золотыми навершиями. Через приоткрытые двери можно было увидеть бронзовые статуи в мраморных залах и фонтаны, окруженные зеленью. Шум города не нарушал покоя этих прекрасных жилищ. Лишь вдалеке слышались звуки флейты. Монах остановился перед небольшим благородным домом с колоннами грациозными, как молодые девушки. Его украшали бронзовые бюсты знаменитых греческих философов. Он узнал Платона, Сократа, Аристотеля, Эпикура и Зенона. Постучав молоточком в дверь и застыв в ожидании ответа, он подумал: «Тщетно металл славит этих фальшивых мудрецов – их лживые высказывания были опровергнуты, их души находятся в аду, и даже прославленный Платон, заполнивший весь мир суетным своим красноречием, теперь дискутирует лишь с чертями».
Дверь открыл раб и, увидев человека, стоящего босыми ногами на мозаике у порога, сказал ему грубо:
– Иди попрошайничать в другое место, гадкий монах, не жди, пока я прогоню тебя палкой.
– Брат мой, – сказал настоятель, – я не прошу ничего, лишь проводи меня к Никию, твоему хозяину.
Раб ответил еще более грозно:
– Мой хозяин не принимает таких псов, как ты.
– Сын мой, – продолжил Пафнутий, – будь добр, исполни мою просьбу и скажи своему хозяину, что я хочу с ним повидаться.
– Пошел прочь, гнусный попрошайка! – вскричал взбешенный привратник.
И он замахнулся палкой на святого человека, который, скрестив руки на груди, безропотно принял удар прямо по лицу, а затем тихонько повторил:
– Сделай, пожалуйста, то, о чем я прошу, сын мой.
Тогда привратник, задрожав, пробормотал:
– Что ты за человек, если не боишься боли?
И он побежал к хозяину.
Никий только что вышел из ванны. Прекрасные рабыни растирали скребками его тело. Это был человек стройный и улыбчивый. На лице его лежала печать легкой иронии. Увидев монаха, он встал и бросился к нему, раскрыв объятия.
– Это ты! – воскликнул он. – Пафнутий, мой школьный товарищ, мой друг, мой брат! О, я узнаю тебя, хотя, честно говоря, теперь ты более напоминаешь зверя, чем человека. Обними меня. Помнишь ли ты еще время, когда мы вместе учились грамматике, риторике и философии? Уже тогда ты считался человеком угрюмым и необщительным, но я любил тебя за твою абсолютную искренность. Мы говорили, что ты смотришь на мир глазами дикой лошади, поэтому неудивительно, что ты мрачен. Тебе несколько не хватало аттической соли[9], но щедрость твоя была безгранична. Ты не дорожил ни деньгами, ни жизнью. И был у тебя какой-то странный дар, какой-то неведомый дух, безумно меня привлекавший. Добро пожаловать, дорогой Пафнутий, после десятилетнего отсутствия. Ты покинул пустыню, отрекся от христианских предрассудков, ты возрождаешься к прежней жизни. Я отмечу этот день белым камешком… Кробила и Миртала, – добавил он, повернувшись к женщинам, – умастите благовониями руки, ноги и бороду моего дорогого гостя.
Женщины уже несли кувшин с водой, благовония и металлическое зеркало. Но Пафнутий остановил их решительным жестом и опустил глаза, чтобы не видеть их, ибо они были обнажены. А в это время Никий приглашал его опуститься на ложе, предлагал разные яства и напитки, от которых Пафнутий отказался с презрением.
– Никий, – сказал он, – я не отрекся от того, что ты напрасно называешь христианскими предрассудками, хотя на самом деле это истина истин. «Вначале было Слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Он создал все, и нет ничего, что было бы создано не им. В нем была жизнь, и жизнь была светом для людей.
– Милый Пафнутий, – ответил Никий, уже облачившийся в душистую тогу, – неужели ты думаешь удивить меня, провозглашая речи, похожие на бессмысленное бормотание? Разве ты забыл, что я тоже немного философ? Неужели ты думаешь, что я удовлетворюсь жалкими крохами, вырванными невеждами из учения Амелия, если даже сами славные Амелий, Порфирий[10] и Платон меня не удовлетворяют? Все рассуждения мудрецов – это лишь сказки, выдуманные, чтобы позабавить людей, вечных младенцев. Они созданы для развлечения, так же как сказки об осле, бочке, Матроне Эфесской или любая другая милетская басня[11].
Взяв под руку своего гостя, он повел его в зал, где в корзинах хранились тысячи папирусов.
– Вот моя библиотека, – сказал он, – она содержит лишь малую часть тех систем, которые философы создали для объяснения мира. Даже богатства Серапеума не могут включить их все. Увы! Это лишь бредни больных людей.
Он усадил гостя на стул из слоновой кости и сел рядом. Пафнутий бросил на книги библиотеки мрачный взгляд и сказал:
– Их все следует сжечь.
– О милый гость, – возразил Никий, – это было бы прискорбно! Ибо бредни больных людей иногда бывают забавны. Впрочем, если мы уничтожим все людские бредни и мечтания, мир утратит свои очертания и краски и мы все уснем от беспросветной глупости.
Пафнутий продолжил свою мысль:
– Доктрины язычников, безусловно, просто глупые выдумки. Но Бог, который есть истина, открылся людям через чудеса. Он стал плотью и жил среди нас.
Никий ответил:
– Ты говоришь замечательно, дорогой мудрец Пафнутий, заявляя, что он стал плотью. Бог, который мыслит, действует, разговаривает, ходит по миру, как античный Улисс по синему морю, – действительно человек. Как можешь ты верить в этого нового Юпитера, когда еще во времена Перикла афинские детишки уже не верили в старого? Но оставим это. Я думаю, ты пришел сюда не для того, чтобы дискутировать о трех ипостасях. Что я могу сделать для тебя, мой дорогой школьный товарищ?
– Одно очень доброе дело, – ответил антинопольский настоятель. – Одолжи мне душистую тогу, такую же, как та, что ты только что надел. Добавь к ней, милости ради, золоченые сандалии и флакончик масла, чтобы умастить мои волосы и бороду. Также хорошо было бы, чтобы ты дал мне мешочек с тысячей драхм. Вот о чем я пришел просить тебя, Никий, во имя Господа и в память о нашей прошлой дружбе.
Никий велел Кробиле и Миртале принести свою самую роскошную тогу, расшитую в азиатском стиле цветами и фигурками животных. Женщины распахнули ее и встряхнули, отчего она заиграла красками. Они ждали, что Пафнутий снимет власяницу, окутывавшую его с головы до пят. Но монах заявил, что позволит скорее содрать с себя кожу, чем снимет власяницу, потому они надели тогу поверх нее. Обе женщины были красивы и не боялись мужчин, хотя и были рабынями. Они расхохотались, увидев, сколь странно выглядит монах. Кробила, поднеся к нему зеркало, назвала его «мой дорогой сатрап», а Миртала дернула его за бороду. Но Пафнутий молился Богу и не обращал внимания. Обув золоченые сандалии и прикрепив мешочек к поясу, он сказал Никию, разглядывавшему его с улыбкой:
– Никий, не следует, чтобы то, что ты видишь сейчас, казалось тебе чем-то неприличным. Знай же, что я найду благое применение этой тоге, этому мешочку и этим сандалиям.
– Милый мой, – ответил Никий, – я не подозреваю ничего плохого, ибо считаю, что люди одинаково не способны творить как зло, так и добро. Добро и зло существуют лишь как представления. А мудрец, действуя, сообразуется лишь с обычаями и привычками. Я считаюсь с предрассудками, царящими в Александрии. И потому слыву достойным человеком. Иди, друг мой, и веселись.
Но Пафнутий решил, что другу следует открыть его замысел.
– Тебе знакома, – спросил он, – некая Таис, которая выступает в театральных игрищах?
– Она красива, – ответил Никий, – и было время, когда она была мне дорога. Ради нее я продал мельницу и два пшеничных поля, в ее честь я сочинил три книги элегий, подражая сладостным песнопениям, в которых Корнелий Галл[12] воспевал Ликориду. Увы! Галл пел свои песни в золотом веке, под покровительством авзонских[13] муз. А я, рожденный во времена варваров, начертал свои гекзаметры и пентаметры с помощью нильского тростника. Произведения, созданные в наше время и в нашей местности, обречены на забвение. Безусловно, красота – самая могущественная сила в этом мире, и если бы мы могли обладать ею вечно, нам мало дела было бы до демиурга, логоса, эонов[14] и прочих философских бредней. Но я поражен, милый Пафнутий, что ты пришел из Фиваиды поговорить со мной о Таис.
Сказав это, он тихонько вздохнул. Пафнутий же смотрел на него с ужасом, не понимая, как кто-то может так спокойно признаваться в подобном грехе. Он ждал, что земля разверзнется и пламя поглотит Никия. Но земля не разверзлась, а александриец молчал, прикрыв лицо рукой, грустно улыбаясь воспоминаниям молодости. Монах встал и сказал торжественно:
– Узнай же, о Никий, что с Божией помощью я избавлю Таис от мерзких страстей земных и сделаю невестой Христовой. Если не оставит меня Дух Святой, Таис сегодня же покинет этот город и уйдет в монастырь.
– Страшись оскорбить Венеру, – ответил Никий, – это могущественная богиня. Она рассердится на тебя, если ты украдешь ее самую известную служительницу.
– Бог защитит меня, – сказал Пафнутий. – Пусть он вразумит и тебя, Никий, и поможет тебе выбраться из пропасти, в которую ты упал!
И он пошел к выходу. Но Никий проводил его до порога дома, положил руку ему на плечо и повторил шепотом:
– Страшись оскорбить Венеру, месть ее страшна.
Пафнутий, презрев легкомысленные слова, вышел, не повернув головы. Он пренебрег словами Никия, но ему трудно было стерпеть мысль о том, что его друг в прошлом познал ласки Таис. Ему казалось, что согрешить с этой женщиной было более ужасным грехом, чем с любой другой. Он видел в этом особо злой умысел, и Никий отныне стал ему омерзителен. Он ненавидел порочность, но картины этого порока никогда еще не казались ему столь мерзкими; никогда еще он так рьяно не разделял гнев Иисуса Христа и скорбь его ангелов.
Он только утвердился в мысли вырвать Таис из общества язычников, и ему не терпелось увидеть актрису и спасти ее. Однако, чтобы явиться в дом этой женщины, ему нужно было дождаться, когда спадет дневная жара. А сейчас еще было утро, и Пафнутий шел по людным улицам. Он решил сегодня не принимать никакой пищи, чтобы стать чуть более достойным милости, которой просил у Господа. К великой его печали, он не решился зайти ни в одну церковь города, зная, что их осквернили ариане, опрокинувшие там престол Господень. В самом деле, эти еретики, поддержанные императором Востока[15], согнали отца Афанасия[16] с его епископской кафедры и вселили смятение и растерянность в христиан Александрии.
Поэтому он шел не разбирая дороги, то из скромности вперяя свой взгляд в землю, то поднимая его к небу, как бы в экстазе. Побродив так какое-то время, он оказался на одной из городских набережных. В гавани стояло множество кораблей с темными килями, а вдалеке серебрилось лазурное коварное море. Галера, на корме которой высилась статуя Нереиды, только что снялась с якоря. Гребцы с пением рассекали волны, и вот уже вдали виднелся лишь покрытый жемчужинами капель ускользающий профиль девы вод: кормчий провел галеру по узкому проходу, ведущему в гавань Эвностоса[17], – она скользнула в открытое море, оставив за собой вспененный след.
– Вот так и я, – подумал Пафнутий, – я тоже когда-то хотел с пением сесть на корабль в мирском океане. Но вскоре осознал свое безумие, и Нереида не смогла унести меня с собой.
Размышляя подобным образом, он сел на груду канатов и уснул. Во сне ему было видение. Пафнутию показалось, что он услышал оглушающий звук трубы, небо стало кровавого цвета, и он понял, что настал последний час. Он начал молиться Богу с большим усердием и тут увидел приближавшегося к нему огромного зверя, на лбу которого был начертан огненный крест, – он узнал Сфинкса из Сильсиле. Зверь схватил его зубами, не причинив боли, и унес в своей пасти, как кошки обычно переносят котят. Так Пафнутий пронесся над несколькими царствами, над горами и реками и оказался в пустынном месте, покрытом высокими скалами и горячим пеплом. Из множества трещин в земле наружу вырывался жар. Зверь осторожно поставил Пафнутия на землю и сказал:
– Смотри!
Пафнутий, склонившись над краем бездны, увидел внизу огненную реку, текущую в недрах земли, между черными скалами. Там, в мертвенно-бледном свете, демоны терзали души людей. Души сохраняли подобие тел, в которых когда-то пребывали, и даже остатки одежды укрывали эти тела. Казалось, что мучения не колеблют спокойствия душ. Одна из них, большая, белая, с закрытыми глазами, с перевязью на лбу и скипетром в руках, пела, и сладостный голос ее разносился над пустынным берегом: она пела о деяниях богов и героев. Зеленые черти кололи ее губы и горло раскаленным железом. А тень Гомера продолжала петь. Неподалеку старый Анаксагор[18], лысый и седой, чертил циркулем какие-то фигуры в пыли. Демон вливал ему в ухо кипящее масло, но не мог вывести мудреца из задумчивости. Монах увидел еще множество людей, которые на мрачном берегу пылающей реки спокойно читали, размышляли или беседовали, прогуливаясь, как учителя с учениками, в тени платанов Академии. Один лишь старец Тимокл держался в стороне и качал головой, как человек, все отрицающий. Падший ангел размахивал факелом перед его глазами, но Тимокл не желал замечать ни ангела, ни факел.
Онемев от изумления, Пафнутий обернулся к зверю. Но тот исчез, и монах увидел на месте Сфинкса женщину, лицо которой было закрыто вуалью. Она сказала ему:
– Вот, запомни: таково упрямство этих неверных, что и в аду они остаются жертвами иллюзий, соблазнявших их на земле. И смерть не помогла им, ибо очевидно, что недостаточно умереть, чтобы увидеть Бога. Те, кто не познал истину, живя среди людей, не познают ее никогда. А что такое демоны, жестоко карающие эти души, как не божественная справедливость? Вот почему эти заблудшие не могут ни увидеть ее, ни ощутить. Чуждые истине, они не осознают, что им вынесен приговор, и даже Бог не может заставить их страдать.
– Бог может все, – сказал антинопольский настоятель.
– Он не допускает абсурдности, – ответила женщина. – Чтобы их наказать, нужно было бы сначала их просветить, а если бы они познали истину, то уподобились бы избранным.
Между тем Пафнутий, исполненный страха и волнения, вновь склонился над бездной. Он заметил тень Никия с цветочным венком на голове, улыбавшегося под сенью испепеленных миртов. Рядом с ним Аспасия Милетская[19], в элегантном шерстяном плаще, говорила ему, казалось, сразу и о любви, и о философии, настолько мягким и благородным было выражение ее лица. Падавший на них огненный дождь казался им прохладной росой, ноги их, как по мягкой траве, скользили по горящей земле. Увидев это, Пафнутий пришел в ужас.
– Боже, – воскликнул он, – срази его! Это Никий! Пусть он плачет! Пусть стонет! Пусть скрежещет зубами!.. Он согрешил с Таис!..
Пафнутий проснулся в объятиях моряка, сильного, как Геркулес, который тащил его по песку, крича:
– Тише! Тише, друг мой! Ради Протея, старого пастуха тюленей! Ты мечешься во сне, и если бы я не удержал тебя, ты упал бы в Эвностос. Клянусь матерью, продававшей соленую рыбу, я спас тебе жизнь.
– Благодарю Бога за это, – ответил Пафнутий.
И, поднявшись на ноги, он пошел вперед, раздумывая над видением, посетившим его во сне.
«Это видение, – сказал он себе, – несомненно, неправильное; оно бросает вызов доброте Господа, представляя ад как нечто нереальное. Оно, несомненно, от дьявола».
Пафнутий рассуждал так, поскольку умел отличать сны, которые посылает Господь, от снов, которые посылают падшие ангелы. Такое знание чрезвычайно полезно для отшельника, постоянно окруженного призраками, ибо, отдаляясь от людей, он обязательно встречается с духами. Когда пилигримы приближались к разрушенному дворцу, в который удалился святой затворник Антоний, они слышали крики, подобные тем, которые раздаются на городских перекрестках ночью во время праздников. Эти крики издавали дьяволы, искушавшие святого.
Пафнутий вспомнил этот поучительный пример. Он вспомнил и святого Иоанна Египетского, которого в течение шестидесяти лет дьявол искушал своими чарами. Но Иоанн расстраивал его козни. И вот однажды демон в обличье человека вошел в пещеру преподобного Иоанна и сказал:
– Иоанн, ты продолжишь поститься до завтрашнего вечера.
И Иоанн, думая, что это говорит ангел, продолжал поститься до вечерней молитвы следующего дня. Это было единственной победой, которую князь тьмы одержал над святым Иоанном Египетским, и победа эта была ничтожна. Вот почему не следует удивляться, что Пафнутий сразу же распознал лживость видения, явленного ему во сне.
Пока тихонько сетовал на Бога, оставившего его во власти демонов, он почувствовал, что его увлекает за собой толпа людей, бегущих в одном направлении. Поскольку он утратил привычку ходить по городским улицам, его толкали от прохожего к прохожему, как будто он не был живым человеком, и, путаясь в складках своей тоги, он несколько раз чуть было не упал. Желая узнать, куда идут все эти люди, он спросил у одного человека о причине такой поспешности.
– Незнакомец, – ответил тот, – ты разве не знаешь, что сегодня начинаются представления и что на сцену выйдет Таис? Все эти люди идут в театр, и я иду вместе с ними. Может, ты хочешь пойти со мной?
Вдруг осознав, что его замыслу вполне соответствует намерение увидеть Таис на сцене, Пафнутий последовал за незнакомцем. И вот уже перед ним предстал портик театра, украшенный яркими масками, и длинная округлая стена, увенчанная бесчисленными статуями. Вслед за толпой они прошли по узкому проходу, который вел в амфитеатр, блиставший огнями. Они заняли место на скамье на одной из ступеней, спускавшихся рядами к великолепно украшенной сцене, где еще не было актеров. Занавес на сцене не был задернут, и они увидели стоявший посреди военного лагеря курган, подобный тем, которые древние народы воздвигали в честь усопших героев. Перед палатками стояли вонзенные в землю копья, и золотые щиты висели на шестах в окружении лавровых ветвей и венков из дубовых листьев. Там все было сон и безмолвие. Но над амфитеатром, заполненным зрителями, висел гул, будто гудение пчел в улье. Все лица, красноватые в отблесках пурпурной завесы, колыхавшейся перед их глазами, обратились с выражением любопытствующего ожидания к этой большой тихой площадке, занятой курганом и палатками. Женщины, смеясь, ели лимоны, а завсегдатаи театра весело переговаривались, сидя в соседних рядах.
Пафнутий мысленно молился, остерегаясь суетных речей, но его сосед начал жаловаться на упадок театрального искусства.
– Когда-то, – сказал он, – искусные актеры в масках декламировали стихи Еврипида и Менандра. Сейчас же трагедии не декламируют, их изображают, и от божественных зрелищ, которыми Вакх услаждал себя в Афинах, мы сохранили лишь то, что какой-нибудь варвар, даже скиф, может понять: позы и жесты. Трагическая маска, в отверстие которой вставлялись металлические пластины, усиливавшие звучание голоса, котурны, возвышавшие персонажа до уровня богов, трагическое величие и пение прекрасных стихов, – все это в прошлом. Мимы, балерины, неприкрытые лица заменили Павлов и Росциев[20]. Что сказали бы афиняне эпохи Перикла, увидев на сцене женщину? Женщине непристойно выступать публично. Мы низко пали, если позволяем подобное. Так же, как верно то, что меня зовут Дорион, верно и то, что женщина – наш злейший враг и позор земли.
– Ты говоришь мудро, – ответил Пафнутий. – Женщина – наш худший враг. Она доставляет удовольствие, и этим-то она и опасна.
– Клянусь бессмертными богами, – воскликнул Дорион, – женщина дает мужчине не удовольствие, но грусть, переживания и черные мысли! Любовь есть источник самых больших наших горестей. Послушай, незнакомец: в молодости я побывал в городе Тризине в Арголиде и видел там миртовое дерево с невероятно толстым стволом; листья его были испещрены маленькими дырочками. Вот что рассказывали жители Тризина об этом мирте: царица Федра, когда она была влюблена в Ипполита, целыми днями томно лежала под этим деревом, которое можно увидеть и сейчас. Смертельно скучая, она вынула из своих белокурых волос золотую булавку и стала прокалывать листья дерева с пахучими ягодами. Все листья были проколоты ею. Ты знаешь, что, погубив невинного юношу, которого она преследовала своей кровосмесительной любовью, Федра постыдно умерла. Она закрылась в супружеской спальне и повесилась на своем золоченом поясе, зацепив его за крючок слоновой кости. Богам было угодно, чтобы листья мирта, ставшего свидетелем столь пагубной страсти, вечно хранили свидетельство этого. Я сорвал один такой лист и поместил в изголовье своей кровати, дабы он был постоянным напоминанием мне о том, что не следует предаваться безумствам страсти, и дабы укрепить меня в учении божественного Эпикура, моего наставника, который учит нас, что желание опасно[21]. Но ведь любовь – это болезнь печени, и никогда не знаешь, убережешься ли ты от нее.
Пафнутий спросил:
– Дорион, в чем ты находишь удовольствие?
Дорион грустно ответил:
– У меня есть лишь одно удовольствие. Признаю, оно небольшое – это медитация. Имея больной желудок, не стоит искать других.
Услышав эти слова, Пафнутий поспешил приобщить эпикурейца к духовным радостям, которые доставляет созерцание Господа. Он начал так:
– Услышь истину, Дорион, и прими свет.
Едва он это сказал, как люди со всех сторон стали поворачиваться к нему и махать руками, приказывая замолчать. Гробовая тишина воцарилась в театре, и вскоре послышались звуки бравурной музыки.
Началось представление. Солдаты, вышедшие из палаток, готовились в поход, и вдруг на вершину могильного холма опустилась туча. Когда она рассеялась, на холме появилась тень Ахилла в золотых доспехах. Простерши руку к воинам, он, казалось, говорил им: «Как! Вы уходите, дети Данаи, вы возвращаетесь на родину, которой я никогда более не увижу, и вы оставляете мою могилу без жертвоприношений?»
И вот высшие греческие военачальники бросились к подножию холма. Акамант, сын Тесея, старец Нестор, Агамемнон с жезлом и с повязкой на голове наблюдали чудесное явление. Юный сын Ахилла Пирр простерся в пыли. Улисс, которого можно было узнать по шапке, из-под которой выбивались пряди вьющихся волос, показывал жестами, что он согласен с тенью героя. Он спорил с Агамемноном, и можно было догадаться, о чем они говорят.
– Ахилл, – говорил царь Итаки, – достоин почитания, ведь он героически погиб, защищая Элладу. Он просит, чтобы дочь Приама, девственницу Поликсену, принесли в жертву на его могиле. Данайцы, почтите дух героя, и пусть сын Пелея[22] возрадуется в Аиде.
Но царь царей ответил:
– Пощадим троянских девственниц, которых мы оторвали от алтарей. Достаточно бед познали славные потомки Приама.
Он говорил так, ибо делил ложе с сестрой Поликсены, а хитрый Улисс упрекал его в том, что он предпочел ложе Кассандры копью Ахилла.
Все греки выразили ему одобрение дружным бряцанием оружия. Смерть Поликсены была решена, и умиротворенная тень Ахилла исчезла. Музыка, то бравурная, то жалобная, передавала мысли персонажей.
Зрители разразились аплодисментами.
Пафнутий, все соотносивший с божественной истиной, пробормотал:
– О свет и тень, нисходящие на неверных! У разных народов подобные жертвоприношения предвещали и грубо изображали спасительную жертву Сына Божия.
– Все религии порождают преступления, – откликнулся эпикуреец. – К счастью, один божественно мудрый грек избавил людей от напрасной боязни неизвестного…
Между тем Гекуба, с растрепанными седыми волосами, в изорванном платье, вышла из палатки, где ее удерживали как пленницу. При виде этого совершенного символа страдания у зрителей вырвался глубокий вздох. Гекуба, увидевшая эти события в пророческом сне, оплакивала судьбу дочери и свою. Улисс уже стоял рядом с ней и требовал отдать Поликсену. Старуха-мать рвала на себе волосы, царапала свои щеки ногтями и целовала руки жестокого человека, который, сохраняя выражение беспощадной кротости, казалось, говорил:
– Прояви мудрость, Гекуба, и покорись неизбежности. У нас есть и другие матери, оплакивающие своих детей, навеки почивших под соснами Иды[23].
И Кассандра, когда-то царица цветущей Азии, а теперь рабыня, посыпала пеплом свою несчастную голову.
Но вот, приподняв полог палатки, появилась девственница Поликсена. Зрители вздрогнули все как один. Они узнали Таис. Пафнутий наконец вновь увидел ту, за которой пришел. Белоснежной рукой придерживала она над головой тяжелый полог палатки. Неподвижная, похожая на прекрасную статую, бросавшая на окружающих взгляд своих фиалковых глаз, кроткая и гордая, она заставила всех вздрогнуть при виде своей трагической красоты.
По рядам пронесся одобрительный шепот, а Пафнутий, в смятении прижав руки к сердцу, вздохнул:
– Для чего же, Господь, наделил Ты такой властью одно из Твоих созданий?
Дорион спокойно заметил:
– В самом деле, атомы, объединившиеся, чтобы создать эту женщину, составили комбинацию, приятную для глаз. Но это лишь игра природы, и эти атомы не знают, что творят. Однажды они разъединятся с таким же безразличием, с каким соединились. Где сейчас атомы, создавшие Лаис[24] или Клеопатру? Не возражаю: женщины иногда бывают прекрасны, но они подвержены прискорбным изменениям или отвратительным недомоганиям. Вот о чем думают созерцательные умы, тогда как заурядные люди не обращают на это внимания. И женщины внушают любовь, хотя любить их неразумно.
Так философ и аскет созерцали Таис, внимая своим мыслям. Ни тот ни другой не обращали внимания на Гекубу, которая, повернувшись к дочери, знаками говорила ей: «Постарайся смягчить жестокого Улисса своими слезами, красотой и молодостью!»
Таис, точнее Поликсена, опустила полог палатки. Она сделала лишь один шаг, и все сердца были покорены. А когда легкой благородной поступью она стала приближаться к Улиссу, ритм ее движений под аккомпанемент звуков флейты напоминал о множестве счастливых мгновений, и казалось, что она и есть божественное средоточие мировой гармонии. Все взгляды были прикованы к ней, и все остальное поблекло в ее сиянии.
Однако действие продолжалось.
Осторожный сын Лаэрта отвернулся и спрятал руку под плащ, чтобы избежать взгляда и поцелуев просительницы. Дева дала ему знак, чтобы он ничего не опасался. Ее спокойный взгляд говорил: «Улисс, я последую за тобой, повинуясь необходимости, и потому, что хочу умереть. Я дочь Приама и сестра Гектора, мое ложе, которое в прошлом считалось достойным царей, не примет чужого повелителя. Я добровольно отказываюсь от дневного света».
Гекуба, неподвижно распростершаяся на земле, вдруг поднялась и в отчаянии крепко обняла свою дочь. Поликсена мягко, но решительно отвела старческие руки, сковывавшие ее. Казалось, она говорила: «Матушка, не унижайся перед властелином. Не жди, пока, оторвав от меня силой, он постыдно оттащит тебя в сторону. Лучше, дорогая матушка, протяни мне свою морщинистую руку и приблизь свои впалые щеки к моим губам».
Страдальческое лицо Таис было прекрасно. Толпа была признательна этой женщине, с божественной грацией рассказывавшей о жизненных проблемах и переживаниях, а Пафнутий, прощая ей ее сегодняшнее величие в предвидении будущего смирения, заранее радовался тому, что подарит небесам такую святую.
Представление близилось к концу. Гекуба упала замертво, а Поликсена, ведомая Улиссом, приблизилась к могильному холму, окруженному известными военачальниками. Под звуки траурной музыки она взошла на холм, на вершине которого сын Ахилла, подняв золотую чашу, совершал возлияния в память героев. Когда жрецы подняли руки, чтобы схватить ее, она сделала знак, что хочет умереть свободной, как подобает царственной особе. Затем, разорвав тунику, она указала на свое сердце. Пирр, отвернувшись, вонзил в него меч, и кровь хлынула из белоснежной груди девы, которая, запрокинув голову, со взглядом, передающим ужас смерти, упала на землю с надлежащей благопристойностью.
Пока воины прикрывали тело жертвы и осыпали его лилиями и анемонами, крики ужаса и рыдания раздавались со всех сторон, а Пафнутий, взобравшись на свою скамью, пророчествовал громогласно:
– Язычники, гнусные поклонники демонов! И вы, ариане, более презренные, чем идолопоклонники, учитесь! Вы увидели образ и символ. Эта история имеет мистический смысл, и вскоре женщина, которую вы здесь видите, будет принесена в жертву как блаженный символ непорочности Богу воскресшему!
Толпа потоком бросилась к выходу. Антинопольский настоятель, ускользнув от удивленного Дориона, пошел к выходу, продолжая пророчествовать.
Через час он постучался в дверь Таис. Актриса жила тогда в богатом квартале Ракотис[25], возле гробницы Александра, в доме, окруженном тенистыми садами, с искусственными скалами и ручейком, который протекал меж рядами тополей. Старая черная рабыня в кольцах открыла дверь и спросила, что ему нужно.
– Я хочу видеть Таис, – ответил он. – Бог мне свидетель, я специально пришел повидаться с ней.
На нем была богатая тога, и говорил он повелительно, поэтому рабыня впустила его.
– Ты найдешь Таис, – сказала она, – в гроте Нимф.
1
Иссоп – пряное растение, которое использовалось также в качестве кропила. (Здесь и далее прим. пер.)
2
Фиваида – название Верхнего Египта, от греческого названия его столицы Фив.
3
Согласно греческому мифу, сын Прометея, правитель, переживший потоп.
4
Согласно греческим мифам, Венера – богиня страсти, Леда полюбила Зевса, явившегося к ней в образе лебедя, а Пасифая воспылала страстью к быку.
5
Земля Арсинои – Египет.
6
Ариане – последователи арианства, раннего христианского учения, утверждавшего неединосущность Бога Сына с Богом Отцом.
7
Приап – в греческой мифологии бог садов и полей, покровитель коз, овец, виноделия. Позднее стал считаться покровителем сладострастия и чувственных наслаждений.
8
Серапис – греческий бог изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни, которого изображали с египетской атрибутикой. Серапису, считавшемуся защитником Александрии, был посвящен храм Серапеум в Александрии; в храме также располагалось отделение Александрийской библиотеки.
9
Аттическая соль – тонкое остроумие.
10
Амелий и Порфирий – античные философы, представители неоплатонизма.
11
Милетские рассказы – несохранившееся произведение греческого автора II века до н. э. Аристида Милетского, имевшее, как предполагается, эротическое содержание.
12
Гай Корнелий Галл – древнеримский общественный деятель, полководец и лирический поэт эпохи начала принципата, один из основателей римской элегии.
13
Авзония – поэтическое название Италии.
14
Демиург – в античной философии: создатель вещей чувственно воспринимаемого космоса; под логосом понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, существенные закономерности мира; эон – понятие, обозначающее жизненный путь человека.
15
Император Востока – византийский император.
16
Афанасий Великий – архиепископ Александрийский, один из греческих Отцов Церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики. Один из наиболее известных противников арианства.
17
Эвностос – западный порт древней Александрии.
18
Анаксагор – древнегреческий философ, математик и астроном.
19
Аспасия – гетера, возлюбленная Перикла.
20
Квинт Росций Галл – известный древнеримский комический актер времен поздней Римской республики, театральный новатор.
21
Согласно учению Эпикура, удовольствия – начало и конец блаженной жизни, однако не все желания достойны удовлетворения, поскольку за некоторыми из них могут последовать страдания.
22
Сын Пелея – Ахилл.
23
Ида – холм вблизи Трои, где Парис принял решение, ставшее поводом для Троянской войны.
24
Лаис – знаменитая греческая гетера.
25
Ракотис – древнее египетское название Александрии.