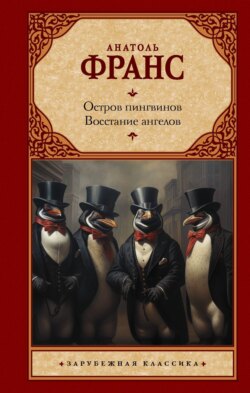Читать книгу Остров пингвинов. Восстание ангелов - Анатоль Франс, Анатоль Франс - Страница 2
Остров пингвинов
Предисловие
ОглавлениеПри всем разнообразии развлечений, казалось бы, занимающих меня, жизнь моя посвящена лишь одному предмету. Вся она безраздельно служит осуществлению великой задачи: я составляю историю пингвинов. И работаю упорно, несмотря на постоянно возникающие трудности, порою непреодолимые.
Я производил раскопки, извлекая из-под земли древние памятники этого народа. Камни были первыми книгами человечества. Я изучал камни, представляющие собою как бы начальную летопись пингвинов. На берегу океана мною был разрыт еще никем не тронутый древний курган; я обнаружил в нем, как это обычно бывает, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты, а также монетку в двадцать су с изображением французского короля Луи Филиппа I.
Что касается времен исторических, то здесь мне оказала большую помощь летопись Иоанна Тальпы, монаха Бергардинского монастыря. Я черпал из нее обильные сведения, тем более важные, что по истории пингвинского раннего средневековья другими источниками мы до сих пор не располагаем.
Начиная с XIII века имеется уже более богатый материал – более богатый, но и более зыбкий. Писать историю – дело чрезвычайно трудное. Никогда не знаешь наверное, как все происходило, и чем больше документов, тем больше затруднений для историка. Когда сохранилось только одно-единственное свидетельство о некоем факте, он устанавливается нами без особых колебаний. Нерешительность возникает лишь при наличии двух или более свидетельств о каком-либо событии, так как они всегда противоречат одно другому и не поддаются согласованию.
Конечно, предпочтение того или иного исторического свидетельства всем остальным покоится нередко на прочной научной основе. Но она никогда не бывает настолько прочна, чтобы противостоять нашим страстям, нашим предрассудкам и нашим интересам или препятствовать проявлениям легкомыслия, свойственного всем серьезным людям. Вот почему мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно.
О трудностях, возникавших передо мною при составлении истории пингвинов, я не раз заводил речь с археологами и палеографами – как пингвинскими, так и иностранными. Но вызывал к себе одно лишь презрение. Они смотрели на меня с сострадательной улыбкой, в которой можно было ясно прочесть: «Да разве мы, историки, пишем историю? Разве мы стремимся извлечь из текста, из документа хотя бы крупицу жизни или правды? Мы попросту, без мудрствований, издаем тексты. Мы во всем придерживаемся буквы. Только буква обладает достоверностью и определенностью. Духу эти качества недоступны: мыслить – значит фантазировать. Писать же историю могут только пустые люди: тут нужна фантазия».
Все это я читал во взгляде и в улыбке наших известных палеографов, и беседа с ними глубоко меня обескураживала. Но как-то раз, после разговора с одним из светил сигиллографии, повергшего меня в полное уныние, мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Однако ведь существуют же историки, ведь не совсем же вывелась эта порода людей! В Академии нравственных наук их сохранилось пять-шесть. Они не издают текстов – они пишут историю. Уж они-то не скажут мне, что лишь пустые люди способны к такого рода занятиям».
И я приободрился.
На другое утро, как выражаются обычно (или наутро, как следовало бы сказать), я пошел к одному из них, человеку преклонных лет и тонкого ума.
– Милостивый государь! – сказал я ему. – Прошу вас помочь мне своим просвещенным советом. Я все силы свои полагаю на то, чтобы составить историю, но у меня ничего не выходит!
Он пожал плечами.
– Зачем же, голубчик, так утруждать себя составлением исторического труда, когда можно попросту списывать наиболее известные из имеющихся, как это принято? Ведь если вы выскажете новую точку зрения, какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте его просвещать, он завопит, что вы оскорбляете его верования. Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение. Неужели, сударь, вы думаете, – прибавил мой собеседник, – что я добился бы такого признания и почета, если бы вводил в свои исторические книги какие-нибудь новшества? Ну что такое новшество? Дерзость – и только!
Он встал. Я поблагодарил его за любезный прием и пошел к двери. Он меня окликнул:
– Еще два слова. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, не упускайте в ней ни малейшего повода прославить добродетели, составляющие основу всякого общества: почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков, этот краеугольный камень общественного порядка. Заверьте читателей, что происхождение собственности, благородного сословия и жандармерии будет рассмотрено в вашем труде с подобающим уважением. Предупредите, что вы допускаете возможность вмешательства сверхъестественных сил в ход исторического процесса. При этих условиях вы стяжаете успех у благомыслящей публики.
Я продумал эти разумные указания и стал всемерно руководствоваться ими в своей работе.
Не буду здесь говорить о пингвинах до их превращения. Они интересуют меня лишь с того момента, когда из области зоологии они перешли в область истории и богословия. Ведь именно пингвины были превращены в людей великим святым Маэлем. Но здесь требуется кое-что разъяснить, поскольку в настоящее время термин «пингвин» дает повод к недоразумениям.
По-французски пингвинами называются арктические птицы, принадлежащие к семейству альцидовых; отряд же сфенисцидовых, населяющих антарктические моря, мы называем маншотами. Такое наименование находим мы, например, у г-на Ж. Лекуэнта в [1]его отчете о плавании на «Belgica». «Изо всех птиц, населяющих область Герлахского пролива, – пишет он, – наибольший интерес представляют, несомненно, маншоты. Их иногда ошибочно именуют южными пингвинами». Доктор Ж. Б. Шарко, напротив, утверждает, что именно тех антарктических птиц, которых мы называем маншотами, и следует считать единственно настоящими пингвинами, и ссылается на то, что у голландцев, достигших в 1598 году Магелланова мыса, эти птицы получили название pinguinos, очевидно, за свою тучность. Но если маншотов надо называть пингвинами, то как же в таком случае будут называться пингвины? Доктор Ж. Б. Шарко не дает указаний, да, по-видимому, это его ничуть и не заботит[2].
Ну что ж! Присваивает ли он впервые своим маншотам название пингвинов или только восстанавливает его, спорить не приходится. Как первый исследователь этих птиц, он тем самым получил право дать им любое название. Но по крайней мере пусть предоставит он и северным пингвинам право оставаться пингвинами. Пускай же будут существовать пингвины южные и пингвины северные, антарктические и арктические, альцидовые (или прежние пингвины) и сфенисцидовые (или прежние маншоты). При этом возникнут, быть может, некоторые затруднения для орнитологов, озабоченных описанием и классификацией перепончатолапых; встанет, конечно, вопрос о том, удобно ли, в самом деле, одинаково называть два разные семейства птиц, населяющие полярно противоположные области и отличающиеся к тому же одно от другого целым рядом признаков, как то: строением клюва, крыльев и лап. Меня же такое несоответствие нисколько не смущает. Сходство между моими пингвинами и пингвинами г-на Ж. Б. Шарко разносторонней и глубже различий; как для тех, так и для других характерен невозмутимо-спокойный, важный вид, какое-то комичное достоинство, дружелюбная доверчивость, добродушное лукавство, неуклюжая торжественность движений. Те и другие миролюбивы, болтливы, чрезвычайно любопытны, отличаются живым интересом к вопросам пингвинской общественной жизни и, быть может, не вполне чужды зависти и тщеславия.
У моих гиперборейцев, по правде сказать, крылья вовсе не чешуйчатые, а покрыты мелкими перышками; хотя ноги у них не так сильно отставлены назад, как у их южных собратьев, но ходят они так же: горделиво, враскачку, грудь колесом, голова кверху; а выдающийся вперед клюв, os sublime, послужил одним из важных поводов к ошибке христианского проповедника, принявшего их за людей.
Настоящий труд мой, следует признать, относится к истории в старом понимании этого слова – то есть в известной последовательности излагает события, о коих сохранилась память, и указывает по мере возможности их причины и следствия, – так что принадлежит скорее к области искусства, чем науки. Существует мнение, что подобный метод перестал уже удовлетворять умы, требующие точных знаний, и что древняя Клио по нынешним временам попросту болтунья. И, разумеется, когда-нибудь появится история более достоверная, исследующая условия существования, устанавливающая, что производил и потреблял тот или иной народ в ту или иную эпоху в разных областях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой, соблюдая точность, старой истории недоступную. Но для этого необходимо множество статистических данных, коими народы – и, в частности, пингвины – до сих пор не располагают. Возможно, что современные нации дадут когда-нибудь материал для создания подобного рода истории. Что же касается прошлого, то, боюсь, придется ограничиваться и впредь повествованием на старый лад. Достоинства такого повествования зависят главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика.
Как сказал один из великих писателей Альки, жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств. Пингвиния в данном случае не исключение, однако в ее истории попадаются страницы, способные даже вызвать восторг, и надеюсь, я достаточно осветил их.
Долгое время пингвины отличались большой воинственностью. Один из них, а именно Жако Философ, оставил маленькую картинку их нравов, которую я приведу, – уверен, к удовольствию читателей:
«Мудрый Грациан объезжал Пингвинию во времена последних Драконидов. Однажды, углубившись в зеленеющую долину, где в чистом воздухе звенели колокольчики коровьего стада, он присел отдохнуть на скамью под сенью дуба, возле какой-то хижины. На пороге женщина кормила ребенка грудью; рядом другой ребенок, мальчик, играл с большой собакой; слепой старик, греясь на солнце, впивал полуоткрытыми устами теплоту ясного дня.
Хозяин дома, молодой человек богатырского сложения, предложил Грациану хлеба и молока.
Совершив сельскую трапезу, мудрец из страны дельфинов сказал:
– Благодарствуйте, милые жители милой страны! Как все у вас дышит весельем, сердечным согласием и миром!
В это время мимо прошел пастух, наигрывая на волынке какой-то марш.
– Что это за резкие звуки? – спросил Грациан.
– Это гимн, призывающий к войне с дельфинами, – ответил крестьянин. – У нас все поют его. Младенцы знают его прежде, чем научатся говорить. Все мы – истинные пингвины.
– Вы не любите дельфинов?
– Ненавидим!
– По какой же причине вы их ненавидите?
– Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?
– Соседи.
– Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.
– Разве это причина для ненависти?
– Разумеется. Сосед – значит, враг. Посмотрите на это поле, рядом с моим. Его хозяина я ненавижу больше всех на свете. После него злейшие враги мои – жители вон той деревни, что лепится по горному склону с другой стороны долины, пониже березовой рощи. В ущелье, стиснутом горами, только и есть что две деревни – наша и та; они и враждуют одна с другой. Стоит нашим парням встретиться с их парнями, как сейчас же начинается перебранка, а там и потасовка. И вы хотите, чтобы пингвины не питали вражды к дельфинам. Неужели вы не понимаете, что такое патриотизм! Нет, из моей груди рвутся лишь клики: “Да здравствуют пингвины! Смерть дельфинам!”»
Тринадцать веков подряд пингвины вели войны против всех народов на свете – с неослабевающим пылом, хотя и с переменным успехом. Потом, за какие-нибудь несколько лет, они прониклись отвращением к тому, что так долго любили, и стали отдавать решительное предпочтение миру, выражая новые чувства, конечно, с подобающей сдержанностью, но от всей души. Их генералы прекрасно приспособились к новым веяниям; вся армия, офицеры, унтер-офицеры, рядовые, новобранцы и ветераны не за страх, а за совесть прониклись этим духом. Одни только бумагомараки и библиотечные крысы выражали недовольство, да безногие инвалиды все никак не могли утешиться по поводу такой перемены.
Упомянутый Жако Философ составил нечто вроде нравоучительного рассказа, где с большой комической силой были изображены разные деяния человечества; для этого рассказа он позаимствовал многие черты из истории своей собственной страны, своего народа. Некоторые спрашивали его, зачем он создал эту карикатуру на историю человечества и какую пользу может она принести его родине.
– Превеликую пользу, – отвечал философ. – Когда мои соотечественники-пингвины узрят себя представленными на такой манер и лишенными всяких прикрас, они будут справедливее судить о своих деяниях и, быть может, станут разумнее.
Я старался не упустить в своей истории ничего, способного заинтересовать людей искусства. Они найдут здесь особую главу, посвященную пингвинской живописи средних веков, и если мне не удалось развить эту тему с той полнотой, как хотелось бы, то не по моей вине, в чем можно убедиться, прочтя о страшном случае, описанием которого я и заканчиваю настоящее предисловие.
В июне прошлого года я возымел мысль посоветоваться по поводу происхождения и развития пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром, просвещенным автором «Всеобщего летописания живописи, ваяния и зодчества».
Меня проводили к нему в кабинет, и за письменным столом с цилиндрической крышкой, среди невероятного нагромождения бумаг, я увидел маленького человечка в золотых очках, беспрестанно мигающего подслеповатыми, чрезвычайно близорукими глазками.
Компенсируя недостаток зрения, он исследовал внешний мир своим длинным подвижным носом, наделенным тончайшей чувствительностью. При помощи этого органа Фульгенций Тапир и общался с царством красоты и искусства. Установлено, что во Франции музыкальные критики по большей части глухи, а критики в области живописи – слепы. Это помогает им самоуглубляться, что необходимо для эстетического мышления. Если бы Фульгенций Тапир обладал зрением, способным различать формы и краски, облекающие полную тайн природу, – разве достиг бы он, преодолев гору документов, опубликованных в печати и рукописных, вершины доктринального спиритуализма? Разве воздвиг бы он величайшую теорию, согласно которой искусство всех времен и народов в своем развитии устремлено было к единой высокой цели – Французскому Институту!
На стенах кабинета, на полу, даже под потолком громоздились кипы бумаг, чудовищно разбухшие папки, ящики, набитые неисчислимым множеством карточек, – и, полный восхищения, а вместе с тем и ужаса, я созерцал эти хляби учености, готовые разверзнуться.
– Дорогой мэтр, – произнес я взволнованно, – прибегаю к вашей неисчерпаемой снисходительности и таким же неисчерпаемым познаниям. Не согласитесь ли вы руководить моими изысканиями в столь трудной области, как происхождение пингвинского искусства?
– Милостивый государь, – отвечал мне мэтр, – в моем распоряжении все искусство, да, да, все искусство, разнесенное на карточки в алфавитном порядке, а также по содержанию. Считаю своим долгом предоставить вам все относящееся к пингвинам. Поднимитесь на эту стремянку и выдвиньте вон тот ящик, наверху. Вы найдете в нем все, что вам надобно.
Я повиновался, весь дрожа. Но едва я выдвинул злополучный ящик, как из него посыпались голубые карточки и, скользя у меня между пальцев, полились дождем. Вслед за этим – видимо, из чувства солидарности – пооткрывались соседние ящики, и оттуда вырвались целые потоки карточек, розовых, зеленых, белых, а после этого один за другим все ящики стали извергать карточки разного цвета, и те с шумом хлынули вниз, подобно горным водопадам апрельскою порой. В одну минуту пол покрылся толстым слоем бумаги. Изливаясь с возрастающим гулом из своих неисчерпаемых хранилищ, она все яростней обрушивалась с высоты. Утопая в ней по колени, Фульгенций Тапир при помощи своего внимательного носа следил за катаклизмом. Он понял причину происшедшего и побледнел от ужаса.
– Какие богатства искусства! – воскликнул он.
Я позвал его, наклонился, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, начинавшую гнуться под ливнем. Слишком поздно! Подавленный, полный отчаяния, жалкий, потеряв свою бархатную ермолку и золотые очки, тщетно отбивался он коротенькими ручками от новых и новых волн, захлестнувших его по самые плечи. Вдруг налетел целый смерч карточек и закружил его в гигантском водовороте. На какую-то секунду в пучине промелькнула блестящая лысина ученого и его толстенькие ручки, затем бездна сомкнулась – ни звука, ни движения, а над нею продолжал бушевать потоп. Чтобы самому не утонуть подобным же образом на стремянке, я выскочил наружу, проломив верхнее стекло окна.
Киберон, 15 сентября, 1907 г.
1
Ж. Лекуэнт. В стране маншотов. Брюссель, 1904, ин-октаво. – Примеч. авт.
2
Ж. Б. Шарко. Дневник французской антарктической экспедиции. Париж. 1903, 1905, ин-октаво. – Примеч. авт.