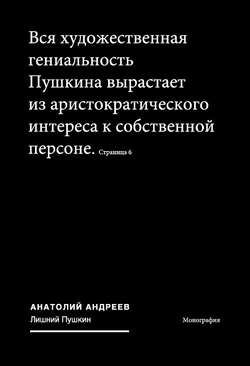Читать книгу Лишний Пушкин - Анатолий Андреев - Страница 2
1. Культурный архетип лишнего человека
(роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)
ОглавлениеЧеловек – велик.
Человек – комичен.
Человек – трагичен.
Велик – благодаря разуму, который выделяет человека из природы и отделяет от нее. Человек становится венцом творящей природы, ибо только ему дано с помощью сознания познать её законы.
Комичен – вследствие своей фатальной подвластности природе, реализующей своё царственное воздействие на человека с помощью психического, чувственно-эмоционального (внесознательного) управления, базирующегося на инстинктивных программах.
Трагичен – потому что вынужден носить в себе создавшие его непримиримые начала: величие и комичность, вынужден примирять два разрывающих его полюса, несмотря на то, что не в силах сделать это.
Человек – целостен: велик, комичен и трагичен одновременно. Но по-разному. Разница заключается в том, хватает ли у него величия (способности осознавать), чтобы разглядеть свою реальную силу и слабость, или он мистифицирует, комически искажает столь же реальную зависимость от «сверхъестественных» «сил зла». Видеть свою комическую изнанку, осознавать себя как часть природы – тоже один из признаков величия. Быть нерассуждающим рабом природы, смиренно подчиняться тобой же со страху выдуманным богам и смирение это лицемерно ставить себе же в заслугу – вот высшая степень комизма.
Соответственно трагизм, духовное родовое пятно личности, также приобретает величественный или комический оттенок.
Такова одна из современных версий о духовной сущности и структуре личности – версия, вобравшая в себя по крупицам всё наиболее жизнеспособное в духовном плане, создававшееся веками и поколениями лучших умов человечества. Думается, есть все основания считать Александра Сергеевича Пушкина одним из тех, кто чувствовал и понимал глубину и величие этой версии и сотворил один из самых её впечатляющих художественных вариантов.
В 1827 году, размышляя о феномене художественного «сплава» и составляющих его компонентах (следовательно, в определённом смысле – о природе художественного творчества), Пушкин замечает: «Есть различная смелость: Державин написал: «орёл, на высоте паря,» когда счастие «тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло».
Описание водопада: Алмазна сыплется гора
С высот и проч.
Жуковский говорит о боге: Он в дым Москвы себя облек…
Крылов говорит о храбром муравье, что
Он даже хаживал на паука». [1]
Далее, приведя характерные примеры из Кальдерона и Мильтона, иллюстрирующие ту же мысль, Пушкин обобщает: «Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические». [2]
Ещё один род смелости – употреблять до того не введённые в литературный оборот слова – Пушкин оценивает следующим образом: «Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!» [3]
Наконец, гениальный поэт, выступая в данном случае как безупречный аналитик, подводит итог: «Есть высшая смелость (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.): смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию, – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'а, Гёте в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе». [4]
Итак, Пушкин различает смелость стилевую, новаторство образно-поэтического порядка, и смелость («высшую смелость») собственно содержательную, восходящую к более или менее развёрнутым представлениям о концепции личности. «Изобретение», «план обширный» – это не что иное, как порождённая творческой мыслью новая, гениально обобщённая до степени типа духовная программа. Причём приоритет духовно-содержательного компонента творчества, недвусмысленно выделенный Пушкиным, является для него же не беглым заметочным эпизодом, а тщательно продуманной принципиальной позицией. Это подтверждается и другими мыслями Пушкина, высказанными в разное время и по разным поводам. «Что такое сила (здесь и далее в цитате курсив Пушкина – А.А.) в поэзии? сила в изобретении, в расположении плана (т. е. в концепции личности – А.А.), в слоге ли?» «Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира – всё более её требуют творчества (fantaisie) воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?
Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». [5]
Речь, конечно, не о трактовке Пушкиным проблемы, традиционно обозначаемой как соотношение содержания и формы. Слишком общие высказывания мало что прояснят в этом смысле. Однако слова поэта-теоретика существенны в другом отношении (тогда, правда, они не несли того дискуссионного подтекста, который актуализировался в наше время, когда искусство вздумало начинаться «там, где кончается человек»): у него нет сомнений, что художественная ценность произведения тем выше, чем более значима его духовная подоплёка, ставшая предметом художественного исследования.
Именно внеэстетическая проблематика требует «единого плана», который следует понимать, конечно, не как собственно эстетический план, некую композицию себе, как таковую – а как отражение сопрягаемых мировоззрений героев, упорядоченную систему ценностей, организованную в иерархическую вертикаль. Создание подобной иерархии (единого плана) и требует «постоянного труда». Пушкин прекрасно отдавал себе отчёт в том, что «истинно великое» может быть только по человечески великое, но никогда – как собственно эстетическая, поэтическая смелость.
Работать, творить – это значит прежде всего мыслить. Глубиной мысли измеряется духовная и творческая зрелость. Такой вывод находит подтверждение и в наблюдениях над собственным творчеством. Вот, в частности, строки из письма к Н.Н. Раевскому-сыну, свидетельствующие о чуткости Пушкина к «смутному» моменту превращения проблемы духовной в собственно творческую (письмо относится ко времени работы над трагедией «Борис Годунов» – произведению, в основу которого положен «план», плод собственного постижения философии власти): «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (выделено мной – А.А.). [6]
Попытаемся с этих позиций взглянуть на роман в стихах «Евгений Онегин» и ответить на ряд вопросов: чем определяется его никем не оспариваемое «истинное величие»? Есть ли в нём «высшая смелость» – смелость «изобретения», творческий подвиг, реализовавшийся в «едином плане», и в чём, наконец, суть этого плана?
Почему в качестве «теста» на духовную и художественную зрелость избран именно «Евгений Онегин»?
Расчленение пушкинской творческой биографии на три этапа, три семилетия (ранний – 1816–1823; зрелый – 1823–1830; поздний – 1830–1837) является в значительной мере условным. [7] Вместе с тем центральное место «Евгения Онегина», работа над которым хронологически совпадает со «зрелым» семилетием, в творческой и духовной судьбе поэта не вызывает сомнений. «Запечатлевшая процесс формирования пушкинской картины мира (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.), эта книга стала бесспорно вершинным явлением национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода программу русского классического романа как центрального жанра нашей литературы; она в сжатом, свёрнутом виде предвосхитила основные узлы человеческой проблематики этой литературы; (…). Не будет ничего удивительного, если со временем обнаружится, что в «Онегине» – заведомо исключающем возможность прямого следования его неповторимой «традиции» – содержится тем не менее также и программа русского литературного развития в целом (…)». [8]
Роман в стихах «Евгений Онегин» и будет интересовать нас именно в данном, исключительном своём качестве – в качестве «программы русского классического романа», а также «программы русского литературного развития в целом». Основополагающее начало «программы» сосредоточено в «пушкинской картине мира», в которой особым образом проинтерпретированы «основные узлы человеческой проблематики». Иначе говоря, Пушкин чётко сформулировал (настолько чётко, что в характере постановки проблемы содержалось потенциальное решение), а затем и «решил» проблему, творчески воплотил, «изобрёл» свой «план», «картину мира», внутренне согласованную систему духовных ценностей в форме художественной модели. Познать же образную модель в отношении её «истинного величия» можно только одним способом: рационально-логически «разложить» её, выявить сущностное ядро.
К сказанному следует добавить, что уникальность «Онегина», где, словно в зерне, в «свёрнутом виде» была заложена логика пути одной из немногих величайших литератур мира, видится ещё и в том, что общекультурное его значение выходит далеко за рамки национальной или, если угодно, цивилизационные (России как цивилизации). Духовно-эстетический масштаб романа, его совместимость с разноуровневыми, разноплоскостными, разнородными измерениями и точками отсчёта, его предрасположенность к любой конструктивно, жизнеутверждающе ориентированной ментальной программе – его, коротко говоря, целостная природа, открытая законченность, которая является одновременно моментом целостности иных уровней и порядков (а потому способная репрезентировать свойства универсума) – требует многопланового контекста. «Евгений Онегин» – это явление и поэтики (стиля), и национального самосознания, и духовно-психологических архетипов homo sapiens'а, и спектра нравственно-философских смыслов, и «тайной» личной свободы, и явной общественной необходимости – и т. д. и т. д. Взаимные метастазы макро– и микроуровней с трудом поддаются умозрительному расчленению.
И тем не менее мы, в свою очередь, попытаемся рассмотреть «Онегина» в таком ракурсе, который даёт возможность обнаружить «зерно» целостного произведения, ту «программу программ», которая определила духовный состав и поэтическую структуру (в широком смысле – форму) романа в стихах, и, далее, заложила потенциал эффективного воздействия на все стороны и уровни личного и общественного сознания.
Пушкин счёл необходимым предпослать роману эпиграф, в котором заинтересованный читатель мог бы отыскать много любопытного: «Проникнутый тщеславием, он обладал ещё той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.)». [9] Во-первых, он написан по-французски – на языке страны, славящейся своей рациональной культурой и высоко чтущей ее. Во-вторых, прозаический отрывок пронизан аналитизмом, направленным на выявление неоднозначного характера соотношений разных, даже противоположных качеств и свойств личности: тщеславие в сочетании с особого рода гордостью (следствие чувства превосходства, быть может мнимого), порождающей равнодушие в оценке своих как добрых, так и дурных поступков. Перед нами образец того, что можно назвать вмешательством ума в дела сердечные, или, как выразится чуть ниже романист, «ума холодные наблюдения». Иначе говоря, смысловой подтекст основан на разведении функций «ума» и «души». В-третьих, важно, чтобы сочинённый эпиграф был якобы извлечением из частного письма, что свидетельствует об исключительном внимании автора к частной, личностно ориентированной жизни (своеобразному культу личности), единственно достойной просвещённого интереса читателей. В-четвёртых, отметим духовную доминанту анонимно разбираемой анонимной личности (но по закону художественного сцепления ситуаций, эпизодов и фрагментов переносимой на героя одноимённого романа): чувство превосходства. Выделенность, суверенность личности – вновь на первом плане. В-пятых, проникновение подобных характеристик в частную переписку – свидетельство укорененности обозначенного типа личности в жизни, распространенности его и невымышленности. В-шестых, предпослание французского текста русскому роману наводит на целый ряд «сопоставительных» ассоциаций, среди которых выделим погружение «Онегина» в общеевропейский культурный контекст, связывающий главного героя частными, глубинными нитями с духовных климатом эпохи (эти ассоциации будут поддержаны и развиты в романе: вспомним, например, круг чтения, формировавший духовный кругозор Онегина, Татьяны, Ленского).
Следующее за эпиграфом посвящение П.А. Плетнёву («Не мысля гордый свет забавить…»), закрепляет обоснованность противостояния личности («души прекрасной», способной оценить «поэзию живую и ясную», «высокие думы и простоту») и «гордого света». Несмотря на то, что «ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы» подаются как не вполне достойный «залог» «души прекрасной, святой исполненной мечты», у читателя возникает двойственное впечатление: наблюдения и заметы вряд ли порадуют целеустремлённую, пристрастную «душу» прежде всего своей непредвзятостью; тем не менее автор не стремится разделить высокие, но, очевидно, иллюзорные идеалы, а отдаёт предпочтение реальной жизни. «Пристрастному» («рукой пристрастною прими»), субъективному автор сознательно противопоставляет холодную беспристрастность, объективность. Вновь мы сталкиваемся с размежеванием, характерным для эпиграфа: «хотел бы я» разделить мечты и иллюзии с прекрасной душой, но ум (на основании «сердца горестных замет») заставляет видеть реальность такой, какова она есть. Душа приукрашивает жизнь (из лучших, надо полагать, побуждений), обитает в мире миражей, а ум адекватно отражает жёстокую реальность, развенчивая (тоже из лучших побуждений: из уважения к истине) «святые мечты», жить с которыми, возможно, и приятно, но которые не соответствуют действительности.
Установка персонажа, которого принято называть «образ автора», вполне ясна. Характеризуя свой «залог» (роман) как «собранье пёстрых глав», повествователь комментирует далее пестроту, понимая её как разнородность (глав – «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных»), спаянную тем не менее («собранье» глав) наблюдениями. Пёстрый контекст необходим, чтобы одну мировоззренчески весьма значительную фигуру, выросшую из «пестроты» и вступившую с ней в многосложные отношения, показать всесторонне. Такую установку следует оценить как диалектическую, способствующую созданию многоуровневой целостности произведения.
Все указанные смыслы, смысловые цепочки и узоры, складывающиеся в смысловую тенденцию, обнаруженную в самом начале романа, можно было бы считать достаточно произвольными, если бы они не были актуализированы и детерминированы более общим, концептуальным контекстом всего произведения (именно на это ориентирует нас методология целостного анализа [10]). В эпиграфе или посвящении – моментах целого – ощутима логика всего целого. В этой связи интересно отметить ещё один штрих: «наблюдения» и «заметы» сам автор относит к возрасту, который называет «незрелыми и увядшими летами». Итак, «образ автора» (который, думается в данном произведении в равной мере можно считать как лирическим героем, так и повествовательным) поделился чрезвычайно ценной информацией: будущая мировоззренческая концепция и модель жизни – плод «незрелых», но уже «увядших» лет. Если незрелость поражена недугом увядания – следовательно, лирический герой духовно весьма близок Онегину, чья мировоззренческая траектория недвусмысленно очерчена в этих оксюморонных эпитетах (всё это потом в полной мере подтвердится в романе).
Речь, конечно, не о том, что перед нами духовные близнецы или двойники. В дальнейшем повествователь специально подчеркнёт недопустимость и ошибочность отождествления, которое значительно обеднило бы роман, лишив его перспективы, восходящей категории высшей авторской нравственно-философской нормы:
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной.
В чём-то они даже антиподы. Однако безвременно увядшие лета – слишком прозрачный намёк, чтобы им пренебречь. Духовное родство (родство по недугу) – это, с одной стороны, свидетельство уже заявленной типичности, невыдуманности Онегина, а с другой – залог глубокого, заинтересованного духовного исследования (как себя самого: есть личный мотив, личный интерес). Принцип параллельного героя – чрезвычайно ёмкий художественный принцип, очень удачно использованный Пушкиным.
Указанный мотив родства имеет и ещё одну сторону. Пушкин сознательно и дерзко размывает грань, отделяющую личность писателя от личности вполне условного героя – «образа автора». В определённом смысле Пушкин делает себя (точнее, представление о себе, основанное на субъективной самооценке) почти персонажем художественного произведения. Тем самым он подчёркивает условность границ между жизнью и литературой.
Такой демонстративно обнажённый вариант – достаточно редкий случай для классической литературы. На это способны только те, для кого главное в жизни не литература, а жизнетворчество, отражённое в литературе.
Таким образом, Онегин становится модификацией того духовного типа, который воплощён и в образе автора, и, отчасти, в жизнетворчестве самого реального Пушкина. Эти ипостаси взаимно отражаются, подчёркивая и обогащая разнонаправленность тенденций, составляющих суть их базового архетипа. Онегина необходимо рассматривать и в данном «однородном», архетипическом контексте – в этом также проявляется свойство целостности, присущее взаимосвязанным обществу, личности художественному произведению.
Между прочим, в проекции жизнетворчества на литературу (уже новейшую литературу, с богатейшей культурой взаимообщения и взаимообогащения духовного и эстетического) заключается смысл одной из заложенных Пушкиным «программ русского литературного развития в целом».
Познание художественной целостности предполагает не просто многосторонний, многоаспектный аналитический обзор, но выявление внутренне упорядоченной, многоуровневой структуры (так сказать, познание законов органического взаимосочетания и взаимосочленения горизонтальной структуры с вертикальной). Смысловой центр (художественное ядро) разворачивается на всех остальных уровнях (содержательных и поэтических), и познание их специфических функций и свойств есть одновременно познание этого «ядра».
Что же считать таким ядром в произведении (или, иначе сказать, что составляет сердцевину творческого метода писателя)?
Ответ на этот вопрос во многом содержится уже в первой главе, которая по отношению ко всему роману является тем же, чем роман – по отношению к русской литературе: именно здесь обнаруживается смысловой генетический код, семантический первотолчок, зерно концепции (зерно метода). «Первотолчок» этот облечён в явление, которое обозначено как «недуг», или, по-другому, внутреннее, экзистенциальное, как сказали бы сейчас, противоречие («русской хандры»), какие противоположные начала в сознании и душе Онегина вступили в конфликт – этот вопрос станет главным для всего романа.
Намёки-сигналы, тревожные предвестники (или отголоски: это как посмотреть) конфликта в форме своеобразных смысловых вкраплений можно обнаружить уже в эпиграфе и посвящении. А далее – последовательно и целенаправленно отслеживается «странное», т. е. противоречивое, неподдающееся идентификации в рамках одномерной логики, поведение героя (сопровождаемое противоречивым отношением к нему повествователя), непосредственно подводящее к «недугу» и, по закону диалектической (целостной) обусловленности, само чреватое этим недугом (то же самое можно сказать и о «параллельном» отношении повествователя).
Странный – ключевое для оценки героя слово. В самом конце романа, расставаясь с Онегиным, автор концентрирует своё отношение в итоговой характеристике:
Прощай и ты, мой спутник странный…
Едва успел читатель освоить элегантно оброненный полунамёк на родственность душ (см. посвящение), как тут же он должен как-то совместить авансом возникшую полусимпатию к герою с отношением, вызванным почти неприкрытым цинизмом, которым проникнут весь первый (и единственный в романе) внутренний монолог Онегина (1 строфа 1 главы).
Как только воспринимающее сознание «приходит в себя» и вырабатывает адекватную оценку цинизма с гуманистической нравственностью определяемых позиций, вымышленный автор романа тут же, без всякого перехода берёт «циника» под моральную защиту («Онегин, добрый мой приятель»). Но и это ещё не всё: именно в этот момент мы узнаём, что к Онегину благосклонен не условный автор, а вполне реальный создатель «Руслана и Людмилы»:
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа (выделено мной – А.А.)
……………………………………….
Позвольте познакомить вас.
Такая рекомендация рассчитана на то, чтобы обескуражить читателя. Активная нравственная поддержка персонажа, «награждённого» очевидным моральным изъяном, конечно, приводит в недоумение, вновь заставляет корректировать к нему отношение, идя вслед за автором и Пушкиным. И это, безусловно, не столько формальное запутывание, имеющее целью раздразнить читательский аппетит, сколько апелляция к «толковому» читателю, содержащая серьёзный «знак»: не спешите судить, тут есть над чем подумать. Феномен Онегина подаётся как феномен большой человеческой загадки.
Таким образом, роман начинается со смысловой антитезы, с противоречивой подачи, вероятно, противоречивого главного героя; в таком же ключе он продолжается. Метод, будучи основной стратегией художественной типизации, определяет художественные функции всех без исключения уровней стиля: от сюжетно-композиционного до ритмико-фонетического. Анализ поэтики и должен служить всестороннему раскрытию, разворачиванию «генетического кода», осуществляемому непрерывными смысловыми приращениями и обогащениями, произрастающими, однако, из единого концептуального корня (разумеется, если мы имеем дело с художественным произведением высочайшего класса).
Весь роман (и первая глава в особенности) буквально соткан из перекликающихся разноплановых противоречий – из, если так можно выразиться, «умных» противоречий, где теза и антитеза нуждаются друг в друге, проясняются благодаря своим взаимоисключающим потенциалам. Кстати, Пушкин осознавал противоречивость романа как некий творческий принцип и специально акцентировал на это внимание в заключительной строфе первой главы, словно предупреждая упрёки любителей трактовать противоречия как неувязку, как порок или изъян:
Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу…
«Форма плана» заключает в себе «очень много» противоречий, которые придирчивый автор видит, но не считает нужным исправлять. Чего ж вам больше?
Перечислять противоречия, даже иерархически их располагая, нет никакой возможности, ибо мы утонем в эмпирике, ничего не поняв. Мы окажемся явно «глупее» романа. Постараемся постигнуть сам принцип взаимного сопряжения, приводящий к единству противоположностей. Будем стремиться к постижению сути «ядра» и остановимся только на том, что имеет отношение к нашему стремлению.
В первой главе (которую, напомню, можно рассматривать как момент грандиозного целого, из коего целое вырастает и одновременно даёт смысл своему моменту) действительно противоречий очень много. «Ядро» сфокусировано в одном дне из жизни Онегина, и занимает этот день центральную часть главы. «Ежедневный круг этой жизни состоит из семи фаз: первая из них – «Бывало, он ещё в постеле», последняя – «Спокойно спит в тени блаженной». Собственно же день Онегина – это пять фаз: гулянье – обед – театр – кабинет (переодеванье) – бал. Вторая и последняя фазы – обед и кабинет – как раз и дают нам центральный мотив, кристаллизирующий и источающий поэтику перечня. Этот мотив – стол». [11] Добавим только, что мотив стола, вначале обеденного, а потом – туалетного, осложняется обрамляющим день героя мотивом сна, придающего, казалось бы, однозначной картине роскошной жизни двойственный оттенок: такая внешне бурная и динамичная жизнь есть сон, Вещественный мир, столь тщательно выписанный в 1 главе, поглотил личность героя, растворил её в вещах (точнее, не дал из них выделиться). Внешний мир заслоняет и даже замещает внутренний. Торжество плоти – вот лейтмотив всего онегинского дня, т. е. целой фазы жизни героя, вплоть до внезапного и внешне неубедительного мотивированного поражения «недугом».
Чередование столов также неслучайно и определено удивительно дальновидной внутренней логикой. Стол обеденный демонстрирует нам (начиная с «окровавленного» ростбифа, данного в «чужом» заморском написании, и кончая столь же экзотическим «золотым ананасом») гастрономическо-физиологический, примитивно потребительский ряд, служащий для удовлетворения одного из основных инстинктов. Изысканность стола заставляет вспомнить заповедь чревоугодников, осмеянную Сократом: не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть.
Стол туалетный «примерного воспитанника мод» в свою очередь явно и вызывающе функционален. «Истинный гений» «науки страсти нежной» находится у себя в лаборатории, где после тщательных и долгих манипуляций над своей внешностью (надо действительно обладать энтузиазмом гения) он уподобляется «ветреной Венере» в мужском наряде.
Наука страсти она и есть наука: весь лицедейский арсенал, вся палитра эмоций «влюблённого» («Как рано мог он лицемерить» и т. д.) – сплошная технология чувств, процесс, строго подчинённый конечному результату («И после ей наедине Давать уроки в тишине!»). Евгений, если уж быть совсем точным, является гением имитации нежных чувств – того, что должно напоминать любовь. Потрясающая технологическая оснащённость, отработанность навыков и артистизм исполнения в сочетании с практическим знанием мужской и женской природы сделали из Онегина образцового серцееда. Но каков был истинный побудительный мотив гения, что заставляло его так самозабвенно трудиться, совершенствуя свою многосложную науку?
Страсть. Потребность в утолении другого «базового» инстинкта сделала туалетный стол вторым центром его жизни. (Кстати, вновь чуждый, лондоско-парижский косметический контекст стола наводит на размышления: свою ли жизнь среди чужих вещей ведёт энтузиаст «неги модной», поклонник «чувств изнеженных»?)
Перед нами – классический вариант «человека комического», человека психологического, который, говоря словами философа, «подчиняет действия потребности, но не располагает их в определённый порядок». [12]
1
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. /Изд-во АН СССР. – М.-Л., 1951. —Т.7, с. 66–67.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же, с. 41–42.
6
Там же, т.10, с.776.
7
Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С. 253–258.
8
Там же, с. 258–259.
9
Здесь и далее текст романа «Евгений Онегин» цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собр. соч.: В 6 т. /Изд-во «Правда». – М., 1969. – Т.4. (курсив автора, жирный шрифт мой – А.А.).
10
Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с.
11
Непомнящий В.С. Поэзия и судьба, – М.: Советский писатель, 1983. – С. 262–263.
12
Егоров А.В. Психика, сознание, религия // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1997. – Вып.7. – С.68.