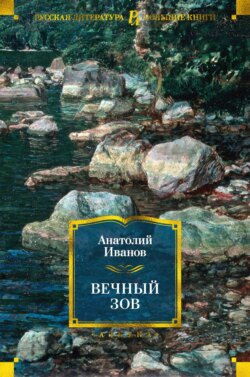Читать книгу Вечный зов - Анатолий Иванов - Страница 6
Книга первая
Часть первая
Братья
ОглавлениеГлянув на скрипучие жестяные ходики, Димка сорвался с кровати: стрелки показывали без десяти минут семь.
Село купалось в тумане.
Над сырыми крышами ближайших домов неясно маячили верхушки деревьев. А дальше все тонуло как в молоке, не было даже видно пожарной каланчи, что стояла на взгорке в конце улицы.
Димка, в трусах и майке, стоял, поеживаясь, в огороде, смотрел через скользкий, почерневший плетень то направо – в усадьбу Инютиных, то налево – во двор Кашкарихи. Однако ни Кольки Инютина, ни кашкарихинского Витьки не было видно. «Дрыхнут, дьяволы, – зевнул Димка. – Нарыбалили седни…» И пошел умываться к Громотушке.
Щедро вымахавшие кукурузные стебли сыпали на плечи росой, как угольками, мокрая картофельная ботва обжигала ноги. Они занемели, покрылись жесткими пупырышками – точь-в-точь как у огурцов.
Подбежав к речушке, Димка сел на кладку и спустил ноги в теплую воду, на песчаное дно. Тотчас мелкие пескаришки начали щекотать пальцы, тыкаться в икры.
– От вы… – пошевелил пальцами Димка.
Пескаришки брызнули веером прочь, остановились в полуметре от Димкиных ног, подумали, пошептались вроде и осторожно, но все враз двинулись обратно.
Удивительная она, эта речка Громотушка. Светлая, как стеклышко, неширокая, в иных местах всего до полметра, с неглубокими, под навесом перепутанных ветвей омутками, эта речушка, почти ручей, берет начало где-то далеко за Шантарой, в Алтайских горах, виляя, течет через всю степь, до самого села. Степь голая, ни одного кустика, только вздымаются на ней местами лысые унылые холмы, а берега Громотушки, каждый метров на сорок в степь, буйно поросли всяким разнодеревьем и кустарником. Есть и осина, и береза, и калина, много черемухи, несметное количество смородинника. Но больше всего развесистых плакучих ив, которые в Шантаре называют ветлами. И все перевито хмелем, ползучей ежевикой, всякой повителью.
Заросли эти называют Громотушкины кусты. И хоть заросли неширокие, повернись в любую сторону – и сразу выйдешь на чистое место, на простор, в иных местах такая глухомань и жуть, что шантарских баб-ягодниц берет оторопь. Тогда они, рассыпая из ведерок ягоды, оставляя на цепких ветках лоскутья одежды, как ошалелые выскакивают в степь и жадно глотают там горьковатый полынный воздух, прижав ладонями груди.
Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты. Ненароком, может, и приходят на ум иной ягоднице, забравшейся в самую чащобу, эти тайны. А может, чудится им вдруг останавливающий кровь зловещий крик лохматого лешего, испокон веков живущего, по преданию, где-то возле самого большого на Громотушке омута, отчего он прозывается Лешачиным. Находились в Шантаре люди, которые утверждали, что не только слышали этот страшный крик, но и видели, как по утрам и на закате вспучивается страшный омут, кто-то черный и огромный ворочается в густой, застоявшейся воде, разгоняя во все стороны тяжелые волны.
Возле деревни Громотушкины кусты редеют. Осины да березки остаются позади, скоро покидает Громотушку и калинник. А речка все бежит и бежит вперед, через деревенские огороды, через неширокие улицы. Теперь ее сопровождают только ветлы, они по-прежнему низко, до самой земли, кланяются своей благодетельнице и повелительнице.
За деревней Громотушка выбегает на низкую луговину – здесь ее встречают непроходимые заросли осоки и камышей – и неслышно вливается в широкую, многоводную Громотуху.
В Громотухе полно всякой рыбы, а в Громотушке – только эти пескарики да в верховьях, по омуткам, хариусы. Могучая Громотуха зимой намертво замерзает – в иные годы лед бывает метра в полтора толщиной, – а Громотушка никогда еще не покрывалась хотя бы сантиметровой ледяной корочкой.
Не могут завалить ее никакие сугробы – снег тает в неглубоких громотушкиных водах, как в кипятке, не может сковать ее мороз, всю зиму Громотушка парит, парит, белые клубы плавают над Громотушкиными кустами, как над жарко натопленной баней, а сами деревья стоят отяжелевшие, в мохнатых, обильных куржаках. Тронь любую ветку – она с шорохом осыплется заледенелыми иголками, точно разденется наголо, но за три-четыре часа снова закуржавеет, размохнатится пуще прежнего.
Ничего не могут поделать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьем, только обильнее куржак на деревьях – и все.
Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. «Ну, дрыхнут…»
В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как звали ее все соседи, торопливо побежала в стайку.
Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.
В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у нее был кухонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.
– Бабушка Лукерья… – сказал Димка, подходя к плетню. – Чо Витька там? Мы порыбалить сговорились…
– Кака рыбалка, кака рыбалка? – торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха. – Не пойдет седни Витька! Сорванцы, прости ты, господи…
И скрылась в сенях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. «От пошехонцы, – буркнул он про себя. – Днем на задвижке… Что это они вздумали?»
Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-желтые солнечные полосы. Полос было много – и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито щупают землю.
Неподалеку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.
– Внимание, говорит Москва, – звучно сказал диктор на всю деревню. – С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня…
«А какое в Москве утро? В Москве еще три часа ночи. Еще только-только начинает зориться», – подумал Димка.
Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля…
Димка слушал и, хотя в далекой отсюда Москве была еще ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.
В огороде появился старший брат Семен, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошел к Громотушке. Минуя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, еще небольшую и бледную, и так, в зубах, донес ее до ручья.
Это был обычный Семкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел еще и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.
Прежде чем умыться, Семен пополоскал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:
– Ну как?
– Чего? На руках-то? Подумаешь…
– Ишь ты, пшено… А ну-ка?
– Да запросто! – в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. «Шмякнусь на спину, как пить дать… – пронеслось у него в голове. – Картошку помну… Мать задаст…»
Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:
– Помни`, помни` картошку мне! Ди-имка!
И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлепнулся в картофельную ботву.
Мать вскрикнула. Димка увидел ее испуганные глаза над своим лицом, вскочил.
– Ну?! Ну?… – дважды дернула его за руку мать. И повернулась к Семену: – Чему ты ребенка учишь? А ежели он руки али шею сломает?
Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.
* * *
За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантьевич не терпел за едой разговоров.
Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых – десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:
– Ма-ам… Я пойду с ними рыбалить?…
Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.
– Да пустите вы его, не потеряем, – в конце концов сказал Семен.
Отец бросил ложку, сердито вытер черные, мокрые от лапши усы.
– Вот что, Семен, я скажу… В твои, считай, годы я уж эскадроном командовал, белякам головы рубил. – и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева. – А ты хоть и два года как тракторист, все в ребячьих пастухах состоишь.
Семен посмотрел на портрет деда. Отец очень походит на него – такой же большой лоб и сросшиеся брови, такие же усы над крупной нижней губой, нос прямой, с широкими ноздрями, густая, непокорная, рассыпающаяся во все стороны копна черных волос. Только вот подбородок у отца другой, чем у деда. У деда подбородок плоский с бороздкой посредине, у отца – крутой, крепкий, с выметом густой, тоже, наверное, железной крепости, щетины.
– Так сейчас же, батя, не война… Вместо эскадрона у меня трактор…
Федор отвернулся к окну, закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном качалась зеленая и шершавая, в капельках утренней росы, голова собирающегося зацвести подсолнуха. Из центра его шляпки уже пробивались, как огненные струйки, несколько желтых лепесточков.
– Значит, на рыбалку?
– Воскресенье же, чего мне? А трактор свой я давно наладил, – проговорил Семен.
– И я давно свой комбайнишко наструнил. А товарищам не надо помочь? Или руки отвалятся?
– Пущай сами. Бензином я и без того надышался, хочу речной свежести глотнуть.
– Ма-ам, я пойду с ними рыбалить? – опять затянул Андрейка.
– Ну чисто желна! – в сердцах сказала мать. – Отправляйся…
Андрейка кубарем свалился с табуретки, кинулся из комнаты. За ним – Димка.
– А то приучили их жар-то чужими руками загребать. – И Семен тоже поднялся.
– Кого их?
– Ну, к примеру, этого главного лодыря Аникушку Елизарова. Или пьяницу Кирьяна Инютина, дружка твоего. Их давно надо из МТС выпереть, а вы все им помогаете. Ну и везите их на своих плечах. А у меня совести не хватает. – И вышел.
– Дурак ты, дурак! – вслед ему сказал отец.
– Федя! – воскликнула Анна.
– А ты – сыть! Сыть! – зло закричал Федор. Походил по комнате, сказал спокойнее: – Не понимает Семка чего-то… главного в нашей жизни. Вот что обидно. Ну, пошел я. Заверни чего в обед пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.
Когда Федор ушел, Анна присела у окна, долго глядела на тот же собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветет, никогда не раскроет жаркое свое лицо навстречу солнцу. И фартуком вытерла бесшумно наплывшие слезы.
Она-то понимала, почему Федор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца – такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки, – крепкая, уверенная, чуть вразвалку, и черные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности, зацепистые, как у самого Федора. А старший, Семен, был в нее – русоволосый, белокожий, сероглазый.
– В погребе, что ли, мы его с тобой сделали? Не помнишь? – часто говорил ей Федор, когда Семка начал подрастать. Говорил – и криво усмехался в черный колючий ус. И окатывало ее пронизывающим холодком: «Не верит… что его кровь… что он отец!»
Однажды она попыталась пристыдить мужа за его необоснованные подозрения. Федор слушал ее долго и внимательно. А когда понял, в чем, собственно, пытается убедить его жена, прихлопнул гулко по дощатому столу ладонью.
– Будет! Знаем… Не девицей тебя взял!
– Федор!
– Ну! – поднял голос Федор, бледнея. – Будет, сказано…
Он облокотился о стол, запустил пальцы обеих рук в густые черные волосы и сжал кулаки. Сидел так минуту-другую…
– Вот на чем, Анна, покончим… – сказал, поднимая на нее мутный, тяжелый взгляд. – Тебя, стерву, надо бы наискосок шашкой перерубить. А я тебя все же люблю. К тому же Димка вон народился. Этот – мой.
– А Семка чей? Федя?!
– На том покончим… – не слушая, загремел Федор. – Чтоб об этом больше молчок! Ни слова!! Ежели жить хочешь… в семье…
И жили они – другие и не скажут, что плохо. Федор был суров и малоразговорчив, а в праздник или день рождения обязательно какой-нито подарок сделает. По большей части пустяковый – бумажный платок или стеклянную брошку. Да в цене ли дело! И к Семке относился вроде ровно, ни в чем не выделяя от остальных детей. Но иногда, как вот сегодня, вроде бы ни из-за чего схватывался со старшим сыном. И еще ночами иногда находило на него что-то, он чуть не до света лежал холодный, не шевелясь, и Анна видела в полутьме сухой блеск его глаз. Она уже знала, что это значит. Наконец Федор молча и грубо тянул ее к себе, безжалостно, с остервенением, до синяков и кровоподтеков, мял ее небольшие груди, разламывал ее плечи. Она чувствовала, что он бессознательно мстит ей за Семку, что в нем просыпается что-то звериное.
– Федя! Федор!! – в страхе кричала она.
Это его будто отрезвляло, он затихал.
Анна не то чтобы осуждала Федора – она понимала его муки. Семка – от него, от Федора. Она-то это знает. А его – не убедишь. И он имеет право не поверить…
Да, жили они – другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет – любит ли Анна мужа. И сама она этого теперь не скажет. Когда-то любила ошалело, без памяти, залила когда-то она Федора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Уж текут потоки воды по земле, уже залиты низкие полевые луговины, и лишь торчат над кипящей от тугих дождевых струн водой только высокостебельчатые ромашки да упругий остролистник, уже помутнела от дождя широкая Громотуха – а ливень все идет, все хлещет по земле со звоном…
Но вот чуть потоньше стали дождевые струны и пореже. Вот словно кто махнул поперек ливня огромным решетом, разрезал струны на капли. И хоть они капают вниз обильно, но это все-таки уже капли. Сперва скапали вниз те, что покрупнее, потом долго сыпалась мелочь. И наконец дождь совсем прекратился. Лужи по канавам и оврагам скатились все в ту же ненасытную Громотуху, а в заросших травой низинах вода потихоньку просочилась под землю, оставив на дне маслено поблескивающий на солнце слой ила. Ил, быстро высохнув, берется корочкой. Через несколько часов корочка эта трескается, кучерявится, как береста, и рассыпается от жары в пыль. Ветерок раздувает эту пыль, ворошит белые, недавно дрожливо стоявшие под ливнем ромашки, длинные стебли остролистника и прочее разнотравье.
Вспоминался иногда Анне свой последний разговор с ее проклятым отцом. «Чем хвалишься? Как скотина ты жил… – кричала тогда она в его ненавистное бородатое лицо. – А есть другая жизнь – человечья!.. А я хочу по-человечески жить…» – «Тебя-то пустят ли в эту жизнь? – насмешливо спросил отец. – Рано или поздно припомнят, чья ты дочь».
Никто не припоминал, чья она дочь. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось.
Сперва считала – виноват в этом ее отец-изверг. А потом начала подумывать: а только ли он?
* * *
Все улицы Шантары как бы стекают вниз, к Громотухе. Улицы разъезжены в пыль, а кривые переулки, по которым редко-редко проедет телега или грузовик, крепко затравенели, иные так поросли репьем и полынью, что через них едва можно было продраться.
И только главная сельская улица – шоссейка, как ее называют, – выложена булыжником, по бокам ее выкопаны канавы для стока вод, густо насажены тополя и проложены деревянные тротуары.
По этой-то шоссейке, пустынной в ранний воскресный час, шагали братья Савельевы и Колька Инютин по прозвищу Карька Сокол – пятнадцатилетний долговязый подросток, похожий на вопросительный знак.
– А я сейчас через плетень гляжу – сестра тебе выговаривает, – сказал Семен. – Не пустит, думаю, на рыбалку парня.
– Не-е, Верка спросила только, куда мы идем удить. На громотухинскую протоку, говорю. «Мельницу»-то покажешь?
– Покажу, – промолвил Семен, думая о чем-то своем.
Выйдя за околицу, все четверо побрели начавшей рыжеть уже степью, миновали строй деревянных опор высоковольтной линии, крестовины которых были обрызганы птичьим пометом, и зеленой луговиной вышли к неширокой громотухинской протоке.
Здесь их и догнал запыхавшийся Витька Кашкаров, Димкин одногодок.
– Ты? – обрадованно выкрикнул Димка. – А твоя мать сказала, что не пойдешь!
– Мало ли что… – проговорил Витька, отводя в сторону невеселые глаза.
В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не было, метрах в трех покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем их становилось все больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.
Все торопливо наживили крючки, жадно уставились на поплавки. От напряжения у Андрейки на облупленном носу выступили бисеринки пота. Лишь Витька Кашкаров все возился с удилищем, привязывая леску. Потом, кажется, забыл о своей удочке, обо всем на свете, – уставившись в одну точку, он глядел куда-то вдаль, за протоку, на остров, где росшие на небольшом обрывчике развесистые ветлы бороздили упругими ветками тугие струи.
– Е-есть! – вдруг заорал Димка и выдернул из воды небольшого подъязка.
У Андрейки от зависти екнуло сердце, он начал часто махать удилищем.
– Ты не торопись, Андрюша, – сказал Семен и бросил взгляд на Витьку. Тот, сидя на камне, все глядел на остров.
Зачерпнув в ведерко воды, Димка кинул туда подъязка. Рыбина сильно забилась, разбрызгивая воду. Инютин воткнул свою удочку в песок, подошел, свесил над ведерком крючковатый нос и еще больше стал похожим на вопросительный знак.
– Ничего, – снисходительно сказал он. – А на той неделе я под Звенигору ходил удить. Только забросил – кы-ык он хапнет! Удилище – крык! – напополам. Он и потащил обломок на середину. Я прямо в одежде сиганул за им…
– Не ври, – сказал Семен.
– Что не ври! Окунище был – во! Так и уплыл, гад. Не догнал.
– Откуда ты знаешь, что окунь? – спросил Димка.
– А кто же?! – обиделся Колька. – Он, зебра полосатый. Боле некому.
Андрейкин поплавок вдруг косо скользнул в глубину. От неожиданности Андрейка сперва сел в мокрый песок, потом вскочил, дернул удилище. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Андрейка, отступая, тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина – Андрейка чувствовал, как она билась на крючке, – старалась уйти вглубь. Таловое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубь.
– Порвет! Леску порвет! – закричал Витька, встрепенувшись, сбрасывая свое забытье. – Припусти чуть! Ослободи, ослободи ему маленько ходу! – орал он, не замечая, что вместо «освободи» говорит «ослободи». – Да уйдет жа, уйдет жа…
– Не лезь! – тоненько вскрикнул Андрейка.
– Пущай сам. Не мешай ему, Витя, – проговорил Семен, с улыбкой наблюдая за младшим братом.
Димка и Колька, побросав удочки, тоже прыгали вокруг Андрейки, давали советы. Но тот их не слушал. Закусив от волнения язык, он продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил, видимо: будь что будет! – и из последних сил дернул удилищем. Чулукнул из воды поплавок, и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце желто-зеленой радугой, огромный окунище и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлепнулся на камни почти у самой воды. Андрейка вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу и облегченно, радостно засмеялся.
Потом все долго и завистливо рассматривали тупорылого горбача, по очереди держа в руках.
– Положьте в ведерко, уснет же, – будто бы потеряв всякий интерес к окуню, как можно равнодушнее бросал через плечо Андрейка, наживляя крючок. – Рыбы, что ли, не видали…
– Повезло тебе, братуха, – сказал Семен. – Такие громилы редко на червя берут.
– Подумаешь, громила, – промолвил Колька, опустив окуня в ведерко. – Вот я прошлогод на Громотушке… Мы с Веркой за смородиной ходили. Ну а леска всегда при мне. Дай, думаю, с пяток хариусов поймаю, да уху на обед сварганим. Верка – она любит жрать уху-то, – зачем-то пояснил он и продолжал: – А ягоды мы обирали в аккурат недалече от Лешачиного омута.
– Где, где? – оторвался от своего поплавка Семен.
– Что где? – заморгал Колька выгоревшими ресницами. – Возле Лешачиного омута. Там сморо-одины!! Прямо насыпью. Бабы-то ходить туда боятся… А Верка – она жадная на ягоду. «Пойдем, говорит, Колька…» Ну и пошли. Ты что, не веришь?
– Давай ври дальше, – бросил Димка, все еще заглядывая в ведерко, сравнивая своего подъязка с Андрейкиным окунем.
– Сам ты… – повернулся к Димке Николай и обиженно замолчал.
Минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клева больше не было. Андрейка, чтобы сделать подальше заброс, зашел даже по пояс в воду. Каждый раз, наживляя свежего червя, он долго и старательно плевал на него, полагая, что от этого наживка станет вкуснее. Но все было бесполезно.
Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белесо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая белыми, в черных прожилках, крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.
– Так кого же ты поймал в Лешачином омуте? – спросил Семен.
– Никого я не поймал, – буркнул Николай все еще сердитым голосом. Но немного погодя начал рассказывать: – Подошел я, значит, к омуту – жутко. Вдруг, думаю, лешак из кустов высунется? Сердце стукатит, как молоток. Верка где-то рядом по кустам шебаршит. Ну, подошел я, гляжу…
– Ну?! – в нетерпении выкрикнул Димка. – Лешак?!
Витька, забыв про удочку, тоже повернул голову к Кольке. Но смотрел ему не в лицо, а куда-то мимо, на небольшое пухлое облачко, неожиданно появившееся на горизонте, смотрел пустым и безразличным взглядом. Один Андрейка, стоя в воде, сильно наклонившись вперед, чуть не опрокидываясь в реку, по-прежнему держал удилище в вытянутой онемевшей руке и не отрывал глаз от поплавка.
– Гляжу – пара здоровенных хариусов ходит поверху. Ну, думаю, счас… Неслышно, чтоб не спугнуть их, заразов, махнул удилком. Наживка еще не погрузилась в воду – ка-ак они кинутся на всплеск обои… Какой-то из них, значит, сглотнул крючок и попер вглыбь! И вдруг…
– Лешак в кустах захохотал! – крикнул Димка насмешливо.
– Я вам правду говорю, а вы… – мотнул коротко остриженной головой Николай. – Только хариус сиганул вглубь, ка-ак посреди омута поднимется водяной горб, как забурлит!.. Ну конечно, я испугался! По всему телу сыпучая дрожь окатила. А что?! Сами бы спробовали… А тут еще посередке омута во-от такой раздвоенный рыбий хвостище выметнулся, – и Колька чуть не во всю ширь раздвинул руки, показывая величину хвоста. – Да как хлестанет по воде – ажно брызги ливнем меня обсыпали. И тут же с такой силищей рвануло леску, что она только тренькнула…
– Оборвалась! – взвизгнул Андрейка, вышедший на берег, чтоб насадить на крючок нового червя. – А кто же это был, Коля? Щука?
– Не знаю, – вздохнул Колька.
– Щука, щука! – утвердительно проговорил Андрейка. – Батя как-то рассказывал, что в больших омутах на Громотушке живут и щуки.
– Может, и щука.
– Акула, наверное, – сказал, посмеиваясь, Димка. – Такие хвосты только у акул бывают.
– Разве ты поверишь! – обидчиво отвернулся Инютин.
В некотором смысле этот Колька был человеком необыкновенным. С ним всегда случались какие-нибудь приключения. То чья-нибудь собака оборвет ему штаны, то в школе, на уроке, вдруг ни с того ни с сего у него в кармане бабахнет самопал, разворотив до кости мясо на ноге.
А года три назад он поспорил с ребятишками, что надергает из хвоста свирепого райкомовского жеребца Карьки Сокола волос на леску. Жеребец был диковинным – сам карий, почти вороной, а грива и длиннющий хвост ослепительно-белые, словно поседевшие. «Потому что меринос», – объяснял любопытствующим ребятишкам райкомовский конюх Евсей Галаншин, пускавший на ночь пастись жеребца за село. И, видя, что ребятишки не понимают мудреного слова, сердился: «Кыш отседова, воронье! Знаю ить, волосу хотите надергать. Он вам копытом-то дерганет по кумполу…» И, застегнув передние ноги коня прочными волосяными путами, удалялся, строгий и прямой как жердь.
Белый хвост Карьки Сокола был мечтой. Но выдернуть из его хвоста хотя бы волосинку еще никому не удавалось. Он подпускал к себе только деда Евсея. Если приближался кто другой, жеребец вскидывал голову, скалил, как собака, длинные плоские зубы и угрожающе поворачивался задом.
Разрешать спор отправились поздно вечером, когда дед Евсей, по обыкновению, отвел жеребца на лужайку.
– Наблюдать с этого места, – сказал Николай, останавливаясь метрах в двухстах от жеребца. – Ближе не подходить.
– Почему? – полюбопытствовал Димка.
– Опасно, – небрежно кинул Колька. – Вдруг он рассвирепеет да кинется на вас? Растопчет, а я потом отвечай…
Это подействовало. Ребята остановились. Колька пошел к коню. Ребятишки наблюдали за ним затаив дыхание, бешено завидуя Колькиной смелости.
Жеребец, спокойно щипавший травку, при Колькином приближении вскинул голову, заржал. У ребятишек заекало от страха в животах. Но Колька, не останавливаясь, тихонько шел к коню, протянув руку. Еще через мгновение он стоял возле жеребца и спокойно гладил рукой плоскую щеку лошади. Ребята смотрели на такое чудо, разинув рты.
Никто из них не знал, что Колька целый месяц приваживал к себе жеребца.
Как-то, отгоняя утром корову в стадо, Колька заметил, что дед Евсей, прежде чем распутать и увести жеребца, скормил ему краюху ржаного хлеба. Карька съел хлеб и благодарно потерся щекой о заскорузлые от времени руки старика. Николай хмыкнул, сел на мокрую от росы траву и стал что-то соображать.
Вечером он пришел на лужайку с большим ломтем ржанухи. Едва старик, оставив спутанного жеребца, уковылял в деревню, Колька двинулся к лошади, протягивая на длинной палке ломоть хлеба.
Несколько вечеров Карька Сокол шарахался от палки, скалил угрожающе желтые зубы и поворачивался задом. Но постепенно волнующий запах ржанухи, видимо, сделал свое дело, и однажды Карька осторожно взял с палки хлеб.
Через неделю жеребец брал хлеб уже из рук, а еще через неделю позволял себя гладить по шелковистой щеке.
Колька решил, что дело сделано и пришла пора удивить и поразить всех уличных огольцов.
Скормив, как всегда, краюху хлеба, тайно принесенную за пазухой, Колька с полминуты гладил Карьку Сокола по щеке, потом похлопал по крутой и крепкой, как камень, шее, провел ладонью по лоснящемуся крупу. Жеребец вздрогнул, завернул голову, блеснув лиловым взглядом. «Чего ты, дурашка?!» – ласково проговорил Колька. Привычный голос, видно, успокоил, жеребец перестал дрожать, принялся щипать траву.
Колька, продолжая одной рукой оглаживать круп, другой осторожненько выбрал из хвоста прядку волос, намотал на кулак, стремительно отскочил назад и что есть силы дернул. Но то ли конский хвост был очень крепок, то ли от жадности Колька захватил слишком большую прядь, только выдернуть ее ему не удалось. Жеребец заплясал от боли, вспахивая копытами землю. Колька шарахнулся было прочь, но руку накрепко захлестнуло конским волосом. Жеребец взбрыкнул задними ногами, чудом не расколов парнишке голову. Колька отскочил в сторону, пытаясь выпутать из хвоста руку. И в это время Карька Сокол, изогнувшись, хватанул его оскаленными зубами за бок…
Когда ребята подбежали к Инютину, тот лежал ничком, не шевелясь. С оголенного бока свешивался кровавый лоскут кожи почти в ладонь величиной.
Застонав, Николай открыл глаза, сел и поглядел на свой бок, из которого хлестала кровь. Снял порванную лошадиными зубами рубаху, разодрал ее на узкие полосы, прилепил на место свесившийся лоскут кожи и молча принялся себя перебинтовывать.
– Ладно, пойду в больницу, – сказал он, поднимаясь.
Бок ему залечили, только на всю жизнь обозначился на смуглом Колькином теле подковообразный белый рубец. Да навсегда прилипла к Инютину после этого звучная кличка Карька Сокол.
Несмотря на то что с ним то и дело случались подобные происшествия, Колька слыл хвастуном и безудержным вралем. Может, потому, что, рассказывая о действительных своих приключениях, он всегда что-нибудь преувеличивал, приукрашивал, а то и привирал.
Рассказав о случае на Лешачином омуте, он отошел в сторонку, сел на горячие камни и нахохлился.
– Это разве рыбалка! – крикнул Андрейка, вышел из воды и швырнул на землю удочку. – Совсем клёву нету.
Семен, стоя спиной к реке, глядел в степь, на дорогу. По ней шел какой-то человек. Он миновал столбы высоковольтной линии и на развилке повернул влево, в сторону от реки, на Звенигорский перевал.
– Димка, глянь, что там за дядька шагает по дороге в Михайловку? – проговорил Семен.
– Обыкновенно… С котомкой, в сапогах. А в руках палка, – сказал обладавший ястребиными глазами Димка.
– А не дядя это Иван?
– Да откеля ему? Он же в тюрьме!
При этих словах Витька Кашкаров, опять давно сидевший в сторонке, вскочил, глянул на уходившего к перевалу человека. И, сев на прежнее место, снова принялся угрюмо разглядывать потрескавшиеся от цыпок ноги.
– Почудилось. Плечи у него такие же сутулые, как у дяди Ивана, – проговорил Семен.
Солнце тяжелыми струями все полосовало землю, словно занялось целью расплавить ее. Раскаленные прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и теплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, еще полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больнично-белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Шантару.
– Вот что, рыбачки-мужички, – сказал Семен, сбрасывая рубаху, – до вечера клёва ждать нечего. Давайте искупаемся, а потом сварим уху из Димкиного подъязка и Андрейкиного окуня. Пока она варится, я покажу вам несколько приемов самбо. В том числе «мельницу».
Семен разделся, с полминуты постоял на горячих камнях под завистливыми взглядами ребят. Крепкое, с буграми мышц его тело отсвечивало на солнце медью. На широких сильных плечах, сожженных солнцем почти до черноты, упрямо сидела чуть угловатая голова. И короткая шея, и широкие скулы, и крутой лоб – все было покрыто плотным загарным слоем, лишь густые белые волосы солнце не в силах было сжечь, и они пламенели, как флаг, белым непотухающим огнем.
Постояв у самой кромки воды, Семен чуть присел, резко выпрямился, взмахнув одновременно руками, и казалось, неведомая сила легко оторвала и стремительно кинула далеко от берега, в прохладную глубь реки, его тяжелое тело. Следом за ним попрыгали в воду и остальные. Лишь Витька так и не тронулся с места. Сидя на берегу под палящим солнцем, он молча разгребал в мокром песке ямку.
Несколько минут ребята плавали у берега, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг. Первым вылез на берег Семен, не одеваясь, порылся в карманах брюк, закурил. С его остуженного водой тела скатывались прозрачные капли.
– Скажи-ка, Витя, что такое с тобой? Дома что-нибудь? – спросил он, присев возле парнишки.
– Отвяжись ты, – вяло сказал тот, встал и пошел прочь от берега.
Семен догнал его в несколько прыжков, загородил дорогу.
– Ну что, что?! – почти со злостью выкрикнул Витька, вскидывая давно не стриженную головенку. – Что тебе надо?
– Мне-то ничего, – Семен взял парнишку за плечо. – Я ничем не могу тебе помочь?
– Не можешь! Да, не можешь! – с отчаянием вскрикнул Витька, сбросил тяжелую Семенову руку и пошел дальше. Однако через несколько шагов обернулся. – К нам седни ночью этот… Макар Кафтанов приехал, понял?
– Макар?! – воскликнул Семен и невольно поглядел вправо, на дорогу, по которой недавно в Михайловку прошагал человек с котомкой, издали похожий на дядю Ивана, уже несколько лет находившегося в заключении.
Витька понял этот взгляд, проговорил:
– Может, они вместе и приехали.
Семен хмуро молчал. Макар Кафтанов, его дядя по матери, был знаменитым вором, большим специалистом по ограблению магазинов. В свои двадцать восемь лет он уже имел шесть судимостей…
* * *
После завтрака Федор Савельев через хлев вышел на двор, крикнул зычно и властно:
– Кирья-ан!
Тотчас отмахнулись в инютинской избенке дощатые двери, на покосившееся крылечко с лохмотьями облезающей краски стрелой выскочил, что-то дожевывая, Кирьян Инютин.
– Позавтракал? Айда на станцию.
– Воскресенье же… Я поллитровку в погреб кинул, чтоб нахолодала.
– Какая поллитровка! На носу уборочная, а твой трактор еще в развале весь.
– Так… Чего же, раз надо, стало быть, значит я разом, – тотчас согласился Кирьян.
Избенка Инютиных, сложенная из тонких и корявых бревешек, рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой, ветхой и невзрачной. Таким же невзрачным и никудышным был узкоплечий и гололобый Кирьян Инютин по сравнению с глыбистым, медвежковатым Федором Савельевым.
Кирьян нырнул обратно в темный зев сенок. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна – остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шалый огонек, Анфиса. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои тридцать девять лет, все еще казалась девчонкой.
Она шла, не замечая Федора. Ее старенькая, ветхая юбчонка была высоко подоткнута, красные, нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.
– Здоровенько ночевали, – сказал Федор.
– Ой! – воскликнула женщина, торопливо одернув юбку.
Федор шагнул к плетню, разделявшему их усадьбы.
– Подойди-ка…
Анфиса качнулась, словно в нерешительности, подошла.
– Ну? – Глаза ее были опущены, припухшие красноватые веки чуть подрагивали.
– Как стемнеет, буду ждать… в наших подсолнухах, а? – трогая ус, кивнул Федор на делянку подсолнухов, прилепившуюся на задах огорода. – Придешь?
Анфиса брызнула на Федора крутым, как кипяток, взглядом и молча принялась рассматривать молоденькие огурчики, лежавшие у нее в фартуке.
– Жалею я, что отдал тебя Кирьяну, – усмехнулся Федор. – Ишь, не стареешь будто. Износу тебе нету. А моя Анна…
– Чего теперь об этом… – вздохнула Анфиса.
– Так придешь?
– Ладно. Если Кирьян не проснется, – просто сказала Анфиса и, видя, что Кирьян вышел из дома, ткнула огурцом в широкую ладонь Федора. – Попробуй, с нашего огорода.
– Огородница ты знатная, на всю улицу, – произнес Федор.
– Это уж действительно, – хмуро подтвердил Кирьян. – Про всякую овощь еще слыхом не слыхать, а у нее уж на столе… Ну, пошла! – раздраженно прибавил он и подтолкнул жену к крыльцу.
Федор и Кирьян вышли на улицу и молча зашагали к МТС.
* * *
После колчаковщины Федора Савельева, по совету председателя волисполкома и бывшего командира партизанского отряда Поликарпа Кружилина, назначили начальником Шантарского почтового отделения, а Федор взял бывшего бойца своего эскадрона Кирьяна Инютина в завхозы. На почте они проработали без малого десять лет – до 1931 года. Сперва вроде все было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства – то моток проволоки, то дюжину-другую сосновых телеграфных столбов, то конскую упряжь. Федор неоднократно мылил ему за это шею, тряс увесистым, заволосевшим на казанках кулаком перед крючковатым Кирьяновым носом.
– Да что ты, что ты, Федор, – моргал невинными глазами Инютин, вытирая ладонью проступавшие на залысинах крупные капли пота. – Да рази я, переворот мне в дыхало, осмелюсь что с государственной ценности… Не иначе конюхи, разъязви их, пропили. Я прижму их, паразитов, они у меня иголки больше не своруют…
Потом Кирьян ловко научился вскрывать посылки, вытаскивать оттуда разное барахло. Жалоб на работу почты было все больше. И вскоре Федору пришлось оставить работу.
– Бывший партизан! Лихой командир эскадрона! – гремел на него Кружилин, ставший к тому времени секретарем райкома партии. – Да какого эскадрона?! Лучшего в полку! Развалил почту, распустил людей… Меня подвел… Позор!
После этого Федор устроился на работу в недавно организованную районную контору «Заготскот» – приемщиком в Михайловское отделение.
В Михайловке первым, кого он встретил, был младший брат Иван – белобрысый, точно вылинявший от долгого сидения в темной яме, худой как палка, с тонкой и желтой кожей на скулах, сквозь которую, казалось, просвечивали кости.
– Ты?! – удивился Федор. – Как ты тут?!
Иван отвернулся, поглядел на угрюмые в вечерней наволоке глыбы Звенигоры. Под мышкой у него торчал кнут.
– Пастухом я работаю на отделении, – сказал он.
– Ну, это мы исправим живо, – усмехнулся Федор. – С бандитами я не разучился управляться. Откель же ты, контрик?
– Яшка Алейников разъяснит… коли потребуется, – сказал Иван и пошел. Распахнутые полы его заскорузлого под дождями и степными ветрами брезентового дождевика цеплялись за жестяные стебли полынника.
Яков Алейников, бывший начальник разведки кружилинского партизанского отряда, после гражданской войны работал в ГПУ. Узнав, зачем пожаловал к нему Федор, Алейников потер косой рубец на левой щеке – след зубовской шашки, сказал:
– Брательника твоего еще в двадцать пятом выпустили из Барнаульского домзака. Он свое отсидел.
– Пять лет врагу советской власти – что за мера?!
– Суду видней было. Нашли смягчающие вину обстоятельства. Потом он несколько лет работал в Барнауле – бондарил в какой-то мастерской, мыл в затоне керосиновые баржи. Там же и женился на буфетчице какого-то парохода. Сюда переехал с нашего ведома. В артель колхозники поостереглись его принять…
– И я не буду с ним работать. Понял?
– Я-то понял… Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке – и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит – пусть работает, ничего… Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались… – И, походив по кабинету, остановился у окна, глубоко зацепил Савельева холодным взглядом из-под сдвинутых лохматых бровей. – А что ты уж с такой злобой к нему? Брательник все же…
– А непонятно разве?
– Ну ладно, – усмехнулся Алейников. – Это дело ваше, родственное, так сказать. – И, опять потерев шрам на щеке, прибавил: – А ежели подойти с классово-пролетарской точки зрения, то я бы тебя просил, Федор, если что заметишь в нем… душок какой, мысли… не говоря уже о действиях…
– Ты?! – Федор хотел встряхнуть его за новые, глянцево блестевшие от солнечных лучей, бивших из окна, ремни, но не решился. – Шпионить я не буду. Это уж как хошь.
И ушел. Яков Алейников, чуть приподняв лохматую бровь, проводил его задумчивым взглядом.
Как ни кипел Федор, а пришлось ему жить в Михайловке рядом с ненавистным братом. В гости один к другому не ходили, друг с другом не разговаривали. Разве только Иван иногда, отогнав гурт нагулянного скота в Шантару, отдавая Федору сопроводительные документы, спрашивал:
– Всё?
Федор, пошевеливая усом, долго рассматривал цифры и подписи на измятых, желтых листках и кидал, не удостаивая Ивана взглядом:
– Всё.
Крепла, закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между братьями, рождала догадки у михайловских колхозников, плодила бесконечные пересуды.
– Зудит рука у Федора на контру. Хлестанет, должно, когда-нито…
– Обои они кандыбышны… в смысле – одного поля ягода. Федор-то тоже кулацкую дочку в жены взял…
– А зря вы. Кафтанов зверь был, спытали его милости. А дочерь его, Анна эта, партизанила вместе с Федором…
– Партизанила… Блуд чесала об Федьку – это верно…
– Слух шел – не токмо об Федьку, но и об Ваньшу…
– Из одной чашки, хе-хе, братовья, должно, хлебали…
Слушая деревенские пересуды и шепотки, ловя на себе то откровенно насмешливые, то вопросительно-удивленные взгляды, Федор мертвел лицом.
– Слушай, уезжай ты отсюда к чертовой матери! – примерно через год не выдержал Федор. – Уходи от греха! Добром прошу.
– Чем я тебе сейчас-то мешаю? – шевельнул Иван усами.
– Усы мне твои не нравятся! – полоснул Федор брата откровенно ненавидящим взглядом.
Усы Иван отпустил недавно, такие же густые и жесткие, как у Федора, такой же подковкой. Разница была лишь в том, что у Федора они были черными как смоль, а у Ивана светло-русыми, под цвет бледно-серых, как застывшее в июле знойное небо, глаз.
– Усы как усы… Навроде твоих, только цвет другой.
Внутри у Федора что-то екнуло, как селезенка у лошади, он затряс брата, сграбастав за отвороты пиджачка:
– Смеешься, гад? Изгаляешься! Намеками до кишок пыряешь?! – И, не помня себя, рванул за отвороты вниз.
Треск отрываемых лоскутьев словно остудил Федора, он отступил на шаг, поглядел на зажатые в кулаках лохмотья.
– Сдурел ты окончательно, – спокойно произнес Иван. – Какие намеки еще…
В это время заскочила в пригон, где произошла стычка братьев, жена Ивана, Агата, маленькая, верткая женщина. Шла она мимо куда-то по своим делам и уже миновала было скотный загон, но ее остановили голоса мужчин.
– Ах ты, паразит такой! Сволота, кикимор нечесаный! – с ходу обсыпала она Федора бранью, как горохом из ведра. – Со свету совсем Ивана сживаешь? Мужик и без того намыкался, а ты доказнить его хошь? Последние ремки на нем рвешь. Сам-то в суконной паре ходишь, а мы – в лохмотьях. Скидывай, мурло свиное, свой пиджак сейчас же…
Сверкая глазами, она прыгала вокруг кряжистого Федора, болтала вывалившимися из-под платка косами, трясла кулачонками, потом принялась сдергивать с него пиджак. Федор пятился от нее, отбивался, как от озверелой, с лаем наседающей собачонки. Женщина сорвала с него пиджак, свернула его в ком, зажала под мышкой, убежала.
– Не бойся, верну тебе одежку, – проговорил Иван, подобрав с земли оторванные полы своего пиджака.
Федоров пиджак он принес в дощатую каморку на следующий день, молча кинул на скрипучий стол.
– В продолжение вчерашнего прибавлю, – пряча почему-то глаза, произнес Федор. – Ежели замечу, что привечаешь разговором… али как Семку… и уж совсем не приведи господь, коли увижу тебя рядом с Анной… На людях ли, без людей ли – все равно… Не обессудь тогда.
– Ну как же, – произнес Иван, – ты не Кирюшка Инютин, знаю.
В два прыжка Федор оказался рядом с братом, едва сдерживаясь, чтобы опять не схватить его за плечи.
– Рви снова на мне одежу, – будто посоветовал Иван. – Видишь, Агата пришила оторванные полы. Ничего, еще пришьет.
– Нет, одежу рвать не буду! – прохрипел Федор, зажимая внутри себя этот хрип. – Я тебя, контру, просто прикокну, ежели ты… сплетни распускаешь!
– Убери руки, ну?! – ощетинился наконец Иван. – Они у тебя в волосьях.
Несколько секунд братья стояли друг против друга, молча кромсая один другого глазами.
Первым не выдержал Федор, отвернулся и пошел к столу.
– Сплетни… Вся деревня про вас с Анфиской судачит.
– Ну, гляди у меня, ходи, да не оступись, – вяло, будто без всякой злобы теперь, промолвил Федор.
…Кирьяна Инютина Федор перетянул в Михайловку вскоре после того, как только обосновался на новом месте, выговорив ему в районе место своего помощника, хотя, по совести, должность Федора была нехлопотливая – одному делать нечего. Жить Инютины стали в том же доме, что и Савельевы, в пустующей половине. Когда Инютины переезжали, Анна слушала, как они устраиваются за стенкой, гремят ведрами, посудой, и временами тихонько плакала.
– Н-ну, сыть! – покрикивал на нее Федор. – Чего еще!
Недели через две-три шалая михайловская бабенка Василиса Посконова, возвращаясь с колхозных полей, застала Федора и Анфису за деревней, в кустах, росших обочь дороги.
– И-и, бабоньки! – захлебываясь от нетерпения, шмыгала она в тот же вечер по деревне, из избы в избу. – Стыдобушка-то-о! Он ее, значит, усами щекотит в голые титьки, а она похохатывает… Я думаю: что за хохот тут? Девки, думаю, какие в кустах дурачутся… Сем-ка гляну… Раздвинула ветви-то – ба-а-тюшки!
Потом еще несколько раз видели Федора с Анфисой то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на берегу Громотухи.
– Тьфу! – плевались деревенские бабы, перемывая Анфисины косточки. – И как глаза у ней от бесстыдства не полопаются! Ить детная же, Верке уж десять лет, скоро заневестится.
– Дак и меньшой, Колька, все соображает, поди.
– В мокрых пеленках ишо давить таких надо…
И чего не могли взять в толк михайловские мужики, так это поведения самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Федором, об этом ему не раз говорили в глаза. Находились даже добровольцы, изъявлявшие желание немедля отвести Инютина в лесную балку или степной буерак, чтоб на месте «пристегнуть голубчиков». Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплевывал на испеченную зноем землю и говорил:
– Чтоб моя Анфиса?! Да ни в жисть! Она скорей шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было…
Но люди знали – частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню, в какое-нибудь глухое место, и там безжалостно и жестоко избивал, не оставляя на ее тугом белом теле живого места. Обычно до ночи Анфиса отлеживалась в кустах, а с темнотой тихонько, чтоб никто не видел, приползала в деревню.
Иван смотрел на такую жизнь брата молча, Анфисой больше не попрекал и жене строго-настрого запретил.
– Иначе сожрет меня Федька с потрохами.
– Да за что он взялся на тебя, живоглот такой?
– За то, видно, что у Кафтанова в банде служил. И за Анну. Будто от меня у ней Семка… – глухо проговорил Иван. – Я же рассказывал тебе обо всем… как оно было. У меня нет от тебя утаек.
– А может, нам уехать отсюда? А, Иванушка? – спросила Агата однажды после ужина.
Иван не отвечал долго. В углу, посапывая, возился трехлетний Володька, перебирал пустые, давно замусоленные катушки из-под ниток.
– Нет, не дело, – вздохнул наконец Иван. – Тут я родился. Тут батьку с маткой… колчаковцы сгубили. Старший брательник, Антон, правильно пишет: «Тут, в родной деревне, замазывай свои грехи. Пущай, говорит, их могилы вечно твою память скребут».
Антон, старший из братьев Савельевых, после гражданской жил в Харькове, работал заместителем начальника цеха на тракторном заводе. Все это Агата знала. Знала и о письме, о котором говорил муж. Оно было получено давно, еще в Барнауле. Благодаря ему они и оказались здесь, в Михайловке, хотя Агата уговаривала Ивана остаться в городе.
– Написать все вот Антону хочу, да не соберусь. Карточку надо бы попросить. А то прийдись встренуться – не узнаю ведь, пройду мимо. Я ж его последний раз в тыща девятьсот десятом, что ли, году видел. Он тогда то ли из Томской, то ли из Новониколаевской тюрьмы убежал. А следом за ним – жандармы. Ну, да и об этом обо всем я рассказывал тебе.
В тот вечер оба не спали долго. Лежали, смотрели в темноту.
– Вань… А ты не досель ее, Анну-то… любишь?
Неслышной волной тронуло Иваново тело, будто прокатился где-то внутри у него проглоченный вздох.
– Хватил я через нее, проклятую, лишенька… Всю жизнь ведь переломала мне. Кабы не она, разве б я оказался в банде Кафтанова? – И помолчав: – Хотя что ее винить?
Повернулся к жене, провел жесткой рукой по волосам, по лицу. И, ощутив мокрые от беззвучных слез щеки, сказал:
– Ну-ну… Если бы что этакое… разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще – как бы я на земле, не встреть тебя? Куды бы я! Спи.
Он прижал к груди ее голову. Успокоенная, она заснула.
Помня предостережение Федора, Иван года два жил, будто отгородившись невидимой стеной от его семейства, от Кирьяна Инютина, от Анфисы. Если где встречал кого ненароком, проходил мимо, даже не взглянув. И на него никто не смотрел, только Анфиса полоснет иногда острым зрачком, но тут же прикроет глаза, будто устыдившись. Да один раз десятилетний Семен, ковырявший в перелеске какие-то сладкие корни, подошел к Ивану, который сидел под сосной, наблюдая за бродившим по угору стадом.
– Эй, дядька… – сказал Семен, сунув в карманы измазанные землей руки. – Люди будто говорят, что ты мой дядька.
– Это правда, я твой дядя, – ответил, помедлив, Иван.
– А что же ты тогда у беляков служил?
– Так вот… пришлось, – растерянно улыбнулся Иван.
– Эх, контра белопузая! – угрюмо бросил парнишка и ушел, не вынимая рук из карманов.
Но если эта стенка между братьями не таяла, то к михайловским жителям Иван потихоньку притирался. Все меньше и меньше ощущал он на себе косых, обжигающих любопытством и неприязнью взглядов, все чаще при встречах здоровались с ним мужики, а то и останавливались поболтать, угощали крупно крошенным, ядовитым на цвет и на вкус самосадом, который при затяжках свирепо трещал, брызгал искрами.
Видно, сказывалось тут и время, незаметно заставляющее людей привыкать ко всему, делал свое дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать.
– За-ради чего ты хлобыстаешься пуще нас? – спрашивали иногда женщины. – Ведь не колхозница.
– Не убудет меня, – с улыбкой отвечала Агата. – Иван-то хоть коров пастушит, а я вовсе не разминаюсь.
Да и сам Иван время от времени помогал колхозу то сбрую починить, то сани наладить. Он умел отлично гнуть дуги и колесные ободья, делать бочки и кадушки. Председатель «Красного колоса» (так назывался михайловский колхоз) Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами и ни разу не получал отказа.
И однажды в дождливый осенний вечер бывший заместитель командира партизанского отряда Панкрат Назаров завернул в халупку к Ивану.
– Погодка, язви ее… – Он смахнул сырость с бороды, вытащил кисет, присел у дверей. С дождевика его на некрашеный пол текла вода. – Насвинячу тут у вас.
– Ничего, – улыбнулась Агата. – Какая трудность подтереть! Раздевайся, чаю попьешь горячего.
– Не до чаев, – хмуро сказал Панкрат. – Солому с прошлогодних скирд перемолачиваем. Да что…
Шел голодный тридцать третий год, за неурожайным летом надвигалась долгая, зловещая зима.
– Вы-то как? Зиму протянете?
– Картошка есть, не помрем, может, – ответил Иван.
– Не помрем, – широко улыбнулась опять Агата, будто она твердо знала о какой-то приближающейся радости.
– Правда, с такой женой грех помирать, – сказал Панкрат. И вдруг спросил: – Слухай, Иван, в колхоз пойдешь?
Иван, строгавший в углу кадочные клепки, отложил рубанок, выпрямился. Агата птицей метнулась к мужу, будто ему угрожала какая опасность, повисла на плече.
– А примете? – спросил Иван.
– Сейчас многие с колхозу бегут, – вместо ответа проговорил председатель, растирая усталые глаза. – Грузят лохмотья на телегу и уезжают. В город подаются, на заработки. Думают, там слаще.
– На следующий год будет, будет урожай! – почти зло выкрикнула Агата.
– Должон, поди, – согласился Панкрат. И, помолчав, произнес: – Я вот думаю все – Михаила-то Лукича Кафтанова, Анниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Так ить разумно не объяснил. Чтобы свое бандитство искупить?
– Нет, не потому. – Иван освободился тихонько от жены.
– А Яшка Алейников и тогда и сейчас говорит – потому. И брат твой Федор – тоже.
– А им откуда знать, потому или не потому?! Я им об том тоже никогда не докладывал. И на допросах никому не разъяснял. И разъяснять не буду.
– Что шумишь? – сказал Назаров, вставая. – Не будешь – дело твое. А живешь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства, руки золотые. Яшка Алейников говорит: «Не вздумайте в колхоз принимать, затаился он, сволочуга, сейчас хвост прижал, а урвет время – гвоздем вытянет да на горло скочит…»
– Вон что, – усмехнулся Иван тяжело и горько. – Застрял, значит, я, как телега в трясине за поскотиной.
– Была трясина, теперь нету, забутили недавно. Теперь – сухое место. – Назаров застегнул дождевик. – Оно и в жизни человеческой так бывает. Алейников этого в расчет не берет, видно… Ну, да хрен с ним. Обдумайте с Агатой все, а по весне примем вас в колхоз.
И приняли. Иван боялся, что на собрании начнут допытываться, отчего да как очутился в банде у Кафтанова, при каких обстоятельствах прикончил его. Тут может и об Демьяне Инютине, бывшем одноногом старосте, вопрос подняться: кто его-то в амбаре пришлепнул, как, за что? Об Инютине Иван вообще никогда никому не говорил, кроме Агаты, – ни партизанам тогда, ни на суде потом. Но никто ничего не спросил. Может, потому, что Панкрат Назаров, открывая собрание, напрямик сказал:
– Значит, так, Иван Силантьевич… Что ты в банде у Кафтанова был – знаем. За то отсидел, сколь советской властью было отмерено. Но ежели какие прежние грехи утаил от суда…
– Али злодейства, – вставил мужичок Евсей Галаншин, живший тогда еще в Михайловке, и победно оглядел колхозников.
– Так вот, ты, Иван, лучше сейчас перед народом признайся. А то ежели всплывет что потом… сам понимаешь.
– Ничего я не утаивал, – сказал Иван. – И злодейств никаких не делал. Только портянки Кафтанову стирал да самогонку для него по углам шарил.
– А это не злодейство?! – закричала вдруг Лукерья Кашкарова, баба лет под пятьдесят, на лицо моложавая, все еще хранящая следы былой красоты. – У меня, паразит, четверть самогонки из избы выпер. До сих пор бутыль помню – на горлышке краешек сколотый… Ишо плеткой на меня замахнулся. И день помню: как раз на Аграфену-купальницу было в восемнадцатом году…
– Это было, – сказал невесело Иван. – Ты же уцепилась за эту несчастную бутылку, вроде как у тебя сердце вынимали. А Кафтанов, озверевший от пьянства, велел не только самогонку, а и тебя к нему приволочь.
При этих словах начавшийся было ропоток увял, настороженное любопытство разлилось по рядам колхозников.
– Ну? – не вытерпел кто-то на задней скамейке.
– Я сказал Кафтанову: «Лушка, видать, унюхала что про твои желания, в степь с вечера убегла».
– Эк ты! – вскочил Галаншин, замахал руками. – Вот ентой-то ложи и не прощает тебе Лушка!
– Лишил бабу радости…
– Доседни сожалеет… – заметался в тесной, накуренной конторе хохоток.
Лукерья повернула голову вправо, влево, налилась гневом:
– Жеребцы, язви вас! Нахальники… Об чем это я сожалею? Да я, как Иван сказал мне, что Кафтанов… на этакое зарится, при нем же, при Иване, собрала в узел рубашонки для перемены – да в лес. Иван не даст соврать. Скажи ты им, Иван Силантьич! Без перегляду с час бежала, пока сердце не зашлось.
– Это верно, побежала ты – на коне вряд ли бы угнаться, – сказал Иван, но его перебил Галаншин:
– А скажи, Иван, случаем не на заимку по привычке она побежала, что в Огневских ключах?
– Кака заимка?! Каки ключи?! – вскочив, закричала Лукерья, но ее голос потонул в громовом хохоте.
В молодости Лукерья была девкой бойкой и на любовь щедрой. Видимо, поэтому, несмотря на красоту, замуж ее никто не брал, но ее щедростью пользовался всякий. А михайловский богач Кафтанов, когда случались у него загулы, почти в открытую увозил Лушку на свою заимку, жил там с ней по неделям.
Знали также в деревне, что в двадцать восьмом году кто-то из деревенских доброхотов наградил Лукерью сыном. Почувствовав себя беременной, Кашкарова очень удивилась этому обстоятельству и, встречаясь с бабами, зло разглядывала свой полнеющий живот и у каждой женщины почему-то допытывалась:
– Кто же это, бабоньки, мне подсудобил? Узнать – я бы ему глазищи-то выдавила. Ну, погоди, пущай дите народится! По обличью отгадаю отца и брошу ему ребенка под порог.
Но когда родился Витька, Лукерья, сколько ни разглядывала мальчишку, так и не могла определить, на кого он похож.
…Народ смеялся до слез, до рези в глазах. Лукерья кричала, крутилась среди людей, пытаясь что-то объяснить, потом села и заплакала.
– Нахальники вы! – выкрикнула она. – Ишо скажете тут вслух, что я с кафтановским сынишкой, с Макаркой путаюсь! Знаю ить, по углам шепчетесь. Как язычищи-то от чирьев не полопаются!
Люди быстро примолкли. Всем до удивления странно было видеть плачущую Лукерью. И, кроме того, очень уж дерзко и бесстыдно высыпала она перед всеми те сплетни и пересуды, которые гуляли про нее по деревне.
Имели ли под собой какую-то почву эти сплетни, сказать было трудно. Старшего сына Кафтанова, Зиновия, возглавившего после смерти отца его банду, вскоре изловил где-то Яков Алейников. По слухам, Зиновия отправили в Новониколаевск, по-теперешнему в Новосибирск, и там расстреляли. Но у Кафтанова был еще один сын – Макар. В девятнадцатом году мальчишке было лет шесть, Кафтанов прятал его где-то по таежным заимкам. И, поговаривали, не без помощи той же Лукерьи.
Где потом жил Макар, да и жив ли он вообще – было неизвестно. Но в тридцатом году летом приехал в Михайловку высокий, узкогрудый, чернявый, точно закопченная самоварная труба, парень, одетый чисто, по-городскому, в шляпе, с тросточкой. Он переночевал у Кашкаровой, а утром появился на улице, приковывая общее внимание диковинным своим видом.
– Кто же ты такая птица? – скорее других осмелился приблизиться к нему Евсей Галаншин.
– А Макар я. Макарка Кафтанов. Приехал вот на родину.
– Во-он что-о, милый! – протянул Евсей и поводил расплющенным носом. – А ежели тебя загребут? За родителя-то?
– Не-ет. Я ведь политикой не занимаюсь. Я уголовник.
– Кто-кто?! – заморгал Галаншин.
– Вор я.
– Ча… чаво? – вытянул тонкую шею Евсей и перестал моргать.
– Да ты не бойся, голуба, – усмехнулся Макар, хлопая Галаншина тросточкой по плечу. – Я только магазины граблю. Специальность у меня такая – магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?
Привлеченные необычным разговором, осмелев, вокруг Галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошел Макара кругом.
– Шутников и мы видывали. За мангазею-то тебя еще скореича в тюрьму упекут.
– Ну, испугали… Да и поймать еще надо… В общем, так – Лукерья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантаре и перевезу ее туда. А пока чтоб и волос с ее головы не упал.
С тем Макар и отбыл. Через две недели пронесся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала.
Потом Макар еще появлялся в деревне раза два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит, через полгода, в крайнем случае через год непостижимым образом освобождается.
Оба раза, пожив несколько дней у Лукерьи, он объявлял, что уезжает в Шантару покупать для нее дом, но, видимо, сделать покупку не успевал, садился в тюрьму.
Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвертый раз, но он что-то задерживался.
Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пестрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Галаншин произнес:
– А что ж ты, Лушка, на языки народные в обиде? Ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и, сказать, не соломина…
Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потек было, разливаясь, говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на все помещение:
– Ну, будя! Разбалаганились. Об деле давайте. Ну, так что, есть какие, окромя Лукерьиных, возражения супротив Ивана?
Никаких возражений не было.
На второй или третий день после собрания влетел на легкой рессорной коляске в Михайловку Яков Алейников, осадил приплясывающего каурого жеребца возле колхозной конторы, бросил черные ремни вожжин как раз выходившему от председателя Ивану:
– Подержи!
И вбежал на крыльцо по расшатанным ступеням.
О чем Алейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, пошел по своим делам. Алейников же, приняв вожжи, подергал рубцом на левой щеке:
– Интересненько приклеиваешься.
– Ничего я не приклеиваюсь.
– Ну! – взмахнул Алейников бровями. – Это позволь уж нам самим знать! – И, упав в коляску, укатил.
Вечером того же дня Иван встретил Панкрата у амбаров.
– Что он, Яшка? Насчет меня, должно?
– А хрен с им, – сказал Назаров. – Он насчет всякого обязан, его дело такое…
Эти слова успокоили Ивана и всполошенную наездом Алейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты ее тела, но обо всем догадался.
– Когда? – спросил Иван, погладил ее холодноватое плечо.
– К Октябрьским праздникам, должно, будет.
– Молодчина ты у меня. Вишь, радость, как и беда, тоже не ходит одна.
А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали.
Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить луг недалеко от Громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали теплым, сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных валков, как дрожит над ними теплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно думал об Агате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо вылинявшим платком, думал о ребенке, которого носит она в себе. Ивану хотелось, чтобы это была дочь.
На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук, а жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматривалась в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди.
– Ты чего, Агата? – поднялся Иван.
– Ой, не знаю… Заколотилось сердце отчего-то…
Дрожки подъехали, соскочил с них плотно запыленный – даже в мохнатые брови густо набилась пыль – Яков Алейников, а с ним пожилой милиционер.
– Здорово, колхознички. Бог в помощь, – сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану: – Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим.
Вскрикнула Агата, повернулась к Алейникову посеревшим лицом, загораживая мужа.
– Отойди, баба! – строго произнес Яков.
– В каталажку, что ль, Ивашку? – спросила испуганно Василиса Посконова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристойных взаимоотношениях Федора Савельева и жены Инютина. – А за что, ежели спросить?
– И прям, товарищ-гражданин, разъяснил бы людям, – угрюмо поддержал ее пожилой, кряжистый колхозник Петрован Головлев, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду.
– Пос-сторонись! – кинул Алейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающе поглядели на него.
– А действительно, что случилось? – проговорил, подойдя к Алейникову, двадцатитрехлетний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Девятнадцати лет Максим ушел в армию, неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблескивая рубиновыми лейтенантскими кубиками на петлицах гимнастерки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и уморился, видать, после обеда сразу же заснул, уронив голову на копешку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке еще держались вмятины от травяных стеблей.
– Уголовное дело, – недовольно сказал Алейников. – А может, и политическое. Суд разберется.
– Да что такое Иван изделал? – тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки.
– Именно…
– Неуж людям нельзя обсказать… – посыпалось со всех сторон.
– А может… может, Иван все же утаил какие прежние грехи? – крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством. – А теперича всплыло? Панкрат предупреждал, помните?!
– Ладно, мужики, – вошел в круг Иван. – Братец Федор, должно, удружил мне. За тех двух жеребцов. Да разберутся же люди…
– Это какие такие жеребцы? – крутнулся Евсей к Алейникову. – Что по весне потерялись, что ли? Отделенческие?
– Они, – сказал Иван и вернулся к плачущей Агате.
Два отделенческих жеребца, на которых Федор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана.
– Значит, колхозник теперь? – усмехнулся Федор, когда Иван принес заявление с просьбой освободить с работы.
– А тебе что, опять не нравится?
– Мне что? Приняли – колхозничай.
А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг (уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Инютина). А утром взял уздечки и пошел ловить коней. Но их и след простыл.
– Та-ак-с… – сказал наутро Федор, встретив Ивана на улице. – Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался, а теперь, значит, решился?
– На что я решился? – произнес Иван. И только после этого дошел до него зловещий смысл Федоровых слов. – Да ты… Ты что городишь?! Придумал бы поумнее что…
– Разберемся, милок, – бросил Федор и, покачивая широкой спиной, ушел.
И вот приехал Яков Алейников.
Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину прильнувшей к нему Агаты.
– Будет, будет же… Чего зря? Это ведь доказать надо. Прощай пока. – И сел в тележку.
Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.
– Постойте-ка… – И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.
В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнес несколько сотен слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чем гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжелого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.
– Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? – спрашивали его иногда.
Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но случалось, все же разжимал губы:
– Почто же? Нет.
– Так чего все молчишь-то?
– А об чем мне говорить?
И умолкал намертво снова на год, на два.
Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на бричку одной рукой; взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.
Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался, по обыкновению, но один раз сказал:
– Они боятся. Какую ни попробуешь обнять – хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.
Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах.
Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошел вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.
– Так… И далеко тебя прокатить? – Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.
– До милиции, – сплюнул Молчанов на траву.
– Это можно. А в чем покаяться хочешь?
– В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Матерь прихворнула, ухи попросила, – не спеша проговорил Аркадий и умолк.
Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.
– Все? Выкидываешь тут фортели… Слазь к чертовой матери!
– Я иду, гляжу – Кирьян тех коней ловит. Инютин-то… Ночью, значит. Еще серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.
– Ну?! – раздраженно воскликнул Алейников.
– Иди ты… Что орешь? – обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.
– Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.
– Это ить чудо голимое – Аркашка Молчун беседывает! – закрутился Евсей Галаншин. – Ты давай, Аркашенька, закручивай свое ораторство… Так, поехал Кирьян. А куда?
– К Звенигоре поехал! – со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. – Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пехом идет, уздечками в руках побрякивает.
– Куда же он коней отвел? – спросил Петрован Головлев.
– И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошел на пригорок, глянул – недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают…
Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чем рассказывает тяжелый на язык Аркадий.
Первым нарушил тишину Головлев Петрован:
– Постойте, мужики… Так оно что же получается?
– Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?
– Люди, люди! – врезалась сбоку в толпу Агата. – Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он могет на такое…
– Помолчи, Агата…
– А разобраться надо…
– Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?…
Поднялся шум, гвалт.
– Тих-хо-о!! – заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: – Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем…
Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи ее крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чем-то виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном…
Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришел под вечер, снял запыленную одежду, умылся и жадно начал хлебать окрошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку.
– Чего там с Иваном? – заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. – Разобрались?
– Разбираются.
И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.
Потом Молчанова еще несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился все сильнее и сильнее.
Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Федора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:
– Ништо, переворот ему в дыхало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.
И Федор после поездки был немногословен.
– Дал Бог мне братца… – только и произнес он.
В конце августа тридцать пятого года Ивана осудили на шесть лет. Федор встретил это известие молчком, только усами нервно подергал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.
Колхозники не знали, что и думать.
– Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свел лошадей? – кинулись некоторые к Молчанову. – Разве б безвинного засудили?
– Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.
– А идите все вы к… – впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.
В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто ее лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.
– Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость, – сказал Панкрат, шумно вздыхая. – А с другого боку – зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.
Он еще выкурил одну папиросу и встал.
– А тебе так, баба, скажу: Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей серчать нечего. Отворотишься ежели от людей теперь – погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детями – отдельно. А там и видно будет. Время – оно все разъяснит, до полной ясности…
Федор Савельев и Кирьян Инютин после этого еще немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.
После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Федору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходился, и теперь никто особой дружбы не завязывал.
Но Федор все явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Федор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.
Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза ее, в которых можно было когда-то утонуть, делались все мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но все еще хранившая девичью легкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утесы Звенигоры, каменела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась ее грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.
Нередко в таком положении заставал ее Федор, но ничего не говорил. Только подергивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдергивала из головы костяную гребенку. Светло-русые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчесывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытье, принималась за домашность.
Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.
Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:
– Мама, а чего люди говорят… будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?
Федор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжелом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.
– Хватит! Каждый глазами напополам стригёт, будто и в самом деле я Ивана…
И тем же часом уехал в Шантару, через три дня вернулся с новым приемщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.
Через час нехитрые пожитки были уложены, Федор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семену:
– Трогай потихоньку.
Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.
– Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?
– В МТС пойду. На курсы. По машинной части.
– Эвон как. По машинной – это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет, – одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: – Это хорошо, что уезжаешь отсель.
– Вот как?!
Пробегавший мимо Евсей Галаншин полюбопытствовал с откровенным цинизмом:
– А как ты, Федор, без Кирьяна-то? Али все же к себе его выпишешь?
Внешне Федор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щеки.
– А это уж как мне удобнее, – усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.
Кирьян Инютин с семьей уехал из Михайловки через неделю. А еще через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие, что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Федор.
– Обои с тетрадочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают… – звонила она, захлебываясь от торопливости.
– А про Анфиску его что слыхала, нет? – любопытствовали бабенки.
– Да что… – виновато крутилась Василиса. – Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила…
Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Федора и Кирьяна.
* * *
21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.
Чумазый, задыхающийся на подъемах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощекие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запеченных в сметане грибов, жареных цыплят…
Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобожденные районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:
– Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного…
– Работа найдется, – ответил секретарь. – Направляем тебя в распоряжение парторганов.
Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.
Вечер был теплый и тихий. Но из-за Сана все равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал: на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих поселках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок:
– Гроб с крышечкой скоро будет советской власти, чтоб мне не дожить до вечера… Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке… А уж крышечку завинтим поплотнее…
Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.
– Кто это тут крышку советской власти завинтить собирается? – спросил он, подходя к ребятам.
Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.
– А я, допустим, – усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.
– Кто такой? Как фамилия? – Отступать было поздно.
– Карточку показать или на слово поверишь? – И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец – эмблема бандеровцев.
Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.
– Что стоите? Бей гада! – заорал тот, выхватывая нож.
Антон поднял с земли обломок кирпича – больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки…
Раздумывая обо всем этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра – завод работал и по воскресеньям, – а сейчас хорошо бы побриться и поесть.
Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать еще не закрывшуюся парикмахерскую.
Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тер лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.
Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.
– Что за Саном делается, не слышно? – спросил Антон.
– Откуда же я знаю, что за Саном? – ответил парикмахер с отчетливой еврейской интонацией. – Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?
Но, кончив бритье, добавил:
– На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?
– Не знаю, – вздохнул Антон.
– Да, да… – вздохнул и парикмахер. – Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении…
Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» – микроскопические пирожные – и небольшие бутерброды – «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.
Улегшись на койку в своем номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома Лиза? И приехал ли Юрий?» – почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.
Постепенно сон брал все-таки свое. Последнее, что он услышал, – за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал веселую львовскую песенку:
Во Львове идет капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья…
Проснулся он от страшного грохота.
Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отсветы огня – что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проем окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.
Надернув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» – подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребенок.
Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.
И только тут отчетливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»
На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» – сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь… Помочь…»
Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял – помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинались о брошенные чемоданы, о всякую рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот – все перемешивалось, превращаясь в сплошной неиссякаемый рев, еще больше усиливая панику.
Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая – куда же теперь ему идти? И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль: «А как там во Львове? Приехал ли Юрка?»
Из какого-то проулка выкатился зеленый броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.
– Товарищи! Не создавайте паники! – разнеслось от площади. – Возможно, это просто провокация… На всякий случай – всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакопункт. Там вас ждут автомашины…
Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.
И тогда все услышали в небе надсадный, прерывистый гул.
Над городом пузырились кроваво-черные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжелой, распухшей подушкой.
Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолеты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчетливо и зловеще чернели кресты…
* * *
Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскаленная зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.
Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на расшатанном, грохочущем «ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:
– Алло, алло! Станция?… Катя!.. Это ты, Катя?… Что там Новосибирск?… Не отвечает?… А квартира секретаря обкома… Тоже молчит?… Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.
Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.
– A-а, Яков Николаич! – промолвил он вдруг, взяв очередные листы. – Ты ко мне? Заходи.
– Зайду, – сказал Алейников, стоявший в дверях Вериной комнатки. – Сейчас зайду.
Кружилин, удивленно глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошелся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем еще не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперек этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.
Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:
– Да что за ребенок, язви его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо приедет…
Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.
Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины кусты подступали чуть не к избенке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.
Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по темным улицам и осталась ночевать.
Сквозь липкий, тяжелый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протерла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова – в тяжелой, длиннополой шинели, в фуражке, пристегнутой к подбородку глянцево-черным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.
Манькин отец – Ерофей Кузьмич – был ей неродной – трехлетней девчонкой взял ее из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоем, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.
Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.
– А за что? – спросил он.
– А там объясним, – вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом окурок на половице. – Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменил – так и не разыщем? Разыскали.
– Прощай, Маньша, – повернулся к приемной дочери Ерофей Кузьмич. – Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть…
Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.
…Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.
Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был обгорожен со всех сторон плотным деревянным забором.
Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» – тупо и больно колотилось в голове.
* * *
– Слушаю тебя, – сказал Кружилин, поднимая тяжелую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.
Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.
– Алло, Катя?… Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? – опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. – Ну, ты скажи, будто вымерли все…
– Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает, – промолвил Алейников. – Это мы все работаем, работаем…
Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.
– Ты по делу? – спросил он, не поднимая головы.
– А без дела и зайти нельзя? Друзья все же, – усмехнулся тот.
Тупое и тяжелое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.
– Друзья, говоришь?
Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.
Поликарп Матвеевич понимал необходимость и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло…
…После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарем. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.
– Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу, – не раз говорил Алейников. – Поликарп Матвеич, дозволь мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим… губошлепам из Чека его сроду не изловить.
Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.
В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека – человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своем месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого, лет тридцати пяти человека.
– Вот, как обещал… Стой прямо, стерва, перед советской властью!
Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтанова.
После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навел в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.
– Ну, давай, Яша, помогай, – сказал он ему. – Время беспокойное настает, кулачье во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.
Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарем райкома партии.
Яков Алейников будто нюхом чуял, где и что замышляет кулачье, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.
– Трудненько, Яша? – иногда спрашивал Кружилин. – Одни брови да рубец на щеке и остались.
– Выдюжим, – отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы. – Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.
– Подозрительно, – соглашался Кружилин. – По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то…
– Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что – сообщу, посоветуюсь.
Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.
А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нем эта перемена. Попервоначалу Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устает да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся все реже и реже.
– Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? – сказал как-то Кружилин. – На курорт куда съездил бы.
– Наотдыхаемся… на том свете, ежели сейчас поводья отпустить, – мрачно ответил тот.
У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.
– Ты эти штучки брось-ка, Алейников, – потребовал Кружилин, узнав о таком методе. – Невиновных сажать – за это знаешь ли… Ты не царской охранкой командуешь…
Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потертом кожаном диване в одном из кабинетов, а днем с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т. д.
Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:
– Черт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.
– Скажем… – кивал головой оперуполномоченный. – Значит, и Федор Савельев был у вас в отряде?
– Да, был. Он командовал эскадроном. Лучший командир эскадрона был в полку.
– Так. А его брат Иван в прошлом году осужден за вредительство. Знаете?
– Да, знаю. Хотя – не верю…
– То есть как не верите? Советским чекистам не верите? – пытаясь изобразить строгость на своем безусом лице, спрашивал Тищенко.
– Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.
– Ну а факты? Ведь было же следствие…
– Да, факты… – устало проговорил Кружилин. – Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был…
– Да, да, в банде Кафтанова… – повторил Тищенко, прошелся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог. – Тут ведь все очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Федор – лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.
– Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моем отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осужден, отсидел. Но в нем проснулся человек, он в последнее время…
– Давайте по порядку, – прервал Кружилина оперуполномоченный. – Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она… попросту шпионкой была в вашем отряде?
– Это исключено. Она порвала с отцом, с семьей. Она очень любила Федора Савельева, моего командира эскадрона…
– И из-за любви пошла с красными? – улыбнулся Тищенко.
– Что же… Любовь – дело серьезное.
– Когда дело касается классовых идей, то любовь… Впрочем, хватит на сегодня, – сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги. – Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.
– То есть как – тут?… Как – завтра?!
Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щелкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвертом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.
Придавив гнев и возмущение, Поликарп Матвеевич сел на диван и попытался хладнокровно сообразить: в какое же положение он попал и что, собственно, от него хотят? На арест не похоже, но и на свободу тоже. Да и за что его арестовывать? Дикость какая-то. Иван Савельев… Ну Иван… Нет, нет, не может Иван, не должен был… Тут какое-то недоразумение. А что, если… Ведь в самом деле, вели же следствие. Но Федор Савельев, Анна, жена его?… Нет, нет, это исключено, чушь какая-то. А что, если не чушь? В последнее время раскрыта масса вредительских групп по всей стране. Что, если я… если меня вокруг пальца обводили все – и Федор, и Анна эта?… Да нет же, нет, какая она шпионка?
Все перепуталось, все перемешалось в голове Кружилина. Слишком неожиданно все это обрушилось на него, слишком в неожиданном положении он оказался.
Ночь он провел без сна.
Утром явился с папкой под мышкой Тищенко.
– Я прошу… Я требую: сообщите обо всем секретарю крайкома партии! – почти закричал Кружилин.
– О чем? – спокойно переспросил безусый чекист.
– О том, что вы меня здесь держите!
– Доложим, – отозвался тот, сдувая с рукава гимнастерки соринку. – Если надо будет – доложим.
Он сказал это таким равнодушным, бесцветным голосом, что Поликарп Матвеевич взорвался яростью:
– То есть как – если будет надо?! Что вы за комедию устраиваете?!
– Вы не волнуйтесь, Поликарп Матвеевич. Если не виноваты, вам нечего волноваться.
– Да в чем, черт побери, вы меня обвиняете?!
– Собственно, ни в чем серьезном. Нам надо было уточнить кое-что об Иване Савельеве, о Федоре, о его жене Анне.
– Кроме того, что сказал, я ничего о них добавить не могу. Вам достаточно? Я могу быть свободен?
– Конечно, мы вас отпустим, – усмехнулся Тищенко.
– Вы меня еще не посадили, чтоб отпускать! И не посадите!
– Успокойтесь, Поликарп Матвеевич, – опять сказал Тищенко. – Хорошо, о братьях Савельевых поговорили. А сейчас…
– А сейчас я требую прекратить балаган! Немедленно! Ведите меня к вашему начальнику, в конце концов!
– Он, к сожалению, в командировке.
– Н-ну… ладно, – почти шепотом, в изнеможении, произнес Кружилин. – За всю эту комедию вы ответите.
– Хорошо, ответим. – Тищенко снова сдул какую-то пылинку с рукава новенькой, тщательно отглаженной гимнастерки. – А сейчас объясните мне, пожалуйста, – и в его голосе зазвучал, правда еще не очень натренированно, металлический оттенок, – объясните, почему, на каком основании вы органы внутренних дел называете царской охранкой?
Кружилин секунду-другую тупо смотрел на этого молодого человека в форме, который напоминал чистенького, новенького оловянного солдатика, только что вынутого из коробки.
– Слушай, сынок… – сказал он как-то печально.
– Не рано ли в папаши записываетесь?
– Мне сорок шесть, сорок седьмой пошел. Так вот, сынок… Ты еще и под стол-то пешком не мог ходить, а я уже в Австрии воевал. Меня газами чуть не задушили, потом, вплоть до двадцатого, я партизанил… Я в партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года.
– Я, я, я… удивительно вы скромный человек.
И тут Поликарп Матвеевич не выдержал. Побледнев, он трахнул кулаком по столу.
– Мальчишка! Да я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать. А ты хочешь мне своими гнилыми нитками пришить антисоветчину? Во враги этой власти записать? Не выйдет!
– Почему же? – Тищенко пожал плечами. – Если надо, может и получиться.
Сказал и поглядел на Кружилина: какой эффект произведет это словечко «надо»? Но, к его удивлению, Кружилин не спеша повернулся, пошел к дивану, покачивая плечами, сел, спокойно закурил.
– Это что же, таким вот способом вы и другим дела шьете?
– А вам не кажется, что это клевета на сталинских чекистов? За такую клевету можно о-очень долго рассчитываться.
– А знаете что? – промолвил Кружилин. – Подите-ка вы к черту.
– То есть как? – опешил Тищенко, привстал. И только потом, задыхаясь, прокричал: – Как вы… смеете?! Встать!
– А так и смею. Я больше не желаю с тобой разговаривать. – И отвернулся к стене.
Оперуполномоченный нервно сгреб со стола бумаги и, вжикая новыми сапогами, вылетел из кабинета.
Остаток дня Поликарпа Матвеевича никто не беспокоил. Хорошо хоть, что в углу, на тумбочке, стоял графин с водой.
Никто не беспокоил его и на третий день, до обеда. А часа в два дверь распахнулась, вошел, почти вбежал, Яков Алейников.
– Поликарп Матвеевич! Ну, дельцы они тоже! Случайно узнаю в управлении, что они тут тебя… «Вы что, говорю, с ума сошли?! Как вы могли даже подумать что о Кружилине? А мы, говорю, секретаря райкома потеряли…» Поехали, я тоже домой.
– Неумно, Алейников, – тихо и раздельно проговорил Кружилин.
Яков умолк на полуслове, вскинул и опустил брови. По его туго обтянутым скулам прокатились и исчезли желваки, натянув кожу, кажется, еще сильнее, до предела.
– Поликарп Матвеевич, – произнес он глуховато, глядя немигающими глазами в глаза Кружилина, – мы преданных партии и советской власти людей не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Инцидент с вами объясняется просто, – перешел он вдруг на официальное «вы». – Как-то здесь, в управлении, я шутя рассказал, как вы меня критиковали за мой метод работы… что, мол, я не царской охранкой командую… Они, понимаешь, запомнили эти слова.
– Не ври, Алейников! Я тебе не мальчишка!
– Поликарп Матвеевич!
– Что – Поликарп Матвеевич?! Ты творишь в районе беззаконие!
– Например? – сощурил глаза Алейников. На щеках у него проступили и начали расползаться белые пятна.
– Например, тот же Иван Савельев. Он не виновен. Например, колхозник из Михайловки Аркадий Молчанов. За что вы его-то посадили вслед за Савельевым?
Кружилин задыхался от ярости, сжимал и разжимал кулаки. Крупное его тело вздрагивало, он хотел унять эту дрожь и не мог.
– Дальше? – усмехнулся одними губами Алейников.
– А дальше – так не будет! Мы хотели на бюро райкома заслушать работу райНКВД, кое в чем разобраться… Тебя, видимо, рекомендовали бы снять с работы за нарушение социалистической законности. А ты меня решил для острастки сюда! Не выйдет, братец! Бюро состоится! Мы не позволим выйти… тебе из-под контроля партии…
Алейников молча постоял немного, прошел к тумбочке, налил стакан воды и выпил. Потом сказал спокойно:
– Есть, видимо, вещи, которых вы не понимаете, Поликарп Матвеевич. Никакого бюро не будет.
– Это почему же? По каким соображениям?
– По политическим. Вот вам пропуск на выход…
Не помня себя, Кружилин выбежал на улицу, крупно зашагал в крайком партии.
Секретарь крайкома Субботин, стареющий угловатый человек, щеки которого изрезали глубокие морщины, принял его не сразу, но зато выслушал весь рассказ Кружилина спокойно, внимательно, не перебивая. И только когда Поликарп Матвеевич умолк, проговорил:
– Да, мне звонили. Все это очень неприятно.
– Значит… Значит, я, Иван Михайлович, действительно чего-то не понимаю, как говорил Алейников?
– Так выходит.
– Но – чего? Чего?
– Чего? – невесело переспросил секретарь крайкома. – Многого. Политической обстановки. Пульса времени.
– Что? – Кружилин поднял глаза на секретаря крайкома, оглядел его, будто видел впервые.
Поликарп Матвеевич давно, кажется с ноября 1919 года, знал этого человека, одного из руководителей новониколаевских подпольщиков, потом комиссара одного из полков легендарной Пятой Красной армии. Ну да, с ноября, потому что именно в последних числах ноября 1919 года партизанский отряд Кружилина совместно с этим полком выбили белогвардейцев из Шантары. Потом полк ушел дальше, на Новониколаевск, а этот человек крепко тряхнул ему на прощанье руку и сказал: «Давай, Поликарп, устраивай тут советскую власть. Ты пока отвоевался».
Затем он встретился с ним, кажется, года через два или три, на Барнаульской партийной конференции – в те годы Шантарская волость относилась к Барнаульскому уезду. «Ну вот, и я отвоевался, – сказал этот человек, узнав Кружилина, и опять крепко тряхнул ему руку. – Сейчас, видно, придется потрудиться в укоме партии. Поработаем вместе».
И они работали, часто встречаясь, до самого тридцатого года, когда Шантара отошла ко вновь организованному Западно-Сибирскому краю. На несколько лет Кружилин потерял из виду этого человека, но полтора года назад снова встретились в Западно-Сибирском крайкоме. «A-а, Поликарп Матвеевич! – воскликнул тот радостно и энергично потряс руку. – Видишь, гора с горой не сходится… Опять свела нас судьба! Ну, заходи, потолкуем, что и как у вас в Шантаре…»
Работать с Иваном Михайловичем было легко и приятно. Неизменно мягкий и приветливый, он никогда не горячился, не суетился. Все это как-то не гармонировало с его угловатой, немного нескладной внешностью, но все равно от него веяло покоряющей силой и правотой. Сперва Кружилин не мог разобраться, в чем тут дело, в чем такая покоряющая сила этого человека. А потом понял – в глазах, во взгляде. Разговаривая, Иван Михайлович всегда смотрел на собеседника серыми глазами чуть грустновато, почти не мигая, и казалось, что его взгляд, проникая в душу, видит то, что другим никогда не разглядеть. И странно, что это не оскорбляло и не пугало собеседника, – во всяком случае, он, Кружилин, никогда не испытывал под взглядом секретаря крайкома таких чувств, – это просто лишало возможности что-то утаить, заставляло выкладывать все, и плохое и хорошее, что есть на душе. И заставляло выкладывать именно потому, что взгляд Ивана Михайловича странным, необъяснимым образом заставлял поверить – перед тобой человек, который все поймет, который не осудит за непонимание каких-то важных вещей, поможет понять то, чего еще не понимаешь.
Именно таким взглядом и смотрел сейчас Субботин на Кружилина.
В просторном, чистом кабинете с потертым ковром на полу долго стояла тишина. Только круглый медный маятник настенных часов лениво и отчетливо ронял на деревянный пол секунды да, колеблемая ветерком, шелестела на окне голубоватая занавеска.
– Но… если я не понимаю таких вещей… – проговорил Кружилин, почему-то мучительно прислушиваясь к стуку маятника, – то как же я дальше… могу работать секретарем райкома?
– Вот и я об этом думаю, – глухо проговорил Иван Михайлович. Кружилин вздрогнул, медленно поднял голову. Секретарь вздохнул, поднялся. – Ладно, Поликарп, езжай домой.
Из крайкома Кружилин вышел со звоном в голове, с каким-то необычным чувством – его, Кружилина, кто-то долго и старательно жевал, но глотать почему-то не стал, а, смятого и изжеванного, выплюнул в дорожную пыль.
На вокзале Кружилин подошел к ободранной стойке, выпил залпом стакан теплой водки и, не чувствуя ничего, кроме тошноты и отвращения, сел в поезд.
«Как же так? – думал он всю дорогу под стук колес. – Ну ладно, пусть не понимаю… Почему же он, Иван Михайлович, не объяснил мне, чего я не понимаю… Ведь он может объяснить…»
Вернувшись в район, Кружилин остервенело взялся за дела, день и ночь мотался по селам и деревням. В разгаре был сенокос. Поликарп Матвеевич иногда сбрасывал гимнастерку, брал вилы, становился возле стога и, обливаясь потом, целыми днями метал тяжелые пахучие пласты.
Однажды он вот так же проработал весь день в михайловском колхозе. Стога ставили на лугу возле Громотухи. Вечером Кружилин выкупался в прохладной реке, сел на каменную, уже нахолодавшую плиту, стал слушать, как ворчит Громотуха на перекате. Сзади простучали дрожки, слышно было, как они остановились, как кто-то подошел.
– Ну что, Матвеич, наработался? – По голосу Кружилин узнал михайловского председателя Панкрата Назарова.
– В охотку оно хорошо ведь, Панкрат. Кровь разгоняет.
– Хорошо, – согласился его бывший заместитель по партизанскому отряду, присел рядом, загреб в кулак свой широкий подбородок. – Только охота порой пуще неволи бывает.
Кружилин покосился на Панкрата, торчащего в полусумраке каменной глыбой, но ничего не сказал.
– А ведь по этому броду мы тогда перебирались, как от Зубова-то убегали. Помнишь, поди?
– Как же, – откликнулся Кружилин. – По этому.
Потом долго молчали, думая каждый о своем.
– Ну а что там про Ваньку Савельева слыхать?
– Не знаю. Что услышишь?
– Ну да, ну да, – дважды повторил Панкрат. – А ить невиновный все же он. За напраслину мыкается. – И наверное, потому, что Кружилин никак не отозвался на эти слова, спросил: – Как же это? Что ж ты-то? Ведь секретарь…
Что было ответить Кружилину? Долго он молчал.
– Объяснить тебе – так и не поверишь… что и секретарь райкома порой бессилен что-либо сделать.
Шумела река, на западе мутнели последние клочки облаков, будто их, как комья снега, съедала, разливаясь по всему небу, черная вода. Ночь обещала быть глухой, непроницаемой – и почему-то казалось – бесконечно долгой.
– Да-а, – вздохнул Назаров, полез за кисетом. – Живешь подольше – узнаешь побольше. Это так… Брательник это его засадил, Федька. А вот – почто? Зачем? Ты-то как думаешь?
– Что же я, Панкрат? Не знаю, – признался Кружилин. И, уже думая не столько о Федоре Савельеве, сколько об Алейникове, прибавил: – Громотуха вот летом шумит, а зимой молчит. Это понятно. А что с людьми происходит, трудно порой разобраться. Видно, хорошо ты сказал: чтобы узнать побольше, надо пожить подольше.
Они вместе встали, дошли до Панкратова ходка.
– Ну, прощай, Панкрат… Пойду запрягать своего Карьку.
– Про Агату я хотел еще сказать… Бригадиром ее, думка есть, поставить.
– Бригадиром? Мужчин, что ли, нет в колхозе?
– Куда они делись? Да иная баба дюжины мужиков стоит.
Назаров ждал, что ответит Кружилин.
– Не надо ставить, – негромко уронил тот в темноту.
Председатель вздохнул:
– А ежели на молочную ферму ее?
– Не надо и на ферму. Ничего не надо, Панкрат, пока. Пусть так…
– Ну да… Видать, твоя правда, так оно пока лучше будет.
После происшествия в Новосибирске, после разговора с секретарем крайкома Кружилин все же не оставил намерения заслушать и обсудить на бюро работу райНКВД. Но в первые дни после всех этих передряг никак не мог собраться с мыслями. Поездки по району немного успокоили его. Вернувшись в Шантару, он дал работникам райкома указание готовить материалы на бюро.
На другой же день утром позвонил Алейников.
– Слушай, тут твои работники пришли. Требуют какие-то материалы.
– Это не мои работники, а сотрудники райкома партии.
– Так вот… – Алейников секунду-другую помедлил. – Никаких материалов я им не дам.
– В таком случае что же, будем разбирать на бюро райкома персональное дело коммуниста Алейникова.
Трубка опять помолчала несколько секунд. Поликарп Матвеевич слышал только, как редко и тяжело дышал на другом конце провода Алейников.
– А я, Поликарп Матвеевич, очень боюсь… – послышался наконец ровный, негромкий, какой-то страшный своей медлительностью и отчетливостью голос Алейникова. – Я очень боюсь, как бы не пришлось нам разбирать на бюро персональное дело другого коммуниста… коммуниста Кружилина. А этого мне очень бы не хотелось… – И Алейников положил трубку.
Поликарп Матвеевич в ярости заходил по кабинету. Чуть успокоившись, он снова позвонил Алейникову. Но бесстрастный женский голос ответил, что Яков Николаевич уехал по делам в район и вернется не скоро.
– А когда именно?
– Не знаю…
Кружилин принялся звонить в крайком. Но Ивана Михайловича не оказалось на месте. Не было его и на второй и на третий день. А на четвертый секретарь крайкома позвонил сам.
Поздоровавшись, Субботин вдруг начал расспрашивать о здоровье, о житье-бытье Кружилина, что сразу же насторожило Поликарпа Матвеевича.
– В чем дело, Иван Михайлович? Говорите сразу.
– А дело в следующем, Поликарп… У крайкома есть мнение перебросить тебя в Ойротию. Там слабоваты национальные кадры, помогать надо…
– Так… Понятно… – промолвил Кружилин.
– Что «понятно»? – голос секретаря крайкома посуровел. – Ты отбрось-ка задние мысли. Дело партийное.
– Куда же конкретно хотите меня? В какой аймак? Так, кажется, районы в Ойротии называются?
– Направишься в распоряжение Ойрот-Туринского обкома. Они там лучше решат, как тебя использовать…
…В Ойротской области Кружилин проработал до начала 1941 года на должности заместителя председателя райисполкома одного из самых глухих районов. Он совершенно потерял из виду Ивана Михайловича и Алейникова, потому что Ойротия вошла в состав организованного в том году Алтайского края.
Поликарп Матвеевич уже смирился со своей участью, уже решил, что никогда не встретится больше ни с тем, ни с другим. Но в январе нынешнего года его вдруг вызвали в Барнаул и сообщили, что по просьбе Новосибирского обкома партии Алтайский крайком нашел возможным освободить его в ближайшее время от работы и направить в распоряжение Новосибирска.
«Это – Иван Михайлович!» – почему-то сразу же подумал Кружилин.
…А еще через полмесяца его опять избрали секретарем Шантарского райкома партии.
– Постой, а Алейников все там же работает ведь? – спросил Кружилин у Ивана Михайловича, перед тем как ехать на районную партконференцию.
– Все там же.
– Но ведь… насколько я понимаю, именно из-за Алейникова…
– Ну, время идет, – перебил Иван Михайлович. И было видно, что секретарь обкома не желает об этом разговаривать. – Я думаю, оба поумнели немного, теперь сработаетесь.
Поликарп Матвеевич и понимал и не понимал, о чем говорит секретарь обкома. Времени действительно прошло немало – трудного, лихого. Громкие судебные процессы над участниками троцкистско-бухаринского блока в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах заставили Кружилина на многое смотреть по-другому. В том числе и на то, что делал в районе Алейников. Что ж, видимо, враги советской власти к концу второго десятка лет ее существования действительно по-настоящему подняли голову. Этому хочешь – верь, хочешь – не верь, а Киров был убит, один за другим пали от их рук Менжинский, Куйбышев, Горький, ходили слухи о покушении на Молотова, на самого Сталина. Нередко взлетали на воздух заводы, то и дело чекисты раскрывали заговоры, обезвреживали диверсионные группы. Что ж, видимо, были в чем-то виновны и Иван Савельев, и тот незаметный и тихий колхозник по фамилии Молчанов, которых арестовал Алейников? Может, действительно Савельев продал цыганам тех двух несчастных жеребцов, а Молчанов решил его выгородить? Одни убивают руководителей партии и государства, другие вредят советской власти иным способом – кто как может. Но ведь и Панкрат Назаров, и другие михайловские колхозники оправдывают Савельева, не верят в его вину. Значит, и они вредители?
Разобраться во всем этом до конца, докопаться до истины было невозможно. И от этого кругом шла голова.
Но самое непонятное, а потому самое страшное для Кружилина было даже не в этом. А в том, что Яков Алейников тогда, еще в середине тридцать шестого, не позволил райкому разобраться в работе районных чекистов, пресек первую же попытку райкома в этом направлении.
Эти мысли Поликарп Матвеевич носил в себе тяжким грузом, не с кем было посоветоваться, некому было их высказать.
После отъезда Кружилина в Ойротию первым секретарем Шантарского райкома партии стал бывший работник Новосибирского обкома, некто Полипов Петр Петрович – человек грузный, приземистый и молчаливый. Все в нем было какое-то широкое – широкие плечи, широкие скулы, широкий лоб. Даже нос был с широкими, как крылья, ноздрями. Кружилина он встретил внешне бесстрастно, только вскинул набрякшие веки, секунду-другую оглядывал его большими холодными глазами. «Пьет, что ли?» – мелькнуло у Кружилина.
И Яков Алейников встретил Кружилина молчаливо, сдержанно, не выказал ни радости, ни раздражения. Он очень изменился за эти несколько лет, сильно постарел, волосы, все так же гладко зачесанные назад, приметно поредели, на макушке явственно обозначалась будущая плешь. Поредели даже, кажется, его лохматые брови, косой рубец на щеке сделался каким-то багрово-синим. «Что за черт, и этот пьет, что ли?» – опять подумал Кружилин.
Да, изменился Яков Алейников, и вообще много изменилось в районе. Все районные организации возглавляли новые, совершенно незнакомые люди. Кружилин знал, что некоторые из тех, с которыми он работал до отъезда в Ойротию, были арестованы. Арестован председатель райпотребсоюза Василий Засухин, бессменный начпрод в бывшем партизанском отряде. Когда отряд бывал в окружении, когда казалось, всех ждет неминуемая голодная смерть, Засухин ухитрялся непостижимым образом доставать где-то продовольствие – то с полдюжины отощавших баранов пригонят или притащат на плечах его люди, то привезут несколько кулей муки. Арестован заведующий райфинотделом Данило Кошкин, которого в отряде звали в шутку Данило-громило. Обычно тихий, неприметный, в бою он преображался, глаза лихорадочно загорались, Данило бросался в самые опасные места. По этой причине он и получил свое прозвище. Арестован и председатель райисполкома Корней Баулин, бывший начальник штаба партизанского отряда. За что, какова их судьба – спрашивать было нельзя, да и бесполезно. И он, Кружилин, этого никогда не узнает, если Алейников, задумчиво и уныло как-то сидящий сейчас на подоконнике, сам не расскажет или хотя бы не намекнет об этом…
В кабинете стояла мертвая тишина. За окном, куда глядел Алейников, истекал жарой самый длинный день в году. Сваренные зноем листья молодых топольков, растущих в палисаднике, висели черными лоскутьями. Поверх топольков в мутном и душном небе громоздились тяжелые иссиня-белые комья облаков, грозя с грохотом обвалиться на землю.
– Гроза будет, – сказал Алейников.
– Яков Николаевич, мне надо подготовиться к выступлению на партактиве, – промолвил Кружилин. – Если у тебя нету ко мне срочных дел…
– Срочных… – усмехнулся Алейников. – У человека все дела срочные, поскольку жизнь отмерена ему от звонка до звонка.
Как-то необычно звучали эти слова в устах Алейникова.
– Сегодня Иван Савельев из тюрьмы вернулся, – вдруг сказал Алейников. – В эту минуту к дому, наверное, подходит.
– Ну… и что же?
– Ничего… Отсидел – пусть живет. – Помолчав, он медленно повернул голову к Кружилину: – Чего ж не упрекаешь – зазря, мол, сидел, напрасно страдал?
Кружилин, прищурив глаза, в упор смотрел на Алейникова.
– Ты, Яков, что? Опять провоцируешь?
Алейников вздрогнул почему-то, точно его ударили, слез с подоконника, сел на стул возле стола Кружилина.
– Я думал – не вспомнишь. Не надо, Поликарп. Сложно все…
– Что – все?
– А все. И то, что Корней Баулин, Кошкин, Засухин арестованы, а ты снова здесь, снова секретарем райкома…
Алейников говорил, закрыв лицо руками. А Кружилин все больше и больше изумлялся.
– Тогда, в тридцать шестом, если бы ты не уехал, я бы тебя… наверное… Этот секретарь обкома… или, по-тогдашнему, крайкома, тебя уберег, отправил в глухой далекий угол… А тут Ойротия к Барнаулу отошла! Да, он, этот Субботин, умница…
– Но… погоди-ка, Яков, – сказал Кружилин, отодвигая лежавшие перед ним бумаги в сторону. – Если так, давай по порядку, Яков…
– Не надо. Ничего не надо. Ни по порядку, никак, – мрачно произнес Алейников, вставая.
Вошла Вера с последними отпечатанными листками его выступления, положила их на стол.
– Я сегодня больше не понадоблюсь?
– Нет. Иди отдыхай.
– Как тебе с Полиповым работается? – вдруг спросил Алейников, когда девушка вышла. После приезда Кружилина Полипов был избран председателем райисполкома.
– Как работается? – пожал плечами Кружилин. – Трудно за три-четыре месяца какие-то выводы делать. Сперва показалось – он вроде обижается, что на советскую работу перевели. Но, кажется, он просто по природе молчалив.
– Ну да, – неопределенно уронил Алейников. – Ладно, я пойду. – И двинулся к двери. Но, толкнув ее, остановился, потер пальцами висок. – Я, собственно, что-то ведь хотел спросить у тебя… Да, насчет этой девушки… как ее?
– Вера Инютина?
– Да, да… Как она печатает? Хорошая машинистка?
– Хорошая.
– Не уступишь ее мне? Мне, понимаешь, хорошая машинистка нужна…
– Бери, что же, если подходит. Если она согласится.
– А впрочем, ладно. Найду где-нибудь другую, – сказал вдруг Алейников. – До свидания.
Алейников ушел, а Поликарп Матвеевич долго еще смотрел на дверь, пытаясь собрать свои мысли. С Алейниковым что-то вроде опять происходит. Но что?
Кружилин знал, что в личной жизни у Якова произошла трагедия – в тридцать шестом году погиб его сын. Купаясь в Громотухе, он вместе с другими ребятишками взобрался на паром. Когда паром был на середине реки, ребятишки с визгом попрыгали в воду и поплыли к берегу. Прыгнул и сын Алейникова, но мальчик даже не скрылся под водой, тело закачалось на поверхности тяжелым поплавком, густо окрасив воду кровью.
Весной, в большую воду, по Громотухе сплавляют много леса. Особенно смолистые, тяжелые, как камень, бревна нередко тонут. Однако течение все-таки волочит потихоньку вниз топляки; цепляясь за коряги и камни, они медленно ворочаются под водой. Нередко случается, что тяжелые бревна легко, как бумагу, пропарывают днища паромных карбузов.
Об такой топляк и ударился головой сын Алейникова.
А через полгода от Якова ушла почему-то жена. Кружилин знал ее плохо. Это была женщина высокая, красивая, гордая, но, кажется, добрая и умная. При редких встречах она всегда здоровалась первая, приветливо улыбалась, но проходила мимо торопливо, высоко вскинув маленькую головку с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Звали ее Галина Федосеевна, она была врач, работала в районной больнице. Там же работала и жена Кружилина. Она рассказывала, что Галина Федосеевна хороший врач, но в больнице ее не любили и боялись. Видимо, из-за мужа.
Яков привез ее из Новосибирска зимой тридцать четвертого или в начале тридцать пятого года. До Алейникова она была уже замужем, в Шантару приехала с восьмилетним мальчиком. И Яков, кажется, любил неродного сына. Своих детей у него не было…
Поликарп Матвеевич расхаживал по кабинету из угла в угол, ворошил седые волосы, раздумывая об Алейникове, о Субботине, который сегодня открылся вдруг ему в каком-то новом свете. Да, действительно, Иван Михайлович, кажется, спас его от ареста, отправив в глухой далекий район. Он, Кружилин, не щадя жизни, не думая о своей жизни, дрался за советскую власть, потому что это народная власть. Потом он все силы и весь ум, какой у него был, отдавал тому, чтобы укрепить эту власть. Но оказалось, что его, даже его, вдруг от кого-то и зачем-то надо спасать, оберегать… Если так, если Субботин все понимал еще тогда, в 1936 году, почему он искренне и прямо, как коммунист коммунисту, не сказал, что же происходит в стране? Тогда неизбежно встал бы конкретный вопрос – почему коммуниста Кружилина надо спасать от коммуниста Алейникова? Ну что же, и встал бы, и на него должен был бы ответить, если мог (а кажется – мог!), секретарь крайкома партии. Должен был, обязан был – по занимаемой должности, по возрасту, по партийному стажу. Но не сказал, не ответил. Почему?
Долго еще Кружилин ходил по пустому кабинету. Он не заметил, как потемнело. Очнулся, когда над крышей оглушительно лопнул гром и мелкими осколками скатился куда-то в сторону Звенигоры.
«Мысли – мыслями, вопросы – вопросами, а кто все же из обкома к нам на актив приедет?» – подумал он и снова закрутил телефон.
– Алло, Катя? Ну что же, дочка, город?
Новосибирск по-прежнему молчал.
* * *
Выскочив из райкома, Вера Инютина глянула на заваленное тяжелыми облаками небо и быстро пошла за деревню, к громотухинской протоке.
Едва миновала опоры электропередачи – ударил первый раскат грома. Сзади, над Шантарой, уже моталось рваное пепельно-серое полотнище дождя. Сняв туфли, она побежала. Но стена дождя была все ближе. И вот первые редкие капли, как пули, тяжело и глухо ввинтились вокруг нее в дорожную пыль, дробью хлестанули по спине, по шее.
– Э-эй, рыбаки, где-е вы?! – закричала она, оглядывая пустынный берег Громотухи.
Из-под яра выскочил Семен, замахал руками. Ударила ослепительно молния, растеклась сотней изломанных ручейков по всему небу и потухла. Стало темно, и в этой темноте тихонько почему-то гугукнул гром, и тут же с шумом, с ревом обрушился ливень.
Семен что-то кричал, карабкаясь на яр. Он подбежал, грубо схватил ее, промокшую до нитки, толкнул вниз по скользкому уже обрыву, заволок под затравеневший земляной козырек.
– Под грозой, в голой степи?!
– Это верно, расколола бы молния головешку-то надребезги, – сказал Колька и хихикнул.
– Поболтай у меня! – прикрикнула Вера на брата, строго оглядела безмолвно стоявших у земляной стены Димку и Андрейку, обдернув платье, туго облепившее ноги, тоже стала к стенке, касаясь плечом Семена.
Река молочно пенилась под дождевыми струями.
Так они стояли долго. Вера чувствовала сквозь мокрое платье горячее тело Семена, голова у нее чуть кружилась.
Наконец дождь кончился. Димка, Андрей и Колька тотчас побежали к воде и замахали удилищами.
Продавив лучами рыхлые, обессилевшие комья облаков, расшвыряв их в стороны, показалось солнце. Громотуха снова засверкала и заискрилась. Речной галечник, быстро просыхая, дымился по всему берегу.
– Удочку тебе смастерить, что ли? – спросил Семен у Веры. – Леска у меня запасная есть. – И вдруг обнял ее, притянул к себе.
– Еще чего! Ребятишки-то вон… – сердито воскликнула она и пошла по берегу прочь, вверх по течению.
– Вера!
Она не откликнулась, ступила вдруг в воду и побрела через протоку на остров. Глубина в том месте была небольшая, вода доходила ей всего до пояса. Но она шла, почему-то высоко над головой подняв туфли.
Семен сел на теплые камни, закурил, посматривая на Веру. Она перебрела на остров, вышла на песчаную косу, сняла и выжала платье, развесила его на ветках кустарника и легла на песок. Смуглое, загорелое тело ее почти сливалось с рыжим песком, было незаметно.
Семен не мог понять, любит он Веру или нет. Они всю жизнь прожили рядом, на виду друг у друга, учились в одном классе. В детстве Семен часто поколачивал ее, потому что Верка всегда совала свой конопатый нос куда не нужно, всегда выведывала их мальчишечьи секреты. Побои она переносила молча, никогда не жаловалась. Это вызывало у Семена уважение к ней, ему было после драк всегда стыдно. Верка, видимо, чувствовала это, смело подходила, стараясь заглянуть в глаза, говорила:
– Ну что ты, не надо. Ты думаешь, я такая, да? А я – не такая.
А вот это Семену уже не нравилось. И то, что она понимает его состояние и что уверяет, будто она какая-то не такая. «Что, у нее гордости, что ли, нету?» – думал он. И еще он думал, что она, наверное, хитрая.
Когда у Веры начали вспухать бугорки грудей, Семену было почему-то стыдно, он избегал встречаться с ее круглыми, как воробьиные яйца, глазами. И опять она все понимала. Поймав на себе его случайный взгляд, она, сама до ушей наливаясь краской, кричала:
– Чего глаза пялишь? Бесстыжий!
«Хитрая», – решал Семен, хотя, как и прежде, не понимал, в чем ее хитрость да и есть ли она в ней вообще.
Года через два Вера превратилась в хрупкую красивую девушку. Ноги ее стали стройными, крепкими, тонкие, всегда бесцветные губы припухли, зарозовели, круглые глаза удлинились, словно прорезались в стороны, и уже не походили на воробьиные яйца. От всего ее прежнего облика остались только веснушки вокруг носа, но и их стало меньше.
– А знаешь, Верка, если бы веснушки совсем исчезли, мне было бы жалко, – однажды неожиданно для самого себя сказал Семен. Была весна, он и Вера оканчивали десятилетку, через три дня начинались экзамены. Весь их десятый класс решил устроить коллективный поход за Громотуху, в заливные луга, за цветами, чтобы украсить классы, где будут проходить экзамены.
– Чего? – обернулась Вера, набравшая уже большой букет. И лучисто улыбнулась. – Вот чудак…
Ее подбородок был измазан цветочной пыльцой.
Когда переправлялись на пароме в село, Семен стоял у перил, смотрел на мутную, еще не успевшую посветлеть воду и видел там, в этой воде, Верины лучистые глаза и ее подбородок, измазанный желтой пыльцой.
– Слушай, Сем, – услышал он ее шепот. – Давай удерем сегодня в кино?
– А экзамены? Готовиться надо же…
– Подумаешь… Сдадим, – все так же заговорщически прошептала девушка.
Семен еще никогда не ходил в кино с девчонками. В клуб он вошел как в пыточную камеру, ему казалось, что все с удивлением и осуждением смотрят на него.
– Вот чудак, – опять, как днем, сказала Вера, толкнула его незаметно кулаком в бок. – Да ты чего? Подумаешь…
Обратно они шли молча. За Шантарой где-то розовела еще узенькая полоска неба, но быстро таяла, гасла, как догорающая спичка. Над головой мигали, покачиваясь, белые крупные хлопья звезд.
Они дошли до дома и остановились под плетнем. Надо было прощаться, но Семен не знал, как это сделать.
– Я думала, ты умрешь в клубе со страха, – сказала Вера.
Это Семена разозлило.
– Я? Я? – Он схватил ее за плечо. Она сразу подалась, прижалась к нему. Чувствуя коленями ее мягкие ноги, он ткнулся губами в ее щеку.
«Вот и все… А дальше что?» – застучало у него в голове. Он стоял, не отпуская Веру, и она не собиралась освобождаться.
Он не раз слышал рассказы деревенских парней, как они смело и решительно обращаются с девками, и решил, что теперь, видимо, надо взять Веру за грудь. Он это и сделал, ощутив, как часто и сильно колотится под ладонью ее сердце.
– Ну-у, а это, Семушка, еще рано, – спокойно произнесла она, сняла его руку. И то, что она сказала это ровным, хозяйским каким-то голосом и что не откинула его руку, а просто взяла и сняла ее тихонько, обидело, оскорбило Семена, чем-то замарало вроде. – А ты не такой уж и стыдливый, – промолвила она, прислоняясь к плетню. – Правда, когда темно. – И хохотнула. – Пойдем походим маленько?
Не дожидаясь согласия, взяла его за руку, потянула.
Неприятное чувство к Вере быстро прошло, ему снова захотелось обнять ее. Но он боялся спугнуть в себе состояние покоя и тихой радости, вдруг охвативших его. И ему казалось, что Вера испытывает то же самое.
– Что ты собираешься делать после школы-то? – спросила она.
– Не знаю. В армию ведь скоро. А пока отец советует в МТС податься. На курсы трактористов.
– А что? Неплохо. Тракторист в деревне – первый человек. А мне вот никто ничего не присоветует. Счетоводом, может, куда пойду. Или секретарем-машинисткой. А целоваться, Сема, вот так надо… – И она взяла Семена за голову, крепко поцеловала.
Семену опять стало неприятно, он почти оттолкнул ее.
– Сема, да ты что?!
– Ничего… Где так целоваться-то научилась?
– А, вон что! – В темноте глаза ее блеснули пронзительно и ярко. Потом уткнула голову ему в грудь. – Ах, Семушка, Семушка… Ну, я какая-то… Вижу все поглубже, чем ты. Но ты ничего такого не думай. Я – честная. Я берегу себя для кого-то. Вот для тебя, может. Ты… ты любишь, что ли, меня?
– Не знаю я…
– И я не знаю, – произнесла она. – Видишь, я ведь сама к тебе… на тебя повесилась. Это я все понимаю. Нехорошо, может. Но ты мне нравишься. А люблю ли – не знаю.
Такая откровенность Семену понравилась…
И вот они встречаются уже два года. От призыва в армию Семен получил отсрочку, потому что в шантарской МТС не хватало механизаторов.
– Может, и вовсе не возьмут, – радовалась Вера.
Однажды (было это в прошлом году, в звездную августовскую ночь), когда они нацеловались до боли в губах, Вера вдруг вырвалась, отбежала и, присев на землю, заплакала.
– Не прикасайся ко мне! – закричала она, когда Семен подошел.
Успокоившись, сказала задумчиво:
– Знаешь, Сем… Я будто бы люблю тебя. А ты?
– И я вроде тоже… Тянет меня к тебе.
Она вскинула искрящиеся в жидком лунном свете глаза и опустила их.
– Ну, тянет – это еще не любовь. Твоего отца и мою мать тоже тянет… – Но умолкла на полуслове, испугавшись.
– Как – тянет? Куда – тянет?
– Никуда. Так я… – быстро проговорила она. – Ох, Семка ты, Семка! Пропаду я с тобой! – И побежала в степь.
В ту ночь они убрели далеко за Шантару, до рассвета лежали на забытой, почерневшей от дождей копне сена, смотрели, как чертят небо густо падающие звезды.
– Почему же ты пропадешь со мной? – спросил Семен.
– Ты, Сема, честный парень, не добиваешься, чего до свадьбы не положено, – заговорила Вера, помолчав. – Это хорошо, я с тобой без опаски. А с другой стороны, может, и плохо.
– Непонятно…
– Плохо, если вообще ты в жизни так будешь жить. Жизнь легкая тому, кто не раздумывая берет, что ему надо. Хватает цепко…
Заложив руки под голову, Семен глядел на блеклое ночное небо, усеянное в беспорядке звездами, думая о ее словах. Где-то с краю небо уже набухало синью, звезды там мигали торопливее и беспокойнее, а потом беззвучно гасли, тонули в этой сини.
– Вот мой отец – рохля. Ему и в жизни ничего не дается. Кроме пьянства. А твой отец не такой, не-ет, я вижу…
– Что ж ты видишь?
– А всё, всё… Он умный жить. Он развернется еще. А вот ты? – Вера склонилась над Семеном. И он ощутимо почувствовал, как ее глаза шарят по его лицу, как ее черные, невидимые в темноте зрачки неприятно оплетают лоб, щеки, губы словно паутиной. – А вот ты – такой же, как твой отец, а? Семушка, родимый, помоги же мне понять! То кажешься ты мне – такой, то чудится – нет, не такой… а больше на моего отца похожий…
Семен порывисто приподнялся, провел ладонью по лицу, точно оно и впрямь было облеплено паутиной.
– Фу ты!.. Такой, не такой… Что с того? Тебе-то что?
– А как же, Сема?! Я – женщина, баба. Мне замуж за кого-то выходить. У девки до замужества – одно богатство. Отдать его надо не зря, не попусту, не кому попало. А то после-то кто меня возьмет? Кому объедки чужие нужны?
– Мразь ты, однако! – И он пошел.
– Семка, милый… – Она догнала его. – Ну, прости, ежели что я не так сказала. Я – открытая ведь. Сказала, а ты выбирай. Люба я тебе со всем, что у меня есть, – бери меня. Не прогадаешь. Пластом стелиться буду… Ноги твои мыть и воду пить. Я – такая…
– Отстань ты! – закричал он, стряхивая с плеч ее руки.
– А ты, чем так, ударь меня лучше! Ну, ударь!
– А что же ты думаешь?! Ты мужа выбираешь, как цыган лошадь, – по зубам!
И, размахнувшись, ударил ее по лицу.
Вера качнулась, но с места не тронулась, только чуть сгорбилась, всхлипнула. Стянула с головы платок, вытерла слезы. И лишь потом пошла прочь, больно резанув его невидимыми в темноте зрачками…
Семен решил, что покончил с Верой раз и навсегда. Однако через два-три дня его начали мучить угрызения совести. Если и рвать с ней, то это надо было сделать не так грубо и бесчеловечно. Да и что она такое ему сказала? Каждая девушка хочет выбрать себе мужа не только поприглядней, но и позацепистей, что ли, в жизни. Не каждая лишь так вот прямо скажет об этом. А Верка сказала. Что ж тут плохого? И, кроме того, она красивая. Для других, может, и нет, но ему нравилось в ней все – острый взгляд длинноватых, чуть раскосых глаз, крапинки вокруг носа, припухшие, жадные до поцелуев губы, гладкая, немножко скользкая, как шелк, ее кожа.
Но тут его послали убирать хлеба в михайловский колхоз. «Ну и все! – подумал он даже с облегчением. – Это конец».
Но это был не конец. Когда он, уже глубокой осенью, вернулся в Шантару и, вымывшись в бане, шел огородом к дому, от плетня, который разделял усадьбы Савельевых и Инютиных, качнулась в сумраке легкая тень.
– Семка, изверг ты… Ведь я извелась прямо вся. Семушка, милый… – Вера ткнулась лицом в его распахнутую, влажную еще после бани грудь.
От неожиданности Семен растерялся.
– Ударил я тогда тебя. Извини…
– Нашел что вспоминать! Покрепче надо было… – В глазах девушки подрагивали две звездочки. Семен отводил свой взгляд, остерегаясь встретиться с ее зацепистыми зрачками. Он теперь их боялся. – Сем, да ты чего? Ну, глянь на меня! Да люблю, люблю же я тебя!
– Я, Вера, много думал об нас с тобой… – Семен отстранился. – Ты брюхом хочешь жизнь прожить. А жить надо сердцем.
– Глупенький! Вот глупенький! – Она беззаботно и радостно засмеялась. – Жить надо, Сема, по-разному. И брюхом, и сердцем. Я не люблю таких, которые только – сердцем. И даже жалею их.
– Почему?
– На яички-болтуны они похожие. Сидит-сидит на них курица, а все зря. Так ничего из них и не вылупится. – Помолчала и добавила: – Вроде и не на земле живут. Бесполезные люди.
«Может быть, она и права…» – опять подумал Семен.
И все началось у них с начала…
После Нового года она уже прямо начала спрашивать, когда же они поженятся. Семен отшучивался, отвечал неопределенно. Вера двигала тонкими бровями, розовые крылышки ноздрей у нее недовольно раздувались.
Как-то холодным мартовским вечером Семен убирал скотину. Накидав корове и двум овечкам сена, он вышел во двор и залюбовался закатом. Раскаленное докрасна небо дымилось, а самый его край, который касался земли, уже подплавился, подплыл янтарной жижей. И туда, в жидкий янтарь, медленно опускалось огромное, кроваво-красное солнце и словно само плавилось, таяло, как кусок масла на горячей сковороде. Последними лучами солнце обливало еще землю, багрово отсвечивало в окнах инютинского дома. Пробиваясь сквозь ползущий со стороны ночи холодный туман, оно бледно окрашивало угрюмые скалы Звенигоры, трепетало на заснеженных холмах. И от этого казалось, что камни шевелятся, что вся огромная гора тяжело ворочается в зыбком вечернем тумане, укладываясь на ночь.
Семен стоял, опершись о вилы, смотрел на такое чудо и улыбался, не замечая, не сознавая, что улыбается.
В себя его привел скрип калитки. Вбежала Вера, ни слова не говоря, потащила на сеновал. Там со смехом опрокинула на спину, навалилась, принялась целовать холодными губами. Поцелуи ее были как укусы.
Семену было жалко, что она не дала досмотреть закат.
– Ненормальная ты.
– Ага, я – такая, – согласилась Вера и, прижимаясь плотнее к нему, зашептала в ухо просяще и тоскливо: – Семушка, ну когда же? Свадьба-то? А? Сем?
Семен вздохнул.
– Выбрала, значит, мужа? – И с неприятным чувством опять подумал, вспоминая, что ее поцелуи были похожи на укусы.
– Ага, выбрала.
– И жалеть не будешь?
– Никогда, никогда, – дважды мотнула она головой.
Семен подавил новый вздох, сел. Вера вдруг беззвучно заплакала.
– Чего ты еще?
– Будто я на смерть тебя волоку. На аркане, – с обидой сказала она. – А мне дома глаза стыдно показывать. Я слышала, как отец выговаривал на днях матери: «Что у них с Семкой-то? Гляди, притащит тебе сокровище в подоле…» Так что, Сема, надо или к берегу, или от берега в разные стороны…
– Ну ладно, – помолчав, вымолвил Семен. – Сейчас какая свадьба может быть? Давай – осенью.
– Давай, – сказала Вера, по-детски вытерла кулаками глаза. – Так я и дома скажу. И ты своим скажи…
Поговорить об этом с родителями для Семена было не так просто. Собственно, мать сразу, с полуслова, поняла бы его. Да она, кажется, все знает, догадывается, хотя никогда ни одним жестом, ни одним словом не показывает этого. Другое дело – отец. Семен знал, что отец не любит его. И сам Семен не любил отца. Они всегда были друг для друга чужими. Почему – Семен понять не мог, да и никогда не пытался разобраться в этом. С тех пор, как Семен помнит себя, отец был ему уже чужой. Не было случая, чтобы отец как-то приласкал Семена, сказал ему дружеское слово. Он всегда проходил мимо Семена как мимо пустого места. Семен принимал это как должное и платил отцу тем же.
Потом Семен узнал, почувствовал детским чутьем, что отец не любит и мать, не уважает ее. С тех пор пропасть между ними сделалась еще глубже, стала год от года шириться.
Однако не это было главным. Главное было в самой Вере. Семен знал, что она будет хорошей, преданной женой, но его пугала ее хладнокровная расчетливость, с которой она подходила к людям, к жизни, к самой любви.
Так до сих пор родителям он ничего не сказал.
И вот – до осени не так уже далеко, Вера давно перестала спрашивать, любит или не любит ее Семен, она просто ждет осени, и только Семен без конца задает себе этот вопрос. Чем ближе осень, тем чаще задает. А чем чаще задает, тем становится мрачнее и раздражительнее. И что странно – Вера по-прежнему нравится ему, нравится ее лицо, ее глаза, все ее тело. Но едва подумает о свадьбе – там, за этой чертой, ему ничего не видится, там черная, пугающая пустота. Как все это объяснить Вере? Да и надо ли объяснять? Все равно назад пути нету. Да он, кажется, и не хочет, чтобы был…
Камни после дождя давно высохли и перестали дымиться, накалились, солнце по-прежнему палило безжалостно и нестерпимо. Где-то за спиной сухо и монотонно трещали кузнечики.
– Ты что, Семен? – крикнул, подбегая, Колька, схватил ведерко. – Клёв-то здорове-енный!
– У меня просьба к тебе, Николай… – проговорил Семен. – Мне надо… в одно место тут сходить. Ты присматривай за Димкой и Андрейкой.
Колька мотнул крючковатым носом, ухмыльнулся.
– Понятно. – И вприпрыжку побежал по берегу.
Семен поднялся и пошел в другую сторону. Потом снял брюки, рубашку и побрел через протоку, к острову.
Едва он ступил в воду, Вера, неподвижно лежавшая на песчаной косе острова, вскочила, натянула платье и скрылась в кустах.
Перебравшись на остров, Семен долго бродил по зарослям, звал ее, но она не откликалась. Он уже начал сердиться, когда Вера кошкой бросилась на него из лопухов, со смехом повалила в траву, начала целовать. Семен легко подмял девушку под себя, увидел прямо перед собой, близко-близко, ее испуганные, диковатые глаза, в которых подрагивали желтые точки, и почувствовал, как по его жилам разливается огонь, а мысли, сознание – все заволакивается жарким, тяжелым туманом.
– Семка, не смей! Не смей… – услышал он как из-под земли Верин голос. Это его сразу отрезвило.
Он отпустил девушку, сел, полез за папиросой. Вера отползла в сторону, в кустарники, обдернула платьишко на голых ногах. И все так же подрагивали оттуда, из полусумрака зарослей, желтые точки в ее напуганных глазах.
– Когда буду законная, тогда пожалуйста… Сколько хочешь, – проговорила она.
Семен усмехнулся:
– А может, Верка, не надо, а?
– Чего не надо? – Она тревожно приподняла голову.
– Ничего не надо… Свадьбы этой.
Вера вскочила, вытянулась:
– Как не надо? Не любишь, что ли? Не нравлюсь?
– Не в том дело…
– А в чем?
– Не знаю… Или хотя бы попозже, а? Не этой осенью?
Вера подошла, опустилась перед Семеном на колени, взяла сухими ладонями его голову.
– Ты что это, Семен? Не-ет, никак нельзя позже. Вот еще мне! Ну-ка, погляди в мои глаза! Слышишь, Сема? – И прижала его голову к своей груди. – Да как мы друг без друга жить будем?
И, как когда-то давно, Семен снова услышал – ее сердце бьется сильно и гулко, частыми-частыми толчками. «А может, и верно, нельзя нам друг без друга?» – подумал он.
* * *
А в это время на обочине проселочной дороги, которая поднималась на невысокий горбатый увал, а потом, огибая Звенигору, спускалась в синюю долину, где лежала деревня Михайловка, сидели двое – тот самый человек с котомкой, привлекший внимание Семена, и немолодая уже, лет под сорок, женщина, маленькая, высохшая, в старенькой, залатанной кофтенке, с длинными косами, вывалившимися из-под платка. Собственно, сидел только мужчина, а женщина, распластавшись, лежала на земле, уткнув лицо в его колени. Она плакала, спина ее вздрагивала, и мужчина осторожно гладил ее по острым лопаткам, по голове, брал в руки ее косы, подносил к своему лицу, словно хотел вытереть слезы. Но он не плакал, глубоко ввалившиеся его глаза были сухи, смотрели вокруг жадно, удивленно и чуть испуганно.
– Агата, земля сырая все же, – проговорил мужчина, не выпуская из рук ее кос. – Как же ты узнала, что я сегодня приду?
– Как? – Агата оторвала голову от колен мужа. – Сердце подсказало, Ванюшка.
– Дождь ведь. Гроза заходила.
– Что ж гроза… Шесть годов на дорогу эту глядела. А сегодня – заныло сердце.
– А я гляжу – бежишь. Ноги так и отнялись…
У Ивана действительно одеревенели ноги, палка выпала из рук, когда он увидел бегущую навстречу жену. Сзади его уже шумел, приближаясь, ливень, над головой с треском распарывалось аспидно-черное небо, обломки его с грохотом валились вниз, сотрясая землю. Но Иван Савельев ни на что не обращал внимания, ничего не видел, кроме этой женщины, бежавшей к нему сквозь тугой и пыльный ветряной вал, который катил перед собой ливень. На какой-то миг пыль скрыла ее от глаз, но потом она появилась, прорвалась сквозь ветер и, подбежав, обессиленная, молча упала Ивану на руки. И тотчас накрыл их ливень, больно хлестали тяжелые водяные струи, а они все стояли и стояли, безмолвно прижавшись друг к другу.
Так и простояли, пока дождь не кончился. Потом отошли на обочину и сели, по-прежнему не сказав друг другу ни слова.
Клочья грязноватых облаков уползали за горизонт, над Иваном и Агатой было теперь только чистое синее небо да там, выше неба, жарко горевший солнечный диск, обливающий их теплом и светом.
Оттуда, где было солнце, пролилась песня жаворонка. Она раздалась неожиданно и так же неожиданно умолкла. Потом раздалась снова. Иван поглядел на небо и улыбнулся обветренными губами. Ему почудилось, что жаворонок – маленькая серая птичка – тянул вверх свою песню, как звенящую цепочку, в клювике, но вдруг выронил, тотчас нырнул вниз за песней-цепочкой, успел подхватить ее у самой земли и снова понес вверх.
Первому жаворонку откликнулся второй, третий. Скоро все небо, казалось, было заполнено, залито до краев их песнями, но Иван, сколько ни всматривался, не мог заметить ни одной птички. И он не знал уже – вверх, от земли, в это бездонное небо уносят они свои песни или, наоборот, спускают песни-цепочки с неба на землю. Да это было и не важно. Важно, что песни были слышны, что они заполняли своим звоном все вокруг.
– Жизнь-то, Агата, видишь, не кончилась, – тихо промолвил Иван.
– Я их, проклятых, терпеть не могу, этих жаворонков. В тот день, когда тебя Яшка Алейников увез, они все звонили…
Иван сдвинул белесые брови, на лбу его глубже обозначились морщины.
– А я их зимой и летом слышал. Проснусь ночью – холодно в бараке, за стеной вьюга воет. Прислушаюсь – нет, поют жаворонки. И теплее вроде, легче.
Агата удивленно поглядела на мужа круглыми, темными, как смородины, глазами.
– Как ты вынес все?
– Человек – он привычливый.
– А я сперва все письма от тебя ждала.
– Я был без права переписки… Ну, рассказывай, как вы тут?
– Да как? Володька и Дашутка ничего, здоровенькие…
– Значит… дочка у меня родилась? – хрипло произнес Иван, сухие губы его затряслись.
– Ваня, Ваня…
– А я все гадал – сын ли, дочь ли? И еще – живо ли дитё? И от этой неизвестности было тяжельше всего…
Агата гладила его жесткую, заскорузлую, скрюченную ладонь.
– Лопату, видать, частенько держал в руках-то?
– Да уж покидал землицы, всю собрать – со Звенигору холмик будет… Дочку Дашуткой, значит, назвала?
– Ага, Дарьей. Плохо?
– Нет, хорошо это – Даша. Ну, пойдем…
Над ними пели и пели жаворонки.
Когда взошли на увал, открылся вид на всю долину. На самом дне, разметавшись беспорядочно в разные стороны, поблескивая окнами и крышами, лежала Михайловка. Над домами бугрились тополя и березы, а посередине деревни стоял почему-то столб дыма, прямой и высокий.
Иван снял фуражку, долго с высоты смотрел на деревню, прижавшуюся одним боком к лесу. Ветерок шевелил его белые волосы.
– Мне все чудилось – не признаю деревни. Нет, признал. Все такая же. Тополя сильно подросли.
– Какой же ей быть? Из нового – ток построили, видишь деревянные навесы на северном краю? Да два скотных двора – эвон прямо за дымом. А боле ничего вроде. Да и зачем боле? Не надо. Ток и коровники добротные выстроили. Из лиственницы. Навек хватит. Панкрат – он хозяйственный.
– Как он, Панкрат?
– Постарел шибко. Тише стал, нелюдимей. И кашляет все. – И вдруг Агата всхлипнула. – Уж и не знаю, как бы я, если бы не Панкрат…
– Помог, значит?
– Да разве мне только? Всем, у кого худые домишки, перетрясти помог. С района приезжие часто ругали его: куды, дескать, колхозные деньги транжиришь? А он: разве себе беру? Шибко народ Панкрата уважает.
– А что за дым это с того дома, под железом?
– А пекарня это. Два года назад построили, забыла я сказать. А нынче мельницу водяную Панкрат ставит. А то, говорит, за помол много берут… Он, председатель наш, такой, у него копейка зря не выскользнет. А это пекарня. Для косарей хлеб печем… Эвон косари на лугу.
Километрах в трех от деревни, неподалеку от Громотухи, в широкой низовине, пестрели бабьи платки, поблескивали потные голые спины мужиков. Косцы шли рядами, дружно взмахивали косами.
Ивану захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям: здравствуйте, мол, вот я и вернулся… А потом взять косу и косить, косить, молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым воздухом, поужинав, сесть к костерку и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было…
Улицы деревни были тихи, пустынны, в обмятых лопухах бродили свиньи и телята. Когда Иван с Агатой шли по деревне, из некоторых окон выглядывали старухи, долго провожали их взглядами.
Домишко Ивана обветшал, покосился, дощатая крыша провалилась, густо пестрела разноцветными лишаями.
– А говорила – у кого худое жилье, председатель перетрясти помог.
– Да ты что? – испуганно воскликнула Агата. – Его тогда с потрохами бы съели!
– Понятно, – вздохнул Иван.
Переступив порог, Иван увидел большеглазую девочку в длинном, до пят, платьишке. Она возилась в углу с тряпичной куклой, пытаясь накормить ее изрезанной на тонкие пластики морковкой. Увидев незнакомого, заросшего щетиной человека, испуганно взмахнула ресничками, отступила к стене, пряча за спину самодельную куклу.
– Доченька… – шагнул к ней отец.
Девочка испуганно заплакала, кинулась к матери, уцепилась за ее юбку.
– Дашенька, это же тятька твой. Отец это, глупенькая… – гладила Агата по спутанным волосенкам дочь, не в силах унять слезы.
– Так… Ну а сын где? Володька…
– Воду косарям возит. А пополудни в пекарню за хлебом приедет… Я пришлю его. Я, как сенокос начался, в пекарне ведь стряпаюсь.
Через час, побрившись, умывшись, переодевшись, Иван сидел за столом, ощущая, как непривычно кружится от одной-единственной рюмки водки голова. Агата рассказывала новости – кто умер, кто на ком женился. Некоторые события были трех-, четырех-, пятилетней давности, но для Ивана все было ново.
– А Кашкариху-то помнишь? Лушку Кашкарову? Все-таки перевез ее Макарка Кафтанов в Шантару. Купил дом и перевез, а сам опять в тюрьму. Рядом с твоим братом живет теперь Лушка…
Иван слушал, глядел на дочь, подперев щеки обеими ладонями. Девочка все еще не могла понять, что этот незнакомый худой человек – ее отец, сидела на другом конце стола, поглядывала на него, как зверек, сосала липкие конфетки.
Скрипнула дверь. Иван медленно встал. Панкрат Назаров, постаревший, забородатевший, в синей, подпоясанной шелковым шнурком рубахе, как-то вовсе не походил на председателя колхоза, скорее на какого-нибудь плотника или бондаря. Он снял плоскую фуражку, с которой посыпались опилки, повесил на гвоздь.
– С мельницы я. Глядел, как ладят… К осени пустим. – Прошел к столу, долго, не мигая, в упор, смотрел на Ивана зеленоватыми, в густой ряби морщин глазами. – Ну, приехал?
– Вернулся, – ответил Иван.
– Что ж, здравствуй.
– Здравствуй.
Назаров говорил как бы нехотя, через силу. От этого Ивану стало неприютно.
– Да ты садись, садись, Панкрат! – засуетилась Агата, подставила председателю тарелку, положила вилку с деревянной ручкой. – Вот, закусите, выпейте.
– Это можно, – проговорил Назаров, усаживаясь. – Ну, с возвращением!
Они выпили из мутных граненых рюмок. Панкрат закашлялся, кашлял, отвернувшись, долго, до слез в глазах. Агата подала ему полотенце, он вытер слезившиеся глаза.
– Пить тебе нельзя, – сказал Иван.
– Не надо, – согласился Панкрат. – Легкое гноиться зачало. Пуля там колчаковская, язви ее, долго ничего лежала, а потом зашевелилась. Доктора говорят – вырезать надо, легкое отнять. И Максимка, сын-то мой, – помнишь, нет его? – тоже пишет в письмах: делай, мол, операцию, медицина нынче силу взяла… Да страшно…
– А все равно надо, – промолвил Иван. – Как он, Максим твой?
– Ничего, служит под Львовом-городом. Нынче в капитанский чин возведен. Ты, Агата, ступай в пекарню, там хлеб бабенки засадили, как бы не подожгли. А мы потолкуем, – сказал Назаров.
Агата ушла, увела с собой дочку, но толковать председатель не начинал, сидел и смотрел на Ивана из-под насупленных бровей. И казался он Ивану незнакомым, неприветливым, подозрительным.
– Ты вот что скажи, Иван Силантьич, – медленно произнес Назаров, не отрывая от лица Савельева колючего взгляда. – Никому не говори, а мне скажи. С чем приехал? С обидой на жизню, со злостью в душе?
Иван ответил не сразу:
– Не знаю, Панкрат. На жизнь мне радоваться пока нечего. А злобы вроде нет. Стосковался я. По земле, по росным запахам.
В зеленых глазах Панкрата дрогнули светлые точки.
– Про Федора, брата, что думаешь? Про Кирьяна Инютина?
– Это-то и закавыка. За что они меня посадили? – Иван помолчал. – Ну, это ладно. А вот на кого точно зла не держу – это сейчас твердо могу сказать… На Якова Алейникова.
– Гм… – Панкрат от неожиданности покашлял, недоверчиво прищурился. – Ну, так, ну, так… Объясняй тогда уж – почему.
– Попробую, если получится… В лагерях я всякого насмотрелся. Может, кое-что мне оттуда виднее было, чем вам отсюда. Кого только не было там. Всякие большие и малые люди, военных много. Это что, все – вредители, враги народа?
– Эвон!.. А ты – зла не держу на Яшку… Так тем боле ответ с него!
– А ты вот послушай. Настоящих врагов советской власти, конечно, много в лагерях. Вот я тебе о трех таких настоящих расскажу, с которыми довелось сидеть. Первый – Ерофей Кузьмич Огородников…
– Постой! Это не тот старик-сапожник с нашего райпромкомбината? Я как-то сапоги у него справлял…
– Сапожник… Ты в банде у Кафтанова не служил, такого человека по фамилии Косоротов не знаешь. До революции он в надзирателях по тюрьмам состоял, потом у известного тебе колчаковского полковника Зубова в палачах. Говорят, редко-редко кто умирал у Косоротова, не развязав языка. Да я-то его хорошо знаю. Это уж много после он в Огородникова Ерофея Кузьмича перекрасился, в бобыля-сапожника, девчонку-сироту какую-то удочерил.
Панкрат от удивления хлопал глазами.
– А двое других – сын того полковника Зубова и наш… Макар Кафтанов.
– Макарка?! И с ним сидел?! Но погоди, он же вор-магазинник, по уголовной статье всегда судится.
– Да, судится по уголовной. Считает, видно: так мстить людям за то, что революция сковырнула их, Кафтановых, вроде и безопаснее. И Петька Зубов вроде бы вор. Когда посадят в тюрьму, им намного легче, чем мне, например, было… Погоди, ты слыхал ли когда про сына полковника Зубова?
– Что-то слыхал, будто при том полковнике сынишка был. И еще слыхал от кого-то, что ты, когда мы на Огневскую заимку тогда напали, сумел скрыться в суматохе с этим парнишкой. От Федора будто.
– Верно… Или от Алейникова с Анной – они раненые на полу валялись, могли видеть. Кафтанов потом мальчонку Зубова в тайгу отвез куда-то, Лукерья Кашкарова их вырастила с Макаром…
– Вона! – воскликнул Назаров. – Не зря, значит, Макар ей дом купил!
– Ты что, неужели куришь?
Панкрат скручивал папиросу.
– Нет, нельзя мне, – вздохнул Назаров, бросил самокрутку в кисет. – Так вот заверну, поверчу в пальцах, и вроде легче, будто покурил.
– Тянет, значит?
– Мочи нет. Все во сне вижу, как курю.
– А я отвык. Там табаку не было, и отвык. Ты это брось, не носи кисет-то. А то и не выдержишь когда-нибудь.
– И то – боюсь, – согласился Панкрат. – Да я спичек не ношу… Ну, так и что ты хотел сказать этим всем?
– А то и хотел. Вроде бы они и простые уголовники, да ишо чем-то пахнут. А чем – разберись! Не так-то просто. Но как бы там ни было, замели их, чтоб не воняли. И в данном разве не ошиблись, положим. Ну а я для Якова Алейникова чем-то на этих трех похожий. Может, и было у него сомнение – я ли, не я тех лошадей украл? Но на всякий случай подгреб меня к той же куче. Потеря небольшая, не убудет…
Савельев прошелся по комнате, остановился у окна и, задумчиво глядя на улицу, промолвил:
– И думал я еще не раз: поставь меня на место Якова, как бы я поступил? Не знаю, не знаю…
– Э-э, нет, Иван, – после некоторого молчания качнул Назаров несогласно головой. – Ведерко воды из речки взять можно, не убудет. И два, и сотню… А ежели отводную канаву прорыть да другую, десятую? И помелеет речка, а то и совсем разберут ее. Не-ет, по живому рубить кому позволено? Яшка, раз поставлен на это дело, разбираться должен.
Иван нервно усмехнулся:
– Должен… Должен Бог всех в своей вере держать, а оно, вишь, безбожники из людей вырастают. Хотя все вроде молятся… Где уж Алейникову или кому другому на его месте всякий раз до тонкости разобраться, когда сами люди меж собой иногда распутаться не могут? Опять же, к примеру, нас возьми…
– Взял. И что?
– Ну, соображай. Я и Макар Кафтанов вроде родственники, поскольку родная Макарова сестра, Анна, замужем за моим родным братом Федором. С другой стороны, мы – лютые враги, поскольку я застрелил Макаркиного отца… Он, Макар, знает это. Увидел меня в лагере, подошел, улыбнулся. «Здравствуй, родимый. Батю-то вспоминаешь моего?» У меня мороз по коже, чую, что за улыбочка, к чему она. А сказать ничего не могу. «Ну, помолись тогда да послезавтрева с утра одевайся в чистое, – выдохнул мне в ухо Макар. – Сам одевайся, а то покойников тут не обряжают. Только не думай, что за батю одного. Я выше кровной мести. Кишочки тебе выпустим, исходя в основном из теории Карла Маркса и товарища Ленина насчет борьбы классов…» Подумал, что я не понял, добавил: «За то, что к красным перекинулся, гад». И, посвистывая, отошел. Вот так, срок назначил. И я знаю, жить мне осталось сегодняшний да завтрашний день. Это уж точно. В лагере – там ведь свои законы. Что мне делать?
– Н-да… – покачал головой Панкрат.
– А делать было что, – продолжал Савельев, глядя куда-то в одну точку. – Мог я, попросту говоря, выкупить свою жизнь Федькиной головой.
Панкрат Назаров вопросительно вскинул спутанные, проволочные брови.
– Дело простое, – сказал Иван. – У Петьки Зубова тоже задача в жизни – найти и приколоть того человека, который его отца зарубил, Федора, значит…
– Во-он как?! – удивленно воскликнул Назаров.
– Да… «В лицо, – говорил мне Зубов, – до сих пор убийцу моего отца помню. Усики его черные помню. Помню, как он оскалил зубы и на меня шашкой замахнулся… – Федор же тогда чуть и мальчишку не срубил в гневе… – А дальше, говорит, ничего не помню». Ну а я ничего из того утра не забыл. Стоило мне сказать, кто отца его зарубил, Зубов бы али Косоротов этот самому Кафтанову головенку отвернули бы, если б он тронул меня. К тому же как-никак жизнью мне Петька Зубов обязанный. А что мне было не сказать? За что сижу, кто меня посадил? Он, Федька, братец мой… Жалеть мне его из какого резону? Да и сам Макар Кафтанов, может, отменил бы свой приговор. Анне он тоже не простил, что она за Федьку вышла, что в партизанах была. Рано или поздно придушу, говорит, сучку краснозадую.
– И что ж, не сказал? – осторожно спросил Панкрат. Он опять скручивал папиросу.
– Так вот и не сказал, – вздохнул Иван. – А теперь думай: я осужденный как враг народа, Макар по уголовной статье сидит, но этот уголовный тоже враг, и он хочет меня, врага, уничтожить, «исходя из теории насчет борьбы классов». Как нас Яшке Алейникову распутать, если мы сами не можем распутаться?
Долго молчал председатель, мял толстыми, негнущимися пальцами самокрутку, крошил ее обратно в кисет.
– Да, жизнь, – промолвил он наконец задумчиво. – Ну а все ж таки тоже любопытственно мне, не осуди уж… Про Федора не сказал, то как же в живых остался?
– В карцер сел, – спокойно ответил Иван.
– Как в карцер?
– На другой же день не пошел на работу. Не пойду, говорю, и все. Старосту барака выматерил. Ну, меня живо в карцер на двадцать суток, в одиночку. А потом… Под счастливой все же я звездой родился. Пока сидел, Косоротов, Зубов и Макар побег совершили. Видно, случай подвернулся. Косоротова овчарки заели, а Макару с Зубовым удалось уйти. Из карцера я вышел, с полгода пугливо озирался: ежели Макар оставил кому свой приговор, все равно пристукнут. Нет, пронесло…
Председатель колхоза слушал, чуть склонив голову, пощипывал бороду.
– Н-нет, паря, – произнес он со вздохом, отвечая каким-то своим мыслям, – все ж таки я при своем остаюсь, не оправдываю Якова. Не должен в одну кучу он все сгребать. Не должен потому, что власть ему от народа большая дадена. Узлы всякие распутывать должен, добираться именно до истины – кто в самом деле молится, кто для вида рукой махает. А то что же получается? Как по старинной пословице: должен поп ночью с попадьей лежать, а он монашку за алтарем тискает… С тобой-то ладно – накуролесил в жизни. А вот хотя бы этих троих за что – Баулина, Засухина Василия, Кошкина? Знаешь, что их тоже…
– Говорила счас Агата.
– Я же воевал с ими и после хорошо знал. Душевные люди, хотя не шибко грамотные. Да и все-то мы… Приедешь в район – со всякой болячкой к им, как к родным, идешь. Одно слово – своя власть, понимающая… Или вот нашего Аркашку Молчанова в пример возьми. Уж этот-то на глазах вырос, когда спать ложился или когда в сортир садился – все на виду. А тоже враг, вишь ты, оказался. Доселе сидит. Это как?
– Про тех троих не знаю. А Молчанов – по глупости, – сказал Иван.
– По чьей? – нахмурился Назаров.
– По своей, – ответил Савельев спокойно. – Когда меня крутили с этими лошадьми, Аркашку все допрашивали, стращали: зачем-де врешь, что Инютин цыганам лошадей свел, сколько, мол, Иван Савельев тебе за эту ложь дал, за сколько продался?
– Откудова ж ты знал?
– При районной КПЗ я сидел, в камере предварительного заключения то есть. А в этой камере все известно. Черт его знает, как туда все слухи да известия доходят, а только доходят, все там обсуждается на сто рядов. Ну вот… Аркашка молчал-молчал да и брякнул: вы, ежели поставлены на это, так разбирайтесь по справедливости, а нечего заставлять невинных оговаривать… Ну и прорвало его. Такие-сякие вы, дескать. Ты-то, Панкрат, знаешь, прорвет Аркашку раз в год – и вывалит он что надо и что не надо, все до кучи. Наговорил, в общем, лишнего вгорячах…
Панкрат Назаров выслушал все со вниманием. Когда Иван замолчал, опять отрицательно махнул головой:
– С ним – пущай оно так. Только оно как-то не так… А?
Панкрат неотрывно смотрел на Савельева, ждал ответа.
– Ты все спрашиваешь, – сказал Иван с легкой грустью. – А я что тебе могу объяснить? Не того ума человек. Кружится жизнь, как сметана в маслобойке. Потом из сметаны масло получается.
– Как это понять?
– Ты думаешь, тот же Яшка Алейников не хочет добра, справедливости? – вместо ответа проговорил Иван.
– Ну?
– За что же он воевал тогда? Жизни не жалел, под пули лез? А жизнь-то, поди, тоже у него одна? И, как всякому, дорогая ему?
– Ну? – еще раз спросил Назаров.
– Туго справедливость людям поддается, вот что. Достигается трудно.
Панкрат еще посидел неподвижно, встал, тяжело разгибаясь, с удивлением увидел в кулаке кисет, сунул его в карман, усмехнулся.
– Чуднó получилось… Я пришел пощупать: как ты, не озлился на людей ли? Вроде бы вразумить тебя пришел, поучить чему-то. А вышло наоборот как-то. Яшку вон оправдываешь.
– Зачем? Я его не оправдываю. Я сказал – зла на него не держу.
Распахнулась дверь, через порог шагнул парнишка лет тринадцати, невысокий, белявый, как Иван, с такими же серыми глазами, крутым лбом. Он был бос, в выгоревших, порыжелых, запыленных штанах, которые торчали на ногах трубами, в черной мятой рубахе с расстегнутым воротом. В руках у него был кнут.
Перешагнув через порог, парнишка прижался к стене, испуганно и недоуменно переводя глаза со своего отца на председателя колхоза и обратно. На лбу у него выступили бисеринки пота. Савельев медленно качнулся к сыну:
– Вот ты как вырос… Володенька… Здравствуй, сынок!
Володька молча уткнулся лицом в отцовское плечо…
* * *
От прошедшей грозы не осталось и следа, земля жадно всосала дождевые лужи, лишь обмытые от пыли дома, деревья, травы выглядели посвежее, чем утром.
В Михайловке по-прежнему было пустынно и глухо. Под стенами домов лежали распаренные, с раскрытыми клювами куры, деревенские собаки забивались в тень и, обессиленно вывалив длинные розовые языки, часто и тяжело дышали.
Над Михайловкой, над Шантарой, над всей округой и, казалось, над всей землей лежала эта мертвая тишина, а в чистом небе яростно полыхало солнце. И никак нельзя было представить, что где-то в этот час нет ни тишины, ни чистого неба, ни солнца, что вся земля и небо завалены грохотом, воем, дымом, человеческим плачем, что уже несколько часов по земле идет война.
…Антон Савельев брел по Дрогобычскому шоссе. В руках у него болтался смятый пиджак, он часто вытирал им грязное, потное лицо. Солнце ныряло в жирных клубах дыма, но в редкие минуты оно выкатывалось на чистую поляну неба, и тогда Антон соображал, что время далеко за полдень.
В те редкие минуты, когда небо очищалось от дыма, Антон видел, как немецкие бомбардировщики стаями плывут и плывут на восток. Они летели теперь высоко, направляясь, видимо, в глубокий тыл, монотонно, как мухи, жужжали.
Где-то по сторонам шоссе глухо бухали зенитки, Антон видел белые ватные гроздья разрывов. Но зенитки почему-то не доставали до самолетов, не причиняли им никакого вреда. «А истребители? Где же наши истребители?!» – с нетерпением, с яростью думал Антон.
– «Ястребок»! Наш, глядите! И-16! И-16! Счас даст! Счас даст! – услышал он вдруг.
В небе сквозь дымные полотнища пронесся небольшой самолетик со звездами на крыльях. Движение на шоссе остановилось, задрав головы, люди смотрели вверх. «Ястребок», взвыв, отчаянно кинулся в самую гущу немецких самолетов. Но тут же задохнулся, распустил за собой длинный хвост из кроваво-черного дыма и, косо прочертив небо, рухнул на землю недалеко от шоссе. Там, где он упал, глухо лопнуло что-то, земля чуть дрогнула. Люди, бросив повозки, побежали сквозь лес к упавшему самолету. А Савельев вдруг круто повернулся и зашагал назад, к Перемышлю.
Он брел по обочине. Навстречу ему, по левой стороне шоссе, шли и шли подводы и грузовики с узлами, чемоданами и просто кучей набросанного тряпья. На этом тряпье, на узлах сидели дети, женщины, старики. Мужчины шли пешком, катили перед собой ручные тележки с теми же узлами и чемоданами, многие тащили эти чемоданы в руках. Дети плакали, напуганные необычным столпотворением, просили есть, женщины обезумевшими глазами смотрели на все происходящее, крепко прижимали к себе детей, шоферы грузовиков яростно жали клаксоны, что-то кричали, высунувшись из кабин, прося, очевидно, передних двигаться быстрее. И все это тонуло в вое и грохоте металла, в густой пыли, в чадном бензиновом угаре, потому что по правой стороне шоссе, в сторону Перемышля, шли танки, бронетранспортеры, зеленые грузовики с красноармейцами, с ящиками, с мотками колючей проволоки.
Шоссе с правой стороны было давно изуродовано, в лапшу изрезано гусеницами, но танки, бронетранспортеры и грузовики не сбавляли скорости, из-под колес и гусениц летели камни и щебенка, засыпая беженцев.
Антону страшно хотелось пить. Но попросить у кого-то воды в этой суматохе было невозможно, да и была ли она, вода, у кого-нибудь? До Перемышля далеко, да и что там, в Перемышле? Может, уже немцы? И не пить он туда идет. А зачем?
Антон остановился, огляделся. Шоссе заворачивало чуть влево, на повороте военные машины, чтобы не подавить людей, сбавляли скорость. Не раздумывая, Савельев сошел с обочины, пробился сквозь людской поток, на ходу ухватился за борт какого-то грузовика.
– К-куда? – закричал сидящий в кузове молодой красноармеец и схватился за винтовку. – Пошел отсюда! Тут груз.
– Ты спокойно, сынок, – сказал Савельев. – Мне туда надо. В Перемышль.
– Слазь, сказано! Мы не в Перемышль, в другое место.
Лицо у красноармейца было круглое, чернявое, курносый нос торчал пуговкой. Несмотря на то что боец изо всех сил старался изобразить суровость, это у него получалось плохо.
Грузовик прибавил ходу, понесся, подпираемый сзади тупым рылом бронетранспортера.
– Куда же я? Под гусеницы? Сдашь меня своему командиру, как приедем. Да опусти винтовку, не съем я твой груз.
– Прыгай! Застрелю! – хрипло крикнул красноармеец.
– A-а, стреляй, – сказал Антон и отвернулся.
Грузовик подбрасывало на рытвинах, выбитых за полдня колесами, на камнях, вывернутых из полотна непрочного шоссе железными гусеницами. Антон толокся на каких-то ящиках. «Хорошо еще, что фашисты дорогу не бомбят», – мелькнуло у него, и он содрогнулся, представив, что могло бы произойти, начни немцы бомбить шоссе.
Грузовик с каждой минутой приближался к утонувшему в дымах Перемышлю, и с каждой минутой все явственнее, все отчетливее слышалась орудийная канонада.
Вдруг грузовик свернул на проселок, помчался по хлюпкой, поросшей кустарником низине. Во многих местах кустарник был поломан, измят; как белые кости, белели ободранные стволы молоденьких деревьев. Савельев догадался, что здесь прошли танки, много танков.
– Куда мы едем?
– Молчи, гад! – вскинул винтовку боец.
– Я тебе не гад! – крикнул Савельев.
– А я откуда знаю? Сиди теперь!
Перед грузовиком, немного сбоку, вздыбилась неожиданно земля, комья забарабанили по крыше кабины, по ящикам. Перед тем как раздался взрыв, Антон увидел блеснувшую слева неширокую ленту реки и понял: этот участок дороги был хорошо виден из-за Сана. Справа, спереди и сзади еще трижды ухнуло. Грузовик, взревев, полетел вперед еще быстрее. Савельев схватился за тяжелый ящик обеими руками, обнял его.
Неожиданно машина въехала в лес, и грохот сразу прекратился. Савельев стряхнул с себя землю и произнес:
– Уф… Пристреляли, выходит, дорогу они…
– А ты как думал… Я тут третий раз сегодня проезжаю, – помягче сказал красноармеец.
Наконец грузовик остановился. Из-за деревьев выскочил молодой капитан-пехотинец, несколько красноармейцев.
– Кружилин! Доставил? Молодец! – прокричал капитан и повернулся к бойцам: – В пять минут разгрузить!
– У меня тут, товарищ капитан, посторонний, – сказал Кружилин, спрыгивая на землю. – Не сходя с машины, в плен кого-то взял. Заскочил на ходу в машину – в Перемышль, говорит, надо.
Капитан подошел к Антону, строго блеснул из-под фуражки с лакированным козырьком глазами.
– Кто такой? Фамилия?
– Я Савельев…
– Живее, живее разгружайте! – крикнул капитан бойцам. – Савельев? Ну, пойдемте.
На опушке был вырыт глубокий окоп, из которого торчали рожки стереотрубы. Капитан нырнул в окоп, Савельев – за ним. В окопе седоватый, с желтой плешиной человек со знаками различия полкового комиссара, выгнув горбом спину, кричал в телефонную трубку:
– Танки? Где обещанные танки?… Что, не будет?… Тогда нас сомнут – немцы наводят через Сан новую понтонную переправу… Почему молчит Некрасов?… Пушки, говорю, почему молчат?… Как нет снарядов? Тогда нас сомнут… Я без паники, я без паники. В полку осталось не больше двухсот человек… Держимся почти сутки. Какие патроны? Какие гранаты? Ничего нет…
– Кружилин доставил машину гранат и патронов, товарищ полковой комиссар, – сказал капитан.
– Да, пришел грузовик… Пехоту мы отобьем. Но если немцы переправят танки? Они обязательно переправят танки… Что?… Есть удержаться. Слушаюсь. Слушаюсь… – Полковой комиссар выпрямился и как-то по-домашнему, тихо и грустно сказал, будто речь шла о каком-то пустяковом одолжении: – Ну что вы, Григорий Трофимович, мы, конечно, будем держаться… Да, да, спасибо… Да, да, до встречи.
Потом он долго и внимательно рассматривал документы Савельева – паспорт, партийный билет. Савельев рассказывал ему, как он очутился в Перемышле, почему-то с подробностями – как рухнула гостиница, в которой кричала женщина, как падал с неба советский истребитель.
– И мне стало стыдно, – закончил Савельев. – Почему я должен бежать? Я еще могу стрелять. Я не разучился…
– Да, да, – грустно подтвердил полковой комиссар, возвращая документы. – Вы извините, утром немцы сбросили в наши тылы большой парашютный десант в красноармейской форме и гражданской одежде…
Полковой комиссар говорил, потирая седые виски, на которых бились тугие жилки, думая о чем-то другом, неизмеримо далеком от Савельева, от тех слов, которые только что произнес. Капитан глядел в стереотрубу.
– Они уже заканчивают переправу, товарищ полковой комиссар!
– И все же, Антон Силантьевич, вам лучше бы уйти, – сказал полковой комиссар, подходя к стереотрубе. – Через четверть часа будет, вероятно, поздно.
– Я останусь… если можно.
Полковой комиссар ничего не успел ответить, потому что где-то за Саном глухо выстрелило орудие и тотчас за окопом, метрах в двадцати, стеной поднялась земля. Не успела земляная стена опасть, как за нею взметнулась, поднялась бесшумно новая, шире и выше прежней. И казалось, с вершины этой стены падают вниз сучья деревьев, какие-то жерди, скатилось что-то круглое, похожее на колесо автомашины. «Неужели снаряд угодил туда, на поляну, прямо в машину Кружилина? – с ужасом подумал Савельев. – А успели ее разгрузить или нет? Успели или нет?»
Полковой комиссар что-то кричал капитану, куда-то указывал, но из-за грохота слов было не разобрать. Потом они, забыв про Савельева, побежали по окопу. Антон постоял, не зная, что делать. Взгляд его упал на прислоненную к стене окопа винтовку без штыка, он схватил ее и побежал вслед за ними.
Через несколько метров окоп стал мельче, потом раздвоился и вдруг – кончился. Савельев оказался на склоне голого холма, внизу перед глазами у него блестел Сан, и он увидел ту переправу, о которой по телефону говорил полковой комиссар. На нашем берегу, у самой воды, догорало несколько немецких танков, подбитых, видимо, давно, зато с противоположной стороны реки, по переправе, ползли и ползли не торопясь десятки вражеских машин.
В Савельева откуда-то стреляли, он чувствовал, как горячие вихри обжигают ему шею, лицо, видел, как вокруг, взбивая пыль, колотятся в землю пули, но растерянно крутился, не зная, что делать, побежал куда-то, инстинктивно заворачивая в сторону леса. Пули щелкали и щелкали вокруг. «Если добегу до леса, останусь, наверное, жив», – подумал он спокойно и, неожиданно провалившись ногой в пустоту, упал.
– Вот чудо-юдо заморское, – услышал он над ухом. – Ты откуда, дядя, взялся тут? Не с неба упал?
Антон понял, что находится опять в окопе, на дне его сидели на корточках несколько красноармейцев.
Окоп был небольшой, метров тридцать в длину, но хорошо замаскированный, поэтому, подбегая, Антон его не заметил.
– Я этого чудака привез, товарищ младший сержант, – раздался знакомый голос. – Еще подумал: не десантник ли фашистский?
– Кружилин! Машину-то… успели разгрузить?
– Почти, – мрачно ответил Кружилин.
Бойцов было человек восемь. В дальнем конце окопа лежали трое, прикрытые шинелями.
– Откуда в меня стреляли? – спросил Антон, потирая ушибленный бок.
– А вон на берегу немцы в песок зарылись. Мы их с утра держим. – Младший сержант зачем-то потрогал металлические треугольники на петлицах.
– Танки, братцы! – раздался испуганный вскрик.
– Тихо! – младший сержант встал на колени, выглянул из окопа. – Ну, танки. Не видел ты их, что ли, сегодня? Сейчас их накроет некрасовская батарея.
«Не накроет уж, видно», – с грустью подумал Савельев.
Все бойцы, встав на корточки, молча и угрюмо глядели через бруствер, как с понтонной переправы один за другим сползают темно-зеленые танки с черно-белыми крестами и, разворачиваясь, с ревом устремляются влево и вправо. Танк вправо, танк влево, танк вправо, танк влево…
– Обойдут нас, – негромко сказал Кружилин.
– Как же вы позволили переправу им навести? – спросил Савельев.
И как бы в ответ засвистели над головой пули, потом донесся треск автоматных очередей. Этот свист и треск слился в один протяжный вой, красноармейцы прижались на дно окопа, и только двое все продолжали глядеть туда, откуда стреляли немцы. Потом медленно, как бы нехотя, сползли по стенкам окопа вниз.
– A-а, черт, говорил же – без нужды не высовываться! – выругался младший сержант. – Оттащите их к тем троим. – И сверкнул белками глаз на Савельева. – Попробуй не позволь тут…
Небо густо застилали поднимающиеся где-то далеко клубы дыма. Антон догадался, это горит Перемышль. «А как же Львов? Бомбили немцы Львов или нет? И успел ли приехать Юрий?» – тревожно мелькнуло в сознании.
Неожиданно прекратились взрывы за спиной, перестали свистеть вверху пули. Младший сержант положил на бруствер винтовку и по-крестьянски поплевал на руки.
– Приготовиться!
Снизу, от реки, веером шли танки, четыре из них ползли прямо на окопчик. За танками густо бежали немцы, в касках, маленькие какие-то, коротконогие.
– Ого-онь! – закричал младший сержант.
Беспорядочный треск винтовок слился с отрывистым ревом немецких автоматов, воем танковых моторов и потонул в нем. Савельев дернул затвор, прицелился в темно-грязную фигуру бегущего немца и выстрелил. Немец сделал еще несколько шагов, споткнулся и, взмахнув руками, упал… Савельев удивился этому. «Ты гляди-ка… И правда, не разучился еще…»
Потом он стрелял и стрелял, пока затвор не клацнул вхолостую. Обернулся, поискал взглядом, у кого бы спросить патронов. Глаза его встретились с потухающими глазами младшего сержанта.
– У меня… в подсумке возьми, дядя… – прошептал парень, съезжая по стене окопа вниз. На его губах при каждом слове вспухали и лопались кровавые пузыри.
– Сержант!.. Слышь, сынок?! – затряс его Антон, но парень закрыл глаза. Голова его тяжело откинулась в сторону.
Антон приподнялся. Танки были совсем близко. Оставив пехоту позади метрах в трехстах, они лезли на холм. По всему холму трещали выстрелы. Таких окопчиков, в каком находился Антон, на холме было, оказывается, много.
– Танки пропустить! Отрезать пехоту от танков! – крикнул знакомый капитан, спрыгивая в окоп. – A-а, это вы, Савельев… Не ушли? Прохоров! Сержант где?
– Вот, – сказал Кружилин, кивнув на труп.
Капитан наклонился над убитым.
– Это был лучший боец в моем батальоне, – сказал он грустно. – А мой батальон – лучший в полку. – Помолчал и прибавил: – Первый и третий батальоны уже смяты, уничтожены. Многие красноармейцы не выдержали, дрогнули… А мои не побегут. Вы видели, чтобы мои бойцы… хоть один… побежал бы?
– Нет.
Над головой раздался железный лязг; через окоп, обдавая людей вонью и копотью, обваливая на них землю, перевалился танк. Капитан упал на труп бойца, словно хотел своим телом прикрыть его от гусениц.
– И не увидите, – сказал он, отряхиваясь от земли. И зачем-то спросил: – Может, ты, Кружилин, испугаешься и побежишь?
– Я не побегу, товарищ капитан, – хмуро сказал боец.
– Вот… А вообще-то… немцы слева и справа прорвались далеко вперед. Гранаты – к бою!
Савельев выглянул из окопчика и метрах в пятидесяти увидел немцев. Так близко он их видел впервые. В грязно-серых расстегнутых блузах, с засученными рукавами, в рыжих касках, они беспорядочной толпой бежали прямо на окоп.
– Грана-атами-и… – протяжно крикнул капитан над ухом.
У Савельева гранат не было, он, вдавив в магазин патроны, прицелился в широкоплечего немца. Целился и думал, что немец, вероятно, тоже видит его, вот и автомат вскинул в его сторону… Выстрелить Антон не успел, перед немцем брызнул земляной сноп. Савельев еще видел, как, переломившись назад и вбок, падал этот немец, а потом все закрыла стена гранатных разрывов.
– Отставить! – раздался голос капитана.
Выстрелы смолкли, дым и пыль впереди медленно рассеивались. Перед окопом на земле беспорядочно валялись немцы, но было видно, что это не трупы.
– Лупи, лупи их, ребята-а! – совсем не по-командирски закричал капитан. Голос его разнесся по всему холму. – Не давать им подняться! Бить прицельно!
По всему холму опять загремели винтовочные выстрелы. Немцы стали отползать.
…Усеяв склоны холма трупами, фашисты отползли почти к самому берегу реки, на свои старые позиции. Установилась тишина.
Капитан вытер правой рукой грязный лоб, огляделся.
– Все у нас живы?
– Почти, – откликнулся Кружилин и начал стаскивать в дальний угол окопа трупы бойцов.
В живых осталось, не считая капитана, Кружилина и его, Савельева, три человека. Левая рука капитана висела плетью, на плече расползлось большое темное пятно.
– Так, – сказал он и, сжав бескровные губы, сел на дно окопа, прислонился головой к стене.
Кружилин сказал:
– Вы ранены, товарищ капитан, давайте перевяжу.
Капитан молчал.
– Сейчас они опять полезут, – проговорил Савельев.
– Подождут маленько, – усмехнулся капитан. – Зачем рисковать? Вот, послушайте, – кивнул он на стенку окопа.
Савельев прижал ухо к стенке и уловил, что земля чуть подрагивает.
– Где-то далеко танки, кажется, идут.
– Нет, они уже близко. Они уже подходят к переправе.
Савельев приподнялся над окопчиками и увидел, что на той стороне Сана к понтонной переправе подходит новая колонна танков.
– Ну а где же наши пушки? – простонал Кружилин, тоже глянувший в сторону реки. – Товарищ капитан, почему молчат наши пушки?
– Разве я артиллерией командую, Кружилин? – строго спросил капитан.
Боец опустил голову.
Потом все молчали, слушали, как гудят на той стороне Сана танки.
– Слушай, капитан, – проговорил наконец Савельев. – Надо что-то делать…
– Ну что? – равнодушно спросил капитан. – Отступать?
– Может быть…
– Так… – усмехнулся капитан. – А приказ был?
– Но ведь зазря люди гибнут, бессмысленно.
– Не знаю.
– Что не знаете?
– Бессмысленно или нет. Это командование дивизии знает.
Капитан застонал от боли в плече, закрыл глаза. Савельеву стало жалко этого человека, и в то же время он с неприязнью подумал о нем: «Солдафон, наверное, тупоголовый. Приказа об отступлении нет…»
Савельев заговорил об отступлении не из боязни за свою жизнь, о себе он сейчас вообще не думал. Просто обстановка, в которой они очутились, заставляла его думать трезво и рассуждать логически.
– Савельев, я вот что хотел спросить, – раздался вдруг голос капитана. – Иван Савельев, что жил в Сибири, в деревне Михайловке, это не ваш брат?
Антон удивленно, всем телом, обернулся к капитану. Но тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами. Грязный лоб его покрылся крупными каплями пота.
– Верно… брат. Младший…
– Вот видите. – Капитан открыл глаза. – А я вас сразу узнал… Такой же белобрысый Иван-то. А в Шантаре другой ваш брат живет, Федор. Тот чернявый.
– Верно… Да вы кто такой?
– А я – Назаров. Максим Панкратьевич Назаров. Из Михайловки я родом. Там, в Михайловке, отец мой, председатель тамошнего колхоза. Год назад я в отпуск к нему ездил… А служим вот вместе с земляком, с Кружилиным Василием.
– Постой, постой, это какой Кружилин? – Савельев нахмурился, потер лоб. – Кружилин, Кружилин? Фамилию вроде слышал… Нет, не помню. В Шантаре я, считай, мальцом последний раз был. Кажется, в девятьсот десятом году еще… Неужели я похож на Ваньку?
– Похож, – подтвердил Назаров. – Он, Иван, что же, не вернулся еще из тюрьмы?
– Не знаю, – сказал Савельев. – Что в тюрьме Иван, знаю. А вот за что? У старшего брата несколько раз спрашивал – не отвечает даже на письма. А жена Ивана – ей я тоже писал – одно твердит: невиновен Иван…
Давно уже был слышен шум моторов и лязг гусениц. Капитан шевельнулся, привстал, глянул через бруствер.
– Ползут. Еще жарче сейчас будет. Вы, Савельев, сейчас еще можете уйти… А мы не имеем права. Вы ведь, кажется, ехали с Кружилиным по Дрогобычскому шоссе, видели, что там делается? Наша задача – задержать немцев как можно дольше, чтобы дать людям возможность отойти от Перемышля подальше. В этом – весь смысл. Другого нет. Там женщины и дети…
У Савельева перехватило в горле. Он глотнул тугой ком слюны.
– Я понял… Я останусь. Куда мне идти…
– Дело ваше, – холодно сказал Назаров. – Кружилин, ты тут за старшего будешь. Танки, как и в первый раз, пропустить, отрезать пехоту… Если что, я на батальонном КП…
И выскочил из окопа, не обращая внимания на свист автоматных очередей, побежал вдоль холма, придерживая здоровой рукой фуражку…
По команде Кружилина бойцы приготовили гранаты.
– А ты, батя, умеешь? – спросил Кружилин, протягивая гранату и Антону.
– Приходилось. Только больше самодельными.
– Дело простое: вот так выдерни чеку – и швыряй!
Но воспользоваться гранатами на этот раз не пришлось. Танки заползли на холм и с остервенелым ревом принялись сновать взад и вперед по его плоской макушке, крутиться на месте, распахивая неглубокие окопчики, размалывая в них людей. Огромная лязгающая махина, закрывая дымное небо, приближалась и к окопу, в котором был Савельев.
– Ложи-ись! – почти беззвучно закричал Кружилин, широко раскрыв рот.
Где-то сбоку раздавались взрывы, беспорядочная винтовочная трескотня. Антон обернулся и увидел – между двумя соседними траншеями ворочается черная железная махина, а красноармейцы из окопов швыряют и швыряют в нее ручные гранаты, бьют из винтовок, целясь, видимо, в смотровые щели. Но танк был неуязвим, гранаты отскакивали от брони и рвались вокруг.
– Да ложись же! – рявкнул Кружилин в самое ухо, дернул его за пиджак.
Антон повалился и, падая уже, увидел, что танк выбросил султан кроваво-черного дыма и тут же вспыхнул костром. «Ага, ага!..» – злорадно почти вслух выкрикнул Савельев. Еще он увидел на миг светлую ленту Сана, и немцев, которые беспорядочными кучками взбирались на холм, и плоское, грязное днище танка над головой. Оно пялилось куда-то вверх, потом упало на окоп тяжелой многотонной крышкой. «Ну, сейчас мы вас встретим…» – подумал Савельев о немцах, сжимая гранату. Он упал неудачно, подвернув под себя руку. Граната больно давила в ребро. «Ничего, сейчас, сейчас…» – стиснул он зубы, пересиливая боль. Но сверху, на спину ему, обвалилась земля, засыпала с головой. Сразу стало нечем дышать, совсем нечем… Перед глазами в черной непроницаемой мгле вспухли оранжево-зеленые круги и со звоном лопнули, брызнули во все стороны белыми-белыми искрами…
* * *
Антон очнулся оттого, что кто-то пытался вывернуть ему руку. Он застонал.
– Ага, живой… Тихо только! Тихо, – услышал он сквозь звон в голове и почувствовал, как сваливается с него тяжесть. – Вылезайте…
Василий Кружилин наполовину откопал Савельева, взял его за плечи, кое-как вытащил из-под земли. Антон сел, тяжело и жадно стал вдыхать теплый ночной воздух, пропитанный запахом пороха, бензина и горелой краски.
– Это ты, сынок? А еще есть живые?
Боец не ответил. Он сидел в двух шагах, рассматривал немецкий автомат, пытаясь вставить в него рожок.
На противоположной стороне Сана горели костры, мелькали между деревьев огоньки. У Савельева сильно болел бок, он засунул под рубаху грязные пальцы, пощупал ребра, пытаясь определить, целые ли они. Но определить не мог.
– A-а, черт, темно! – с досадой сказал Кружилин. – Как он, дьявол, вставляется?
Было тихо, совсем не верилось, что недавно здесь кипел бой. Неподалеку в полутьме чернела бесформенная глыба – наверно, тот танк, который все же удалось подбить гранатами. В небе, видимо, все еще стлались дымы, потому что там то вспыхивали, то исчезали россыпи звезд. А может, ветер гонял клочья облаков – понять было нельзя.
Боль в боку поутихла, притупилась, и Антон подумал, что ребра его все же целые, наверно.
– Что ж теперь делать нам, сынок? Надо ведь что-то делать.
– А что нам, холостым! – усмехнулся Кружилин. – Сейчас в Перемышль зайдем, тяпнем в забегаловке грамм по полтораста для лихости да к бабам завалимся. Шикарная у меня деваха есть в Перемышле… А у ней подруга – ух! И все просила меня товарища привести, познакомить. Вы как, папаша, насчет женсостава-то? В силе еще?
Кружилин пошловато хохотнул, но странно – этот хохоток и слова парня не рассердили Антона, не обидели, а заставили улыбнуться. Антон подумал, что Кружилин совсем не пошляк, просто в нем не перебродила еще молодая кровь и он любит жизнь. И очень хорошо, что он, Кружилин, пережил сегодняшний день, остался цел в этой мясорубке и вообще теперь останется живой. Через неделю, через две в крайнем случае, немцев отбросят обратно за Сан, Кружилин снова будет ходить в Перемышль, к своей «шикарной девахе», а на этом холме поставят памятник погибшим в сегодняшнем бою. Простой деревянный обелиск, наверное, со звездой наверху. Надо будет потом специально приехать сюда, поглядеть на памятник.
Василий все возился с автоматом, щелкнул какой-то пружиной.
– Ага, вон какая музыка, – сказал он удовлетворенно и встал. – Ну, пошли, папаша. Винтовку вот возьмите.
Кружилин был тоже оборванный, один рукав гимнастерки обгорел, а на щеке засохли полосы крови. Все это Антон разглядел, когда на минуту вывалилась из-за дыма (все-таки это были дымы) луна и облила искореженную землю бледно-молочным светом.
– Ты ранен, сынок? – спросил Савельев.
– Пустяки. Гусеницей скребануло. На пяток сантиметров бы правее – и мокрое место вместо головы. А так кожу только царапнуло да клок волос выдрало. Я – счастливый.
Боец пошел впереди, шел быстро, уверенно, – наверное, он знал, куда идти.
– Лелька так и говорит: «Счастливый ты, Вась». Я спрашиваю: «Почему?» – «А потому что, говорит, я люблю тебя…» – Кружилин обернулся, подождал, пока подойдет Савельев, и сообщил строго: – А вообще-то, мы пожениться договорились. Вот отслужу действительную – мне три месяца осталось – и сразу увезу ее в Шантару. В армию-то я из Ойротии уходил, там отец мой работал. А сейчас его опять в Шантару перевели. Приеду – и сразу свадьбу. А, здорово?
– Куда мы идем?
– Да, счастливый я, – продолжал Василий, усмехаясь. – Что тут было! Танки перепахали окопы, ушли, как только ихняя пехота вскарабкалась на высоту. Забегали, загалдели, стрельбу подняли. Добивали тех, кто еще живой. Я лежу, приваленный землей, одна голова наружи. Почему они меня не пристрелили? Потому, наверное, что морда вся в крови, думали, мертвый. А некоторых с земли повыдергивали, согнали в кучу. Кто мог идти, угнали куда-то, остальных очередями прошили. Все мне видно. Потом все ушли. Я мог бы засветло уползти, да через понтонный мост все шли и шли колонны ихних войск, автомобили, тягачи с пушками. Заметили меня с моста бы…
Он говорил и говорил не останавливаясь. Савельеву теперь неприятен был его голос. Радуется, что в счастливой рубашке родился, ишь расписывает как все радостно. И он невольно замедлил шаг. Кружилин через полминуты опять остановился. И когда Савельев подошел, парень вдруг качнулся, окровавленной головой уткнулся ему в грудь.
– Ты что, Кружилин?! Вася?!
– Я все видел, все видел… – не отрывая головы, сквозь рыдания проговорил Василий. – У танков гусеницы в крови, броня чуть не до башни кровью обрызгана… А за некоторыми кишки волочились… как мокрые веревки. Как же это, а? Как это случилось? Зачем, а?!
Парень рыдал, по-детски всхлипывая. Савельев, изумленный, ничего не мог сказать, только гладил красноармейца по плечам, по грязным, в засохшей крови, волосам.
– Ничего… ничего, сынок… Все будет хорошо. – Подумал и прибавил: – А ты, конечно, женись на этой Лельке. Обязательно, слышишь?
Василий молча оторвался от его груди, сгорбившись, быстро пошел к темной стене леса, почти побежал. Савельев тоже заторопился, боясь отстать, потерять его в темноте.
Он догнал бойца на опушке. Парень сидел на корточках перед каким-то человеком, лежавшим навзничь. Савельев нагнулся и узнал капитана Назарова.
– Вот… – ткнул кулаком Василий в сторону Савельева. – Папаша этот, что в машину ко мне заскочил. А больше никого…
– Ты, Кружилин, хорошо проверил? – Назаров тяжело, с хрипом, дышал, глаза его, кажется, были закрыты.
– Я весь бугор излазил, каждый труп в руках подержал. Нету больше живых.
– Хорошо, Кружилин. Молодец ты, Вася. Спасибо тебе… Только зря ты со мной возишься…
– Что вы, товарищ капитан! Вы еще на свадьбе у меня… обязательно должны…
– Пить… что-нибудь есть?
– Нету воды, товарищ капитан. Хотя постойте. Там немец с фляжкой лежал…
Кружилин исчез в темноте. Назаров дышал все так же шумно и тяжело. Савельев сидел рядом, сжимая между колен винтовку. Никаких мыслей в голове почему-то не было. И радости оттого, что жив, что Кружилин раскопал и вытащил его, тоже не было.
– Вы, Савельев, как, целы? – спросил Назаров.
– Сам не пойму… В голове все шумит. А так…
– Если выберетесь, скажите моему отцу, напишите, что… В общем – сами знаете. Сами все видели, что мы могли, что не могли… А Кружилин зря меня сюда выволок. Ноги у меня перебиты. Обе. И плечо. И грудь.
Вывернулся из темноты Кружилин, присел возле капитана, начал поить из фляжки. Потом сказал:
– Надо в лес нам. Поглубже. А там видно будет. Должны же где-то быть наши. Слышите, товарищ капитан!
– Я слышу, Кружилин. Вы идите. Оставьте меня здесь. Это – мое приказание. Ясно?
– Куда яснее, – усмехнулся Василий.
Было, видимо, за полночь, в воздухе посвежело, потянул ветерок, относя куда-то за Сан запах сгоревшего тола, бензиновую вонь. Верхушки деревьев угрюмо шумели.
И этот же ветерок донес гул далекой канонады. Савельев почувствовал, что бледнеет, что в сердце начал проникать неприятный озноб. Кружилин стоял рядом, как столб, не шелохнувшись, даже капитан стал тише дышать – все прислушивались к этому далекому, неясному гулу.
– Это что же, а? Это куда же они прорвались, а? На сколько же километров?… – растерянно произнес Кружилин. Он говорил как раз о том, о чем думал, бледнея, Савельев.
– Это за Днестром… Это, наверное, наш аэродром они бомбят, – негромко произнес Назаров. – Под Дрогобычем есть аэродром… Не могли они… так далеко прорваться…
Даже Савельев понимал, что Назаров говорит это для успокоения, что это не бомбы рвутся, это артиллерийская канонада.
– Ну ладно, – решительно встал Василий и протянул автомат Савельеву. – Пошли, а то скоро рассвет.
– Я приказываю тебе, Кружилин… не трогать меня! Идите…
Не обращая внимания на слова, на стоны Назарова, боец приподнял его с земли, посадил. Потом присел сам, ловко взвалил капитана на плечи, выпрямился, постоял, будто пробуя тяжесть, и, пошатываясь, двинулся в лес.
…До самого рассвета они шли по лесным тропинкам, стараясь держаться в сторону Львова, по очереди несли тяжелое, обмякшее тело капитана. Сперва Назаров все стонал, потом перестал, не подавал признаков жизни. Шли молча, только один раз Савельев спросил, принимая на свои плечи Назарова:
– Он живой ли?
– Теплый пока, – ответил Василий, часто дыша широко открытым ртом.
У Антона под тяжестью тела подламывались ноги, сперва он думал, что не сумеет сделать и шага, упадет и уронит раненого, но, к своему удивлению, шел и шел вперед. Иногда запинался о кочки, ноги путались в траве. Но он шел, боясь упасть и зная, что не упадет.
Было по-прежнему темно и тихо, и было непонятно, куда и зачем они идут и был ли вчерашний кошмарный день или все это привиделось в тяжелом сне, в каком-тo бреду. Антону казалось, прольется рассвет – и все встанет на свои места, он вернется в Перемышль, с утра сходит в парикмахерскую, и тот старый парикмахер ладонью намылит ему щеки и, что-нибудь рассказывая, начнет стремительно махать перед глазами бритвой. Потом пойдет на кирпичный завод и будет ругаться с директором. Затем позвонит домой, во Львов, поговорит с приехавшим сыном, сообщит жене, что задерживается еще на несколько дней, потому что директор кирпичного завода никак не хочет давать ему кирпичи. «А почему, я думаю, не хочет? Может быть, он сразу распорядится об отгрузке… И тогда сегодня же вечером я сяду на львовский поезд…»
К действительности его вернул тревожный вскрик Кружилина:
– Назад! Немцы же… Немцы!
Оказывается, они вышли к какой-то дороге. Наступал рассвет, небо над головой серело, и в серый сумрак уползала куда-то эта дорога.
– Где немцы? – Савельев не видел никаких немцев. Туман над дорогой пронизывали дрожащие желтые полосы. Но что это такое, Антон сообразить не мог.
Василий толкнул его в бок, почти повалил в густой кустарник, росший на обочине. И только тогда Савельев услышал быстро приближающийся автомобильный рев.
В кустарнике они пролежали около часу. А немецкие машины все шли и шли, обдавая их пылью и бензиновым перегаром.
Серая муть растекалась по земле, рассасывалась; где-то вставало солнце, багрово окрашивая редкие теперь клочья не то дыма, не то грязных облаков. Кустарник, в котором лежали беглецы, только ночью казался густым, а на самом деле он с дороги просматривался, видимо, насквозь. Во всяком случае, Савельев отчетливо видел сквозь заросли каждую автомашину, солдат, сидящих в кузовах ровными рядами, шоферов… «Сейчас они нас увидят… Станет еще посветлее – и увидят», – равнодушно думал Савельев. Василий думал, наверно, о том же, потому что, подрагивая рассеченной бровью, хрипло сказал дважды, подтягивая к себе автомат:
– Даром не достанемся… Даром не достанемся…
К счастью, колонна прошла, с автомашин их не заметили. Но они не знали, что с противоположной стороны дороги за ними давно и хладнокровно наблюдало несколько пар глаз, что их давно держали на прицеле.
В плен их взяли быстро, бесшумно и до удивления просто.
Когда прошла последняя автомашина, они еще минуты три полежали в кустарнике. Потом Василий сказал:
– Я говорил, что я счастливый… Вы, папаша, со мной не пропадете. Устали?
– Тяжелый он, – вместо ответа сказал Савельев.
Василий приложился ухом к груди капитана, послушал.
– Живой, кажись… Ну, моя очередь. Держите автомат.
Василий привстал, огляделся. Перекинул через плечо бесчувственное тело Назарова и побежал через дорогу.
Они вышли на крохотную полянку, и здесь Савельева кто-то сшиб страшным ударом в голову. Он все-таки вскочил, сквозь кровавую пелену увидел чье-то улыбающееся, круглое и чужое лицо. И еще увидел, как беспомощно крутится на поляне Кружилин с телом капитана на плечах, а вокруг, наслаждаясь беспомощностью русского бойца, стоят и гогочут несколько немцев. Все это промелькнуло перед глазами Савельева в одну секунду. Он повернулся, увидел, как немец с жирным лицом поднимает с земли его винтовку и автомат, которые Антон, падая, выронил, кинулся было к нему, надеясь вырвать винтовку, но другой немец подскочил сбоку и ударил в плечо чем-то тупым и тяжелым. Савельев откатился на самый край поляны, но опять вскочил… Прямо в глаза ему смотрел черный зрачок автомата.
* * *
Так и не дозвонившись до Новосибирска, Поликарп Матвеевич вышел из райкома. Евсей Галаншин, конюх, скреб метлой перед крыльцом, сгребая мокрые окурки, сбитые дождем листья.
– Дождик-то славный пролился, – сказал Кружилин. – Хорошо для пшенички.
– Дождь парной – хлеба волной. Это уж так, – подтвердил старик. – Да корявый Емеля и есть не умеет. Ему кашу в рот кладут, а она вываливается.
– Это почему?
– А сам корявый – и рот дырявый, – ответил старик, сел на ступеньку крыльца, полез за табаком. – У нас в районе каждую осень половина хлебушка на токах горит, в землю копытами втолочивается… Робят люди, робят, а потом пол-урожая гробят. – И сделал неожиданный поворот: – Вот и ты, гляжу, какой день все с бумагами возишься. Верка на машине этой трещотистой стучит, а ты все носом ее бумажки ковыряешь. Я вижу. Я хожу вокруг райкома, в окна подглядываю, ну, мне и все видно, кто чем занимается.
Кружилин улыбнулся:
– Это какая же связь между потерями на уборке и моими бумагами?
– А самая такая… До тебя тут Полипов все так же бумаги всякие грозные составлял: быстрее сейте, быстрее косите! Перевозил я этих бумаг в колхозы многие пуды! Ну, люди все бегом, бегом, лишь бы в эти бумажные сроки уложиться. А когда с полным ведром бежишь, не хочешь, да половину расплескаешь. И ты вроде этим же манером хочешь к уборочной подступать. А? Чтоб быстрее всех в области отстрадовать? Полипов у нас завсегда первый был.
– Нет, Евсей Фомич, я не такие бумаги составлял… Убирать хлеба будем по-крестьянски, чтоб без потерь.
– Ну, это поглядим еще, – усмехнулся старик.
Шагая к дому, Кружилин думал о Полипове. Район при нем действительно вышел на первое место в области. И, дав в обкоме согласие вернуться на прежнюю работу, Поликарп Матвеевич полагал, что Полипова ожидает повышение по службе. И это, размышлял Кружилин, справедливо и естественно – Полипов, как видно из его личного дела, коммунист с дореволюционным стажем, неоднократно сидел в царских тюрьмах. Вместе с нынешним секретарем обкома партии Субботиным устанавливал советскую власть в Новониколаевске. Во время белочешского мятежа опять попал в руки белогвардейской контрразведки, но из тюрьмы бежал, служил затем комиссаром в одной из частей Красной армии. После гражданской войны работал в новосибирских партийных органах, вплоть до избрания первым секретарем Шантарского райкома партии. И очень удивился, когда Полипова оставили в Шантаре на должности предрика. Полипов был, кажется, обижен. И Кружилин если не сочувствовал Полипову, то по крайней мере понимал его состояние. И было ему как-то неловко перед Полиповым, словно по собственной прихоти взял да сместил его с поста первого секретаря, освободив для себя место. Однажды Кружилин хотел даже откровенно поговорить с ним об этом, но Полипов резко сказал, как отрезал:
– Не надо. Я понимаю, что ты ни при чем. Не маленький.
Вторично Кружилин удивился, когда стал знакомиться с хозяйствами бывшего своего района: колхозы, что называется, нищенствовали. Неделимые фонды давно не пополнялись, коровники, телятники, конюшни повсюду разваливались, на трудодни людям выдавали мало…
За последние два-три года сельское хозяйство страны круто пошло в гору, трудодень становился все обильнее. И веселее становились люди, разговорчивее, открытее. Зазвенел громче по деревням смех, чаще заплескалось веселье. В магазинах не стало хватать ситца, велосипедов, а главное – патефонов. Здесь, в Шантаре, все было наоборот. Колхозники встречали его если не хмуро, то молча, настороженно, в разговоры почти не вступали. В магазинах было достаточно и велосипедов, и патефонов.
«Вот тебе и передовой район!» – все более мрачнел Кружилин.
Однажды он заночевал в Михайловке, поделился этими мыслями с Назаровым. Председатель колхоза слушал, что-то мычал, но было непонятно, соглашается он с Кружилиным или нет.
– Да что ты, Панкрат, мычишь, как телок? – резко спросил Кружилин. – Может, я чего-то недопонимаю или вовсе не прав, ты прямо и скажи.
– Ишь ты, прямо… Прямо дикие утки вон летают. Так это птица глупая.
– Постой, Панкрат… Да ты никак хитрить научился?
Назаров неуклюже полез из-за стола, чуть не опрокинув стакан с недопитым чаем. Раскачивая руками, прошел через всю комнату, снял со стены полушубок, натянул его.
– А заяц вон тоже, может, глупый, – проговорил он, отыскивая шапку. – А следы петляет. Жизнь, стало быть, учит его. Потому что на земле живет, а не в пустом небе летает…
Кружилин наблюдал за ним, прищурив от изумления глаза.
– Изменился ты, Панкрат, за это время…
– Дык двадцать четвертый год советской власти идет. Пора и меняться.
Голос старого председателя был глух, печален, слышалась в нем откровенная горечь.
– Так… – промолвил Кружилин и тоже поднялся из-за стола. – Не потому ли у тебя и колхоз напротив других покрепче, что петлять научился?
– Нет, никудышный колхозишко… Люди живут, может, посправнее, это так… Ежели по твоим приметам судить, по патефонам, то… у нас их ничего, покупают.
Последние слова он прибавил с чуть заметной усмешкой, повернулся навстречу Кружилину, и они стали грудь в грудь, смотря в глаза друг другу.
– Зачем ты так со мной, Панкрат?
– А я откуда знаю – прежний ты али нет? Может, надломила тебя жизнь и ты на Полипова стал похожий?
Потом в глазах Назарова что-то дрогнуло, он опустился на голбчик, стал глядеть куда-то в угол.
– Пуганая ворона, знаешь, куста боится. Прощай меня, Матвеич.
– Мне ведь работать с этим Полиповым. Что это за человек? – прямо спросил Кружилин.
Назаров еще помолчал, вздохнул.
– А дьявол ли в нем разберется. Но, по моему разумению, вредный, однако, для жизни человек.
– Чем же?
– Чем, чем?! Я откудова знаю чем! – вспыхнул было Назаров, но тут же, будто устыдясь, продолжал тише: – Ты гляди – в округе живут колхозы ничего вроде. А в нашем районе будто мор страшный прошел. Как Полипов стал секретарем райкома, так и начался этот мор.
– Значит, ты считаешь, все дело в Полипове?
– Рыба с головы гниет…
– Ну а все же, вы-то чего тут? Ты вот, другие председатели?
– А чего мы? Нас приучили, как солдат, к командам. Сегодня просо сей, завтра – ячмень. Ваш райкомовский конюх дед Евсей, бывало, привезет бумагу – немедля начать сеять, – а на дворе дождь со снегом, а то и буран хлещет.
– И что же вы?
Назаров пожал плечами:
– Бывало, что и сеяли, в стылую землю семена зарывали. Зато район всегда первым по области посевную заканчивал. А хлебозаготовки? Выполним весь план – Полипов добавочный спускает. Излишки, дескать, есть, сдавайте Родине излишки. Ну, по хлебосдаче мы тоже всегда первыми. Передовой район! А хозяйство что? Оно хиреет. На трудодни фига остается. Ну, терпишь-терпишь, да иногда и… сотню-другую пудиков пшенички скроешь. На душе муторно, будто украл хлеб-то… Или рассвирепеешь – да бумагу ему, рапорт: все честь по чести, сев закончили. А кой хрен закончили, когда пашни еще каша кашей, ноги по колено вязнут. Да… А потом ночами сердце все исщемит, все ворочаешься. Все слушаешь, не стучат ли дрожки… Якова Алейникова.
– Во-он как!
– А ты думал – как?
«Да, Полипов, Полипов…» Кружилин эти полгода все присматривался к нему. Вроде бы человек как человек. Ведет, правда, себя замкнуто, но обязанности новые выполняет если не хорошо, то добросовестно.
Кружилин жил в том же одноэтажном бревенчатом доме, что и до отъезда в Ойротию. Только сейчас дом был обнесен высоким глухим забором, выкрашенным в зеленый цвет.
– Зачем ты забором отгородился? – спросил Кружилин у жившего в этом доме Полипова в первый же день приезда. У крыльца стояла полуторка, дед Евсей, райкомовская сторожиха и сам Полипов бегали по перемерзшим ступенькам, носили из дома и бросали в кузов матрацы, стулья, связки книг.
– Это не я. Это Алейников приказал огородить, – бросая в кузов валики от дивана, сказал Полипов. – А зачем – его уж дело. Ему виднее.
Стоял морозный день, нетронутый, немятый снег больно искрился. Полипов был в одном свитере, в шапке, от него шел пар.
Грузился он торопливо, как-то демонстративно-показательно.
– Зря ты это, Петр Петрович, – сказал Кружилин.
– Чего зря?
– Переезд затеял. Мы с женой поселимся в доме, где жил бывший предрика. Или еще где. Сын у меня в армии служит, много ли места нам с женой надо?
Полипов вытер ладонью широкий вспотевший лоб, попробовал улыбнуться.
– Нет уж… Закон порядка требует. Я в этом деле педант, хотя это, может быть, и смешно…
Машина уехала, а дом стоял пустой, неприглядный, будто разграбленный. Кружилин закрыл ворота, вошел в дом, походил по пустым комнатам. На пыльных полах валялись бумажки, окурки. «Забор вокруг дома надо будет сломать», – подумал он.
– Устраиваешься? – услышал голос Алейникова.
Яков в добротном кожаном пальто с меховым воротником, но в потертых собачьих унтах стоял у дверей и улыбался.
– Слушай, зачем ты дом-то обгородил глухой стеной? – спросил Поликарп Матвеевич.
– Я? Это Полипов приказал обгородить. Ну, устраивайся, устраивайся. – Он оглядел зачем-то запоры на дверях. – Впрочем, ремонтик сперва надо бы сделать. Ты маленько еще потерпи в гостинице. – И он подошел к телефону, крутнул два раза ручку. – Катенька, райкомхоз мне… Ага, Малыгина. Малыгин?… Да, я… Слушай, квартиру секретаря райкома надо привести в порядок. Срок – два дня.
Тот, кого Алейников назвал Малыгиным, видимо, что-то говорил.
Яков слушал, покусывая нижнюю тонкую губу.
– Ты мне не заливай, я говорю – два дня, и точка. Все. – Он повесил трубку. – Черти, вечно у них отговорки. Ты извини, что я, так сказать, вмешался. А то они тебе за две недели не отремонтируют.
– Прикажи уж заодно этот чертов забор снести.
– Забор? Зимой-то?! – улыбнулся опять Алейников.
– Да, верно… Ладно, подождем до весны.
Алейников согнал улыбку.
– От какой ты… Поставили – пусть стоит. Не по собственной прихоти, должно быть, его поставили. Не понимаешь, что ли?
«Эх, Яша, Яша! – вздохнул Кружилин, когда Алейников ушел. – Боюсь, опять мы с тобой не сработаемся».
Поликарп Матвеевич еще, наверное, с полчаса бесцельно бродил по пустому дому, долго стоял в маленькой комнатушке, в которой когда-то жил сын Василий. Вот здесь, у стены, стояла его кровать, здесь – столик, где он готовил уроки. Тут была полка, уставленная игрушечными танками. Васька, кажется, с первого класса забредил танками, лепил их из хлебного мякиша, вырезал из картона, выпиливал из досок. А потом забросил танки, увлекся авиацией, день и ночь строгал реечки, планочки, мастерил из них крылья и фюзеляжи планеров, самолетов, обклеивал папиросной бумагой. Это было уже там, в Ойротии… Но к десятому классу остыл и к авиации; к чему лежала у него душа – он и сам уже не знал. Он так и сказал:
– Не знаю, батя, на что свою жизнь истратить. Хочется на что-то необычное. А вот неясно пока, в голове какой-то розовый туман качается. Знаешь, скоро мне на действительную. Отслужу, а там видно будет. За время службы, может, продует мозги.
С тем и ушел в Красную армию.
А здесь, в этой комнате, был кабинет. Поликарп Матвеевич вспомнил, что любил работать здесь по утрам. Окнами дом выходил на площадь, посреди которой стоял простенький памятник павшим борцам за советскую власть – темно-красный, как застывшая кровь, деревянный обелиск. Здесь, в этой братской могиле были похоронены многие бойцы его партизанского отряда. Зимой, каждое утро, когда вставало солнце, если окно в комнате не было замерзшим, тень от пятиконечной звезды, которой был увенчан памятник, падала прямо на его рабочий стол. Вокруг памятника был разбит небольшой скверик. Летом, от зари до зари, он тонул в разноголосом птичьем гомоне.
Летом солнце вставало из-за горизонта много восточнее, поэтому тень от звезды на стол не падала. Но зато, стоило лишь распахнуть окно, этот птичий перезвон сразу, обвалом, врывался в комнату вместе со свежим воздухом, заполнял ее всю, до отказа. Пели птицы, под утренним ветерком чуть волновались тополя и клены, каждым листочком отражали яростное солнце, текли по небу над памятником легкие и свежие утренние облака, и казалось, что это вовсе не облака плывут над землей, а сама земля несется куда-то в неведомые дали, оставляя облака позади. Теперь за окном торчали унылые, почерневшие от летних дождей доски забора, поверх досок – верхушки деревьев, а поверх деревьев, правда, виднелась выпиленная из куска толстой плахи звезда. Она была в инее, под зимними лучами солнца горела, сверкала. Но сам памятник был отгорожен глухой стеной.
«Ну нет! – чувствуя тупую боль в сердце, взорвался Кружилин. – Летом к чертовой матери этот забор!» И, круто повернувшись, вышел из дома.
Во двор въезжала подвода, груженная облитыми известью бочками, ящиками, банками с краской, за санями валила толпа людей в грязных ватниках. Впереди, как предводитель, шел представительный мужчина лет тридцати в желтом полушубке. Он подбежал к Кружилину, выдернул руку из меховой рукавицы, сунув ее, как копье, Поликарпу Матвеевичу:
– Вы – Кружилин, новый секретарь райкома? Будем знакомы. Я – Малыгин. – И обернулся к толпе: – Давай, давай, ребята, время в обрез, чтоб как из пушки у меня послезавтра к вечеру. – И опять крутнулся к Кружилину: – Вы, Поликарп Матвеевич, будьте спокойны, сделаем, успеем. У меня народ – жохи!
– Что значит «жохи»? Пройдохи, что ли?
– Не-ет, в смысле золотые ребята, умельцы. Это у меня словечко такое. Давай выгружай, завтра с утра еще поднаряжу к вам людей, со всех объектов поснимаю.
Малыгин суетливо бегал вокруг саней, распоряжался. Кружилин с неприязнью поглядел на него: «Сам-то ты жох, однако, первостатейный».
– Вы, смотрю, исполнительный, – сказал он вслух.
– А как же?! – В глазах у Малыгина плеснулось удивление. – Служба. Какие колера вам поставить?
– Ни с каких объектов людей снимать не надо.
– П-понятно… – растерянно уронил Малыгин. – Только непонятно насчет сроков.
– К концу следующей недели приведете дом в порядок – и хорошо. А цвет полов и стен мне безразличен. – И пошел со двора.
– П-понятно… – Кружилин чувствовал, как Малыгин недоуменно смотрит в спину, соображая, кому же подчиняться – ему или Алейникову.
Подчинился заведующий райкомхозом все-таки Алейникову.
…Все это Поликарп Матвеевич вспомнил, пока шел по затравевшей дорожке от калитки к крыльцу. Все быстро промелькнуло в памяти, и осталась, зацепившись за что-то, одна-единственная мысль: «Забор… Надо все же снести этот чертов забор! Сейчас же позвоню Малыгину – пусть завтра начинает ломать…»
– Скорее, скорее… – это выскочила на крыльцо жена.
– Что такое, Тося?
– Из обкома звонят. Иван Михайлович…
Кружилин вбежал в комнату, подошел к телефону.
– Иван Михайлович?… Здравствуй. Наконец-то… Я к вам весь день сегодня звонил. Кто из вас на актив к нам приедет?
– Боюсь, что никто… – Голос Ивана Михайловича был далек и глух.
– Что такое? Случилось что-нибудь? Иван Михайлович, ты слышишь?
– Я слышу, кричать не надо. Члены бюро у тебя на месте?
– Сегодня отдыхают. Завтра по колхозам с утра разъезжаемся – кое-где у нас с сенокосом заминки. Да что случилось?
– В четыре часа дня ожидается важное правительственное сообщение… Слушайте.
– Что? Умер кто-нибудь? Или… или… – И вдруг Кружилин почувствовал, как затяжелела в руке телефонная трубка, скользнула в запотевшей ладони. Чтобы не выронить ее, он так сжал кулак, что пальцы на сгибах побелели. Теряя голос, прохрипел: – Неужели, Иван Михайлович…
– Ничего не могу сейчас сказать. Слушайте радио. Если надо будет, звоните. Весь обком сейчас уже на месте… Советую тебе к четырем собрать всех членов бюро. Вместе послушайте. Ну а там – по обстановке. До свидания…
В трубке щелкнуло, но Кружилин не вешал ее, не отнимал даже от уха, так и стоял, окаменев, глядел через окно на верхушки деревьев, видневшиеся поверх забора, на звезду обелиска, плавающую поверх деревьев. Неожиданно в трубке кто-то всхлипнул:
– Поликарп Матвеич… Это война, война…
– Что? Кто это? – вздрогнул Кружилин.
– Это я, Катя, телефонистка…
– Ты откуда знаешь?
– Мне звонила подруга… телефонистка из Москвы. Они там, на телефонной станции, с утра знают. Война это… Как же это? – И опять донеслись рыдания.
– Ну, спокойно. Ты слышишь, спокойно, я говорю! – повысил голос Кружилин. – И чтобы у меня молчок! Поняла?
– Я поняла, я поняла, Поликарп Матвеевич, – жалобно сказала телефонистка.
– Ну и молодчина. А теперь, Катя, совсем успокойся. И обзвони всех членов бюро райкома. Всех разыщи и скажи, что я вызываю их к четырем часам в райком на срочное совещание.
– Ладно, – сказала телефонистка почти уже окрепшим голосом.
Подошла тихонько, медленно жена, полное, уже чуточку дряблое лицо было встревожено.
– Что? Что такое? – шепотом спросила она.
– Не знаю, Тося… – продолжая глядеть в окно, сказал Кружилин. – Кажется… война.
Глаза у Анастасии Леонтьевны стали раскрываться все шире и шире. Она тихо охнула, качнулась, метнув руку к сердцу, привалилась к мужу.
– А Васенька-то?! Как же теперь наш Васенька?!
– Ну-ну! – поглаживая теплое плечо жены, проговорил Кружилин, чувствуя, как холодком пощипывает сердце. Пощипало и отпустило…
* * *
Точно так же сердце начало пощипывать полтора часа спустя, когда из черного круглого репродуктора, установленного в его кабинете в углу на тумбочке, раздался глуховатый, будто чуть надломленный голос Молотова:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление…»
Но едва Молотов сказал несколько слов, холодок из сердца вдруг исчез, тело стало легким, невесомым, а в голове светло и ясно, будто он ночью испытывал какие-то кошмары, а проснувшись, понял, что это был всего-навсего сон…
А Молотов между тем говорил:
«…Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас…»
Поликарп Матвеевич слушал неторопливые, спокойные слова, падавшие из репродуктора в тишину, оглядывал собравшихся в кабинете людей и думал: «Война… Сколько же она продлится? Неделю? Месяц? От силы – месяц. Хасан, Халхин-Гол, финская даром не прошли, чему-то научили нас. Теперь ясно, что нас прощупывали, испытывали. Это мне ясно стало только сейчас, а Сталину, правительству ясно было давно. И конечно, не сидели сложа руки, подготовили Красную армию, страну… Да, от силы – месяц».
Голова у Поликарпа Матвеевича стала чуть кружиться. Он почувствовал, как пьянит его знакомый диковатый хмель молодости, и улыбнулся. Впереди была работа, более трудная и напряженная, чем до сих пор.
Когда голос Молотова умолк, из репродуктора полились военные марши. Кружилин оглядел членов бюро. Все были хмуро-сосредоточенны, избегали смотреть друг на друга, будто каждый был в чем-то виновен перед другими. Полипов грузно сидел в мягком кресле сбоку секретарского стола, то барабанил пальцами по обтянутому кожей подлокотнику, то вытирал беспрерывно потевший лоб. Напротив него сидел майор Григорьев, военком, человек лет пятидесяти, давно седой, воевавший на Хасане и в финских болотах. Он, видно, до ломоты сжимал зубы, потому что на его чисто выбритых щеках вспухли крепкие желваки. Он смотрел куда-то вниз, между ног; солнечные лучи, падавшие через окно, играли в его седине, на его рубиновых шпалах.
Алейников не был членом бюро. Кружилин, давая согласие вернуться в Шантару, специально оговорил в обкоме партии, чтобы не включать его в состав нового бюро райкома. Но он тоже был в кабинете – Поликарп Матвеевич сам позвонил ему и попросил зайти. Сейчас он, как утром, стоял у окна и молча смотрел на дорогу.
Не вставая, Кружилин протянул руку к выключателю. Тишина тотчас оглушила.
– Ну что же, товарищи… – проговорил Поликарп Матвеевич раздумчиво и умолк. И вдруг усмехнулся. – Сегодня я с нашим конюхом-старичком беседовал. Об дождике сегодняшнем говорили, об урожае. «Дождик-то хороший прошел, – сказал старик, – хлеба` волной поднимутся. Да корявый Емеля и есть не умеет». – «Как, спрашиваю, так?» – «А так, отвечает, сам тот Емеля корявый, а рот дырявый. Кашу ему в рот кладут, а она вываливается».
Полипов вскинул тяжелый взгляд, повел толстыми плечами. И другие поглядели на секретаря райкома с недоумением.
Кружилин встал и, не замечая, что голос его звучит чуть торжественно, сказал:
– Сегодняшний отдых придется нам прервать. Давайте проведем бюро райкома… первое военное бюро. Сами понимаете, что с этого часа, с этой минуты каждого из нас ждут новые неотложные дела и заботы, вызванные новой обстановкой. И главная наша забота сейчас – урожай. Давайте еще раз сейчас уточним наши планы уборочной. Мы должны провести страду и четко и быстро, это само собой. А главное – убрать все до зерна. Потери хлеба при уборке, кажется, очень больной вопрос в нашем районе… Садитесь, товарищи, поближе. И ты, Яков Николаевич, останься…
Кружилин умолк. Он стоял и слушал, как люди гремят стульями, смотрел, как они рассаживаются за длинным столом, сквозь гул и скрип стульев вдруг явственно прорвался, ударил в уши тревожно-режущий вскрик жены: «А Васенька-то? Как же теперь наш Васенька?!»
* * *
На усадьбе шантарской МТС по случаю воскресного дня было тихо и безлюдно.
Тракторы Аникея Елизарова и Кирьяна Инютина стояли рядом. Моторы у обеих машин разворочены, Инютин и Елизаров грязными по локоть руками копались в их внутренностях. Инютин работал хмуро и молчаливо, Аникей Елизаров, крупноносый, лет около тридцати, с ярко-красными, будто чахоточными, щеками, то и дело негромко, но зло матерился.
– Куда эту прокладку ставишь? Не видишь – совсем сгорела, – часто одергивал Елизарова Федор Савельев. – А этот болт выброси, вся резьба сносилась. Чего вылупил бараньи глаза? Ступай новый нарежь… А ты, Кирьян, ровно все мозги пропил. Кто же так учил тебя болты шплинтовать? На первом же заезде шплинт вылетит… Ну, работнички, в дышло вам…
Федор отталкивал то одного, то другого, показывал, как надо делать. Руки его тоже по локоть были в мазуте.
Когда ударил ливень, все убежали в мастерскую. Там Федор растянулся на верстаке, Елизаров сел на банку из-под солидола и стал курить, Инютин стоял у грязного окна и сквозь замасленные стекла глядел на дождь.
– Ты что, Инютин, кислый, как недельное молоко? – спросил Елизаров. – Или переживаешь, что с утра трезвый? Когда ты, Кирьяша, пить-то бросишь?
– Ты лучше сам бы перестал в бутылку заглядывать, – не оборачиваясь, проговорил Кирьян.
– Это оно так, мне надо бросать, мне вредно, – согласился Елизаров. – Да главное не водка. Эта бензиновая вонь здоровье мое съедает. Сам себя гроблю на этой работе. Уходить надо. – Елизаров послушал, как шумит дождь за стеной, поморгал красивыми глазами, в длинных, как у девушки, ресницах. – И уйду вскорости. Что меня тут держит? Конечно, тут заработки. Тебе, дядя Федя, понятное дело, такую семью кормить надо… А мне? Семьи у меня, окромя жены Нинухи, никакой нету… И еще для тебя слава, гляжу, не лишняя. А мне…
– Не болтай! – резко проговорил Савельев.
– Не нравится? – спросил Елизаров. – А за-ради чего ты прошлой весной на собрании пообещался на поводок нас с Кирьяном взять, стахановцев полей из нас сделать? И вот уже полтора года с нами бьешься?
– И сделаю! Я вас на Доску почета через год-другой вывешу.
– Ничего ты из нас не сделаешь. И ты это сам распрекрасно знаешь. А вот директор МТС поверил. В прошлом годе сразу же новый комбайн тебе дал. Поля для уборки отвел самые ровные, самые урожайные. Деньжонок-то да пшенички ты больше всех в МТС огреб. А нынче опять на самые тучные поля нацелился в «Красном колосе». У Назарова нынче самый урожай, говорят… Вглубь все видим, не слепые…
Федор свесил с верстака ноги. Сросшиеся брови его дрогнули, изломились, но тут же выпрямились.
– Ишь ты, наблюдательный какой! То-то гляжу, ко всем приглядываешься, принюхиваешься.
Елизаров испуганно уставился на Федора красивыми глазами.
– Всяк свою выгоду про себя знает, – усмехнулся Федор. – А то здоровье… Тебя бревном не перешибешь.
– Городишь что-то, – крутнул носом Елизаров, замолчал.
Когда кончился дождь, все трое до четырех часов работали молча, не переговариваясь.
– Шабаш, – сказал наконец Федор и стал отмывать руки в ведерке с бензином.
По территории МТС мелькнула девчонка в платочке, что-то крикнула на ходу, взмахнув обеими руками, умчалась к конторе.
Там маячили уже какие-то люди.
– Что за переполох? – проговорил Федор, обтирая руки грязной ветошью. – А ну-ка, узнаем.
Когда подошли к конторе, возле раскрытого окна директорского кабинета толпилось человек двенадцать. В кабинете тоже мелькали люди, на подоконник был выставлен радиорепродуктор. Чей-то неторопливый, глуховатый голос говорил, что германские войска во многих местах перешли сегодня утром чью-то границу, бомбили какие-то города. Какие – Савельев не мог понять, потому что в кабинете навзрыд заголосила женщина, заглушая голос из репродуктора.
– Что тут? Кто это говорит? – спросил Савельев.
– Тише! Молотов говорит.
– А что произошло?
– Что? Война началась!
Женщину в кабинете успокоили или увели куда-то. В установившейся тишине четко печатались слова:
«Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины…»
Федор слушал нахмурившись, дергал толстыми, заскорузлыми, пахнущими бензином пальцами черные усы. Елизаров беспрерывно крутил лохматой головой на длинной шее, растерянно хлопал ресницами. Он, единственный из всех, не стоял на месте, подбегал к окну то с одного, то с другого краю. А Кирьян Инютин сел поодаль от всех на землю, на обмытую ливнем траву, опустил голову и застыл недвижимый. Так он и сидел, пока в чистом, давно сухом и горячем воздухе не полились военные марши.
* * *
Иван и не заметил, как ушел Панкрат, – все стоял, прижимая горячую голову сына к груди. Володька был давно не стрижен, его густые волосы, жесткие и пыльные, пахли ветром, полынной степью. В груди у Ивана что-то сдавило, он стоял и стоял, ожидая, когда боль стихнет. Наконец оторвался от сына, полез в котомку, достал банку консервов.
– Что это? – спросил Володька.
– Гостинец тебе.
Мальчишка повертел банку, не зная, что с ней делать.
– Это консервы. Не ел, что ли, никогда?
– Не, – тряхнул головой Володька.
Иван вскрыл банку, поставил на стол. Мальчишка попробовал сперва с опаской, потом начал уминать за обе щеки. Иван сидел напротив, смотрел на сына, в груди опять больно застонало, он отвернулся к окну. Возле дома в бурьянах бродил белолобый теленок.
– Это наш! – живо сказал Володька. – Дядя Панкрат нам подарил.
– Как подарил?
– Ну как? Отелилась у него корова, и он подарил. «Вырастите, говорит, корова будет». – И, помолчав, спросил вдруг: – А ты больше не враг народа?
Медленно-медленно Иван повернул голову к сыну:
– Это кто же тебе сказал… что я враг народа?
– Да кто? Пацаны все дразнили меня.
– Вон как, – тихо произнес Иван.
– Ага… Когда я маме сказал, что ребятишки дразнятся, она сказала: «А ты не верь…» А сама плакала ночами, я слышал… И дядя Панкрат тоже говорил, чтоб я не верил…
Иван опять долго глядел в окно.
– Они тебе правильно сказали – и мамка, и дядя Панкрат.
– Да я и сам знаю, что никакой ты не враг, – негромко проговорил Володька. – Какой же ты враг? Только…
– Ну, что?
– Непонятно только: почему ты в тюрьме-то сидел?
Иван опять прижал к себе его голову, стал гладить по спутанным волосам.
– А ты думаешь, сынок, мне понятно? Ну, ничего. Подрастешь – сам все поймешь…
– Как же я пойму, если тебе самому непонятно? – помедлив, спросил Володька.
Иван Савельев отошел от сына, присел на скрипнувшую под ним деревянную кровать. И ответил тринадцатилетнему сыну, как взрослому:
– Видишь, в чем тут дело, однако… Жизнюха-то наша, сынок, так закрутилась, что, барахтаясь в ней, и не разберешься, что к чему. А ты подрастешь, и как бы со стороны тебе все ясно и понятно будет.
Володька, наморщив лоб, пытался вникнуть в слова отца, сероватые глаза его стали не по-детски задумчивы.
– Ой! – сорвался он с места, схватил кнут. – Я сижу, а косари хлеб ждут. Даст мне выволочку дядя Панкрат!
Володька убежал, а Иван походил по комнате, разулся и прилег на кровать. Было непривычно вот так лежать одному, в тишине, на мягкой чистой постели. И эта тишина, и высокая деревянная кровать с синими подушками из настоящего пера, большая, недавно выбеленная печь, чистенькое окошко, в которое вламывались потоки солнца, – все казалось нереальным, неправдоподобным. Непонятно было, как он, Иван, очутился в такой обстановке, не верилось, что он сколько угодно может лежать на этой постели, наслаждаться тишиной, чистотой, покоем.
«Ива-ан! Ваня-а!..» – хлестанул вдруг в уши истошный крик жены. Иван, оказывается, задремал. Судорожно вздрогнув, он приподнялся, сел на кровати. «Почудилось, что ли?»
Иван потряс головой, чтобы сбросить наваждение. Но оно продолжалось, потому что дверь в избу распахнулась, влетела Агата, страшная, разлохмаченная.
– Ива-ан! Ванюшка-а! – упала она ему в колени и тяжело забилась.
– Погоди, Агата… Что такое? Чего ты?! – не на шутку испугался Иван.
– Война, Иван! Война-а…
Агата подняла лицо, вместо глаз ее были черные, мутные ямы, по розовевшим недавно щекам, сейчас пепельно-серым, дряблым, вмиг износившимся, текли из черных ям слезы…
* * *
Семен и Вера возвращались в село степью. Был уже поздний вечер, солнце садилось. Сбоку текла Громотуха. Назвеневшись за день, она текла безмолвно, лениво, заходящее солнце окрашивало ее в медно-золотой цвет.
Колька Инютин, Димка и Андрей ушли домой раньше.
Время от времени девушка останавливалась и говорила:
– Сема, еще разок.
Семен целовал ее. Вера оплетала его шею горячими руками, плотно прижималась, точно прилипала, всем телом.
– Ненасытная ты.
– Ага, жадная я, – соглашалась Вера. – Губы болят, а мне все хочется… Ох и любить я тебя буду, Семушка! Все парни завидовать будут.
Возле села, на берегу реки толклись несколько парней и девчонок. Какой-то человек в белой рубашке с засученными по локоть рукавами сидел на плоском камне, тренькал на гитаре.
– Там вроде Манька Огородникова… Погоди, я сейчас… Я ей платье заказывала.
Вера побежала к берегу, о чем-то стала говорить с Огородниковой – круглолицей, полноватой, с непомерно большими грудями, которых, как Семен замечал, она стеснялась сама.
Обождав Веру минуты три, Семен нехотя приблизился к берегу. Человек с гитарой запел надрывно-стонущим голосом:
…Я подрастал, я становился краше,
Любить девчонок стал и начал выпивать.
«Ты будешь вор такой, как твой папаша», —
Твердила мне, роняя слезы, мать…
«Кафтанов! Макар!» – сразу догадался Семен и хотел уйти. Но Макар обернулся, сузил свои прокопченные глаза.
– A-а, племянничек! Ну здравствуй.
Семен промолчал.
– Не хочешь знаться? – скривил губы Макар. – Ну, я не в обиде.
Ветерок играл тонкой шелковой рубашкой Макара, на жилистой руке его поблескивали часы. Хромовые, с квадратными носками сапожки «джимми» были перемазаны глиной. «Вырядился. И сапог не жалеет», – мелькнуло у Семена. Какая-то огненно-рыжая, незнакомая девица подошла к Макару, откровенно и бесстыдно повисла у него на плече, что-то шепнула.
– Отвались, – брезгливо повел плечом Макар.
На руке у рыжей Семен заметил такие же часы, как у Макара. «Ворованные», – подумал он.
– А я, Сема, помню – сперва такой вот ты был, потом такой, такой… – Макар показал, какой был Семен. – А сейчас смотри ты, вырос.
– Верка, пошли, – сказал Семен.
Макар снова тронул гитарные струны:
Семнадцать лет тогда мне, братцы, было…
Но вдруг резко оборвал песню:
– Заходи как-нибудь, Сема. Об жизни поговорим.
– Об какой? – усмехнулся Семен. – Об тюремной? Что-то она меня не интересует.
– О-о! – протянул Кафтанов, черные глаза его сузились. – Мать видела твоя, что я приехал?
– А мне почем знать?
– Ну, ну… Привет ей передай, – с улыбкой промолвил Макар и отвернулся.
К селу Вера и Семен подходили молча. От реки доносилась бесконечная тюремная песня Макара:
Шли дни за днями, за месяцами годы…
Все то сбылось, что предсказала мать…
– Тьфу! – сплюнул в дорожную пыль Семен.
– Конечно, – сказала Вера задумчиво. – А часы у него хорошие. И этой рыжей – заметил? – подарил.
– Позавидовала! – зло сказал Семен и зашагал быстрее.
Солнце уже село; переулки, по которым шли Семен с Верой, были безлюдны. Но это не удивило ни Семена, ни Веру. Вечерами, особенно по воскресеньям, оживленной бывает только главная улица Шантары.
Но когда они вышли на «шоссейку», и там никого не было. Под тополями тихо, пусто, сумрачно. Сперва Семен, раздраженный встречей с Макаром, не обратил внимания на это обстоятельство. Потом остановился.
– Что за черт, – пробормотал он. – Тебе ничего не кажется?
– А что? – Вера тоже очнулась от задумчивости.
– Будто вымерло все.
– Действительно, – девушка пошевелила тонкими бровями. – Хотя вроде где-то голоса.
Они быстро зашагали вдоль улицы. Возле двухэтажного, из красного кирпича, здания военкомата толпились люди. Какой-то старичонка сидел на нижних ступеньках высокого деревянного крыльца с перилами, сосал трубку и говорил:
– Оно конешно, сейчас медикаменты всякие. А што ёд ваш этот, так это – тьфу, понадежней средства есть. Земля вот с порохом – куды вашему ёду.
– Болтаешь ты, папаша, – сказал какой-то парень.
– Что болтаешь, что болтаешь? – вскочил старик, задрал рубашонку, оголив синий бок. – Вот, гля. Дыра была – кулак влезет. Это, значит, году в пятнадцатом было. И шли мы в штыковую, помню. Не успел я пробежать саженей восемь – кы-ык хватанет меня за этот бок. Снарядным осколком, соображаю, полоснуло. Глянул – бок аж дымится. Упал, конешно. Тут сестра милосердия меня на загорбок и потащила с бою… И уж как этим ёдом вашим ни мазали! А рана все гноится. Ну, думаю, насквозь меня прогноят доктора, самому надо лечить. Раздобыл пороху, колупнул в больничном саду горсть земли. Развел это водицей…
– Кипяченой? – полюбопытствовал тот же парень.
– Балбес! – рассердился старик. – Надсмешник, право слово. А бок – вот он, гляди, гляди, – старик опять вскочил, задрал рубаху. – Замазал, бинтом потуже затянул, и дён через семь только синий рубец остался. А то кипяченой… – И старик сел на прежнее место, сердито нахохлился.
– Щипало хоть? – сдерживая смех, спросил пожилой мужчина.
Но старик, видно, не заметил иронии, ответил серьезно:
– Не без того, конешно… – И повернулся к парню: – А ты, балабол, надсмешки-то строй, а не забывай рецепту: горсть земли, полгорсти пороху на полкружки воды. На войну-то тебя, может, завтра же заберут…
– Слушайте… Об чем это вы? Какая война? – спросил Семен.
– Как какая? Ты откуда, друг, свалился?
Вскрикнула вдруг Вера, вцепилась Семену в плечо острыми пальцами, порывисто задышала.
– Да постой ты, – недовольно сказал Семен, попытался даже сбросить ее руки. – Объясните…
Но из сумрака выскочил Колька Инютин, потащил Семена от крыльца, сбивчиво и возбужденно говоря:
– С немцами война-то, Сем… Пока мы рыбалили, немцы войну открыли. Я уж дома был. Матка плачет, отец с угла в угол ходит молчком. Твой батя – я видел через плетень – тоже хмурый, сердитый… Это что же, а!
– Сема, Сема! – Вера опять повисла на плече. – Тебя возьмут же теперь…
– Так… – сказал Семен. – Погоди, Верка. Не реви раньше времени.
– Действительно… Дура она у нас, – шмыгнул Колька носом.
– Ладно, пошли домой…
Когда Семен зашел в дом, отец, как утром, сидел у открытого настежь окна, курил, пуская дым на улицу, в темноту. Мать, молчаливая и тихая, стараясь не греметь посудой, собирала ужинать. Димка и Андрейка забились в угол, испуганно сверкали оттуда глазенками. Ведерко с уловом, забытое, ненужное сейчас, стояло на скамейке возле двери.
– В самом деле, что ли… война? – спросил Семен.
– Давайте ужинать, – вместо ответа проговорил отец и выбросил окурок через окно.
За едой никто не проронил ни слова. Поужинав, Семен вышел во двор, поглядел на ярко горевшие в чистом небе звезды. «Как же она там идет, война, ночью-то?» – пришла вдруг глупая мысль. Семен знал, что эта мысль глупая, но никаких других почему-то не приходило.
Качнулся, затрещав, плетень, Семен поморщился: «Верка». Ему сейчас не хотелось ее видеть и вообще никого не хотелось видеть. Но это был опять Николай Инютин.
– Слушай, Сем, смогу я военкоматчиков обмануть, а? – спросил, подойдя, Колька.
– Каких еще военкоматчиков?
– А что? Я рослый. Скажу, с двадцать третьего года.
– Пошел бы ты! – зло вымолвил Семен, сел на скамеечку, врытую у стены, стал смотреть в темноту.
– А метрики, скажу, потерял. Очень просто… Три года всего надбавлю – как они проверят? А, Сем?
Семен молчал, думал о чем-то. Колькиного голоса он будто не слышал. Затем встал и ушел в дом.
* * *
Когда стемнело, Аникей Елизаров, зыркая по сторонам, подошел к длинному бревенчатому зданию, обсаженному кленами, вильнул к крыльцу, над которым тускло горела лампочка. За дверью был длинный узкий проход, в конце которого, за барьерчиком, сидел в фуражке с красным околышем дежурный.
– Меня тут начальство вызывало, – сказал он, – Елизаров я.
– Яков Николаевич, что ли?
– Ага…
От дежурного вправо и влево тянулся широкий, как улица, коридорище с обитыми черной клеенкой дверями. Только одна дверь, в самом конце коридора, была обита красной кожей. Елизаров подошел к ней, дернул на себя.
Алейников сидел за большим столом, что-то писал. Елизаров тихонько кашлянул в пахнущий керосином кулак.
– Ну, что у тебя? – мрачно взглянул на него Алейников.
– Я позвонил, чтоб вы приняли меня… по личному делу.
На стене висели тяжелые, старинные, черного дерева часы с медными узорчатыми стрелками. Круглый язык маятника лениво качался за толстым, тоже разрисованным узорами, стеклом. Алейников долго глядел на этот маятник, точно ждал, когда он остановится.
– Как в МТС известие о войне встретили? – спросил он.
– Как? Так как-то – не поймешь пока… Оглушило всех…
– Что люди говорят?
– Да пока ничего такого… Я бы услыхал, я прислушивался. Никто ничего такого…
Алейников поморщился:
– Так что у тебя за дело? Я занят.
– Я, Яков Николаич, недолго… С просьбой. Поскольку война, а каждый человек должен, где полезнее Родине… На войну меня, должно, все равно не возьмут, чахотка, должно, у меня. А в эмтээсе, на тракторе, тяжело…
– Ну? – Алейников давно чувствовал к этому человеку отвращение.
– Вот я и надумал в милицию податься. Силенка мало-мало есть еще. Ну и, конечно, что там вас интересует…
– Так что ж ты ко мне? – раздраженно проговорил Алейников. – К начальнику милиции и ступай. Если есть нужда у него, может, и примет тебя.
– Да вы бы замолвили словечко перед ним…
Алейников вдруг почувствовал какое-то удушье, спазмы в горле. Чтобы избавиться от этого человека, поспешно сказал:
– Хорошо, поговорю… А теперь – ступай. Иди, иди…
* * *
Манька Огородникова Макара знала еще девчонкой. Появляясь в Шантаре, он нередко заходил к ним ночами, они с отцом всегда пили водку и о чем-то тихо разговаривали.
– Зачем, тять, ты пускаешь его? Да еще водку с ним пьешь? – спросила как-то Манька. – Ведь он же, говорят, вор.
– Цыть! – рассердился отец. И без того всегда суровый, глянул так, что у нее по спине рассыпались холодные мурашки. Однако тут же смягчился: – Он, правда, вор, но душа-то у него человечья. Я вот и толковал ему, чтоб он бросил это свое ремесло да за ум взялся. Мало ли добрых дел на земле… Я вот сапоги шью. Уменье не шибко мудреное, а людям радостно.
– А с чего он воровать-то взялся?
– Кто его знает, Манюша… Зла и подлости на земле много еще, несправедливостей всяких. Вот за что-то Макар и озлился, видно, на людей… Тебе этого сейчас, пожалуй, не уразуметь. В молодости все человеку хорошим кажется. А подрастешь – поймешь…
Отец был прав, кажется, в одном – несправедливостей на земле действительно много. Она убедилась в этом, когда арестовали отца. Манька не испугалась даже – она была этим событием опустошена, раздавлена. Почему, за что?
Люди этого тоже не могли объяснить ей. Они как-то странно повели себя, люди. Одни глядели на нее с жалостью, другие с удивлением, любопытством, третьи со страхом и неприязнью. И все откровенно сторонились. За какую-то неделю Манька оказалась будто в пустоте.
«Прощай, Маньша… – сказал ей отец в ту памятную ночь. – Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть…»
Изба, хотя и крохотная, действительно была, и Манька была взрослой – через месяц ей исполнялось семнадцать, и той весной, буквально за день до ареста отца, она окончила десятилетку. Но какое там замуж, когда даже Ленька Гвоздев, одноклассник, на выпускном вечере, когда под гром аплодисментов выдавали свидетельства об окончании школы, демонстративно отвернулся от нее со словами:
– Долго же твой папаша, гад, таился. И от тебя контрой пахнет. Замараться боюсь.
Леонид Гвоздев, чернобровый, с пухлыми губами, был старше Маньки года на четыре. Учился он плохо, был самым известным в школе второгодником. Но это его нисколько не угнетало, он всегда был весел и доволен собой, а если, случалось, учителя стыдили его за леность, за халатное отношение к учебе, говорил, поигрывая радужными, как у лошади, глазами:
– Дмитрий Иванович Менделеев тоже в школе плохо учился. А периодическую систему элементов составил. И я что-нибудь составлю.
Гвоздев пользовался большим вниманием у девчонок, но в ту весну выбрал почему-то ее, Маньку. В отношениях с девчонками он, видно, имел большой опыт и в первый же раз, провожая ее вечером из школы, прижал к стене какого-то дома, больно поцеловал и бесстыдно полез под кофточку.
– Ленька! Лень… Я закричу! – задохнулась Манька.
– Дура, – сказал ей Ленька, отпустил. – Да я же хотел убедиться, честная ли ты.
– На других убеждайся.
– На других я жениться не собираюсь.
– Врешь ты, врешь!
– Нет, я не вру. Ну, пойдем, ладно.
Потом он провожал ее часто. Вместе они готовились к экзаменам. Манька уже не вырывалась, когда он обнимал ее, не отбрасывала его руку, когда он расстегивал кофточку. Она только вспыхивала до корней волос, прятала пылающее лицо и шептала:
– Леня, Ленечка… Не надо. Стыд-то какой!
– Беда с вами, с честными… – вздыхал он. – Ладно, окончим школу – поженимся. Нынче-то уж закончу. Только… в армию меня заберут. На действительную. И так отсрочки давали, давали… Ты как, честно меня будешь ждать?
– Ленечка! Да я… да я сама к себе не прикоснусь. А не то что…
И вот на выпускном вечере словно пол провалился под Манькой, когда Ленька отвернулся от нее. Она едва расслышала, как со сцены, где стоял стол, накрытый красной скатертью, назвали ее фамилию. Ей не хлопали, как другим, директор школы молча сунул ей в руки бумажку. Не помня себя она выскочила из школы, кинулась вдоль темной улицы. Из того вечера в памяти остались лишь мохнатые, черные тени деревьев, которые маячили по сторонам, стараясь загородить ей дорогу ветвями. Да еще звезды, которые болтались над головой, перекатывались, как горошины в корыте. Прибежав домой, закрылась на все замки, бросилась грудью на кровать и так пролежала всю ночь. Утром она сказала себе: «Нет, отец не враг. Тут ошибка какая-то. Ленька подлец, мелкий человечишка оказался. Ну и пусть…»
Целый год она, пришибленная, жила тихо и скрытно, как мышь, проедая отцовскую одежду, а затем поступила на работу в пошивочную мастерскую, научилась кроить и шить женские платья. Она скопила денег и купила себе старенькую машину «зингер». Но частных заказов никогда не брала, остерегалась, шила только на себя да иногда, по старой дружбе, соглашалась сшить платье-другое для Веры Инютиной. И, в общем, жизнью своей была теперь довольна.
Сегодня Манька до обеда возилась по домашности, иногда садилась у открытого окна, вспоминала равнодушно о вчерашней встрече с Гвоздевым.
– Ну, замуж не вышла еще? – сверкнул он на нее радужным глазом. Он недавно вернулся с действительной, стал, кажется, еще стройнее и красивее, работал шофером на нефтебазе.
– Тебя все дожидаюсь, – сказала она и прошла мимо.
Маньке захотелось искупаться. Она замкнула избу, пошла на Громотуху.
Проходя мимо дома Кашкарихи, увидела Макара. Он, в тщательно отглаженных брюках навыпуск, в ярко начищенных хромовых сапогах, в белой рубашке, с гитарой в руках, выходил из калитки.
– Ой! – воскликнула Манька и попятилась.
Макар колупнул ее черным глазом, присвистнул:
– Фью-ю! Выросла ты… Да не пяться, я смирный! Ну а ты меня помнишь?
– Вы Макар Кафтанов.
– Верно, – усмехнулся он.
Девушка стояла, не зная, что ей делать, что говорить.
– А вы… откуда?
Сказала – и смутилась. Откуда? Ясно откуда!
– Из санатория, деточка, – усмехнулся Макар. – Отец тебе привет передавал.
– Он живой?… Ой, что это я! Вы его давно видели?
– Живой-здоровый, – все усмехаясь, ответил Макар. – Что ему сделается?
Макар все глядел и глядел на Маньку, на ее полные, голые до локтей руки, на ее большие и тяжелые, как арбузы, груди. Она смутилась еще больше, чувствуя, как жаром цветет лицо.
– Расскажите, как он… – пролепетала она.
– Некогда, голуба. Потом как-нибудь.
И пошел вдоль улицы, свернул в переулок. Манька постояла и тихонько зашагала к Громотухе.
Стесняясь своей полноты, она купалась всегда в одиночестве, где-нибудь подальше за селом. Выкупавшись, долго, до самого вечера, лежала на горячих камнях, подставляя солнцу то спину, то живот, думала об отце, глядела, как светлая речная волна моет гальки. Когда солнце покатилось вниз, пошла домой.
Возле села на берегу опять увидела Макара. Несколько парней и девушек, окружив Кафтанова, молча слушали, как он бренчит на гитаре. Тут же был и Гвоздев.
– Классные песни… За душу берут, – говорил он Кафтанову. – А ну, еще раз про этого ревизора чужих квартир. – И, увидев Огородникову, подбежал, схватил ее за руку. – Хо! Привет с поклоном! Давай в нашу компанию.
– Не лезь! Не прикасайся!
Все поглядели на Огородникову. Поглядел и Макар.
– Ну-ка, Гвоздь, отвались, – тихо сказал он.
Гвоздев удивленно заморгал, глядя то на Кафтанова, то на Огородникову. Протянул: «О-о!» – и отступил.
Откуда-то из степи подошли Верка с Семеном. Вера попросила как можно скорее дошить ей платье, заказанное неделю назад. Манька обещала.
Когда Вера с Семеном ушли, Огородникова еще постояла минут десять, послушала Макаровы песни и тихонько пошла вслед за ними.
В Шантаре она услышала о войне. Это ее не испугало, не удивило. Она только подумала, что Леньку Гвоздева тоже возьмут на войну и могут там убить. «Ну и хорошо… Так ему и надо…» – с ожесточением размышляла она. Рука в том месте, за которое ее схватил Гвоздев, горела, будто обожженная.
Придя домой, она переоделась в легкий халатик, раскрыла настежь окно, легла на кровать, до вечера смотрела в потолок, смутно думая о войне. Почему-то представлялось, что Ленька Гвоздев лежит на земле окровавленный, протягивает руки к санитаркам – точь-в-точь каких она видела недавно в кино, – а те проходят мимо, не обращают на него внимания. И правильно, думала она, пусть подыхает. Потом она представила себя на месте одной из санитарок. Вот она подошла к Леньке. Никто не подходит, а она подошла, перевязала, потащила в лощину, где стоят палатки с красными крестами. И когда притащила, Ленька сказал ей: «Спасибо. Ты меня спасла. Теперь я обязательно на тебе женюсь…» А она ответила ему с презрительной улыбкой: «Ты меня обрадовал… Я тебя спасла, но знай, что все равно нет для меня человека противнее, чем ты…» Гвоздев на это криво усмехнулся, несмотря на свои раны, встал, схватил ее, как сегодня на берегу, за руку, швырнул на пол. Потом подбежал, навалился тяжелым телом, задышал в лицо тяжелым водочным перегаром. Она хотела вырваться, но не могла, хотела закричать, но крик ее захлебнулся…
Потом девушка уже не соображала, что с ней происходит и где – во сне или наяву. Кто-то действительно мял ее, зажимал горячей ладонью рот, вдавливая ее голову в подушку, жадно шарил рукой по ее голому телу.
– Ленька! Пусти… Не смей! Лень… – сдавленно крикнула она.
– Какой тебе Ленька, дура! – раздался голос, от которого, как в горячем жару, зашлось и будто лопнуло сердце, а в закрытых глазах что-то вспыхнуло и потухло…
Очнулась она от удушливого табачного запаха. В комнатушке было темно. В полосе лунного света, падавшего из окна, торчала взлохмаченная голова Макара Кафтанова. Он, сидя на краешке кровати, курил, и, когда делал затяжки, от папиросного огня меденел, будто тоже раскалялся, кончик его тупого, с широкими ноздрями носа.
Все тело ее было разбито, раздавлено, где-то внутри, там, где сердце, саднило, стонало и, кажется, сочилось, истекало чем-то горячим.
– Что ж ты, голуба, окно-то на ночь открытым оставляешь? – спросил Макар, почесывая под рубашкой грудь.
Манька все глядела, как раскаляется и тухнет кончик его носа, потом медленно повернула голову к стене и, сотрясая кровать, тяжело зарыдала.
– Значит, Марья, дело обстоит так, – не обращая внимания на ее слезы, глухо, не торопясь, точно вгоняя каждое слово, как гвоздь во что-то твердое, неподатливое, начал говорить Макар. – Отца твоего в живых нету. Заели его собаки во время побега из тюрьмы. Но ты не жалей, он был не сапожником вовсе. Фамилия его не Огородников, Михаилом Косоротовым его звали. В не так далекие времена он, голуба, в белой армии хорошо служил, по допросной части большим мастером был. Потом… Ну и потом немало хороших дел совершил. Всего тебе знать необязательно. Но вот судьба, как говорится, индейка… Теперь я о тебе заботиться буду. Про нужду забудешь. От тебя требуются две вещи: спать со мной иногда и – второе – молчать. Чтоб ни одна душа про это мое логово не знала. Иначе глаза выну и заместо бус на шею тебе подвешу…
Смысл Макаровых слов до Огородниковой почти не доходил. Ей было безразлично все – и кто ее отец, и кто такой сам Макар, и что он сейчас с ней сделал.
Она уже не рыдала, она лежала и спокойно думала: там, в сенях, лежит новая бельевая веревка. Она купила ее недавно, веревка прочная, она не порвется, выдержит тяжесть ее тела…
* * *
Спокойная, тихая, теплая плыла над Шантарой первая военная ночь.
Известие о войне каждый встретил по-своему – кто хмуро и молчаливо, кто растерянно, кто испуганно. Многие женщины сразу ударились в плач, заголосили протяжно и пронзительно, будто вот сейчас, сию минуту их мужей и сыновей уже увозили на войну.
Когда прошел первый шок и вернулась способность думать и рассуждать, пошли разговоры. Говорили обо всем. В самом ли деле это настоящая война или немцы просто устроили провокацию; если настоящая – будет ли мобилизация или с немцами справятся части регулярной армии; если будет, какие возраста призовут в первую очередь; если возьмут много возрастов, как быть с уборочной? Говорили о прошлых войнах, вспоминали прошлые бои и павших в этих боях и вернувшихся калеками. Знатоки сравнивали качества и выносливость солдат германских, финских, японских…
Говорили-говорили обо всем, а на лицах написан был один и тот же вопрос: толкуй не толкуй, рассуждай не рассуждай, а как же оно теперь все будет?
Дни в июне самые длинные, в десять только-только садится солнце, в одиннадцать еще светло. В июне огней в домах почти не зажигают. Но в эту ночь по всей Шантаре цвели желтовато-бледные окна и не гасли долго, почти до самой зари.
Наконец большое село притихло, погрузилось в темноту. Облитые этой теменью, молчаливо стояли деревья, как черные неподвижные облака, спустившиеся до земли.
В этот вечер никаких разговоров не было только в доме Федора Савельева. Дети улеглись в своей комнате без обычного шума и возни. Анна приготовила постель себе и мужу, тоже молча легла; Федор, не раздеваясь, ходил по комнате.
– Братец, что ли, твой, Макар, говорят, снова объявился?
Анна лежала недвижимо, глядела куда-то в пустоту, не отвечала, не моргала даже.
– Ладно, спи. Я пойду папиросу выкурю на воздухе.
– Господи! – отбрасывая одеяло, вскрикнула вдруг Анна. – Да хоть бы тебя на войну забрали! Да хоть бы тебя убили там!
Некоторое время они в упор глядели друг на друга. Одна бровь у Федора мелко подрагивала, другая удивленно приподнималась и опускалась.
Серые глаза Анны блестели от электрического света, как стеклянные, в груди что-то рвалось.
– Вот как! Вот уж неожиданно призналась…
– Врешь! Врешь! Врешь! – трижды выкрикнула Анна хрипло. – Сам себе врешь…
Она упала лицом в подушки, начала всхлипывать по-детски. Федор криво и кисло усмехнулся, вышел.
Как вчера, как позавчера, как испокон веков, на небе ярко горели звезды. То ли выше звезд, то ли ниже – не поймешь – струился, пересекая Шантару, Млечный Путь, утекая в неведомое.
Лежа в подсолнухах на подостланном пиджаке, слушая, как тихонечко булькает, струится меж своих невысоких травянистых берегов Громотуха, Федор с усмешкой думал, что, конечно, он врал самому себе, ничего неожиданного для него в словах Анны не было. «И вообще – разойтись, что ли, с ней, с Анной?»
Думал он об этом легко, спокойно, будто о пустяке. «Перед детьми, конечно, неудобно, перед Андрюшкой с Димкой. Семен – тот не в счет. А как Андрюха с Димкой? Война вот тут еще…»
Федор поморщился, хотя известие о начавшейся сегодня войне его особенно не тревожило. Он считал, что никакой войны, собственно, не будет, не сегодня завтра ворвавшимся через границу немецким частям надают по шеям, перемолотят, угонят обратно за кордон.
Ну, в крайнем случае, все будет продолжаться не дольше, чем с Финляндией…
От Громотухи тянуло свежестью. «Еще простудишься тут, – мысленно проворчал он. – Чего там Анфиска копается?»
При мысли об Анфисе Федор улыбнулся. Вот стерва баба, вот на ком надо было жениться! С годами она не стареет вовсе, только наливается сладостью, как арбуз. И ненасытная – где там Анне даже в лучшие годы! Бывало, выдохнется Федор до дна, высосет она весь жар, все силы, покачивает и тошнит Федора от ощущения пустоты во всем теле, а ей все мало. Зверски бил ее Кирьян, особенно там, в Михайловке. А ей хоть бы что, ни разу, ни одним словом не пожаловалась Федору. Сам Федор как-то полюбопытствовал: «Как же ты переносишь такие побои? Ведь он, когда напьется, – зверь…» – «Так вот и переношу. Куда денешься?» – просто, без обиды, ответила Анфиса. «Плачешь хоть?» – задал глупый вопрос Федор. «Больно иногда бывает… – проговорила и вздохнула. – Зубы сцеплю и молчу. Молчу и думаю: из-за тебя, из-за тебя, Федя…»
Поразился тогда Федор, спросил: «Да это что же у тебя за любовь такая ко мне?» – «Не знаю. Такая – и все».
Все струилась, все булькала Громотуха…
«Ишь ты, хоть бы на войну меня забрали да убило там, – с обидой подумал Федор о словах жены. – Да, разойтись, на Анфисе жениться. Уйдет, немедля уйдет она от Кирьяна. Стоит только сказать…»
С огорода Инютиных донесся шорох, хруст ломаемых картофельных стеблей. Кто-то подошел к плетню, чуть тронул его.
– Федор… Федя! – тихонько произнесла Анфиса.
– Здесь я. Перелазь давай, – проговорил Федор.
Плетень качнулся, затрещал. В это время от крылечка Инютиных раздался голос Кирьяна:
– Эй, кто там?
Анфиса тотчас спрыгнула с плетня на свою сторону огорода.
– Я это… – отозвалась она.
– Чего ты там?
– Ноги горят, днем крапивой обожгла, – ответила женщина равнодушно. – В Громотушке остудить маленько хочу. А то никак не уснуть. Ты-то чего встал?
«Ишь ты актерка, – думал Федор об Анфисе. – И про крапиву в момент придумала. Хитрющее же ваше чертово племя!»
– Ну, студи. Я подожду, покурю тут.
Анфиса несколько минут плескалась в ручье. Потом Федор слышал, как она, уходя к дому, шуршала длинной юбкой по огородной ботве. Донесся скрип затворяемой двери, звякнула задвижка.
«Догадался Кирьян или нет? – подумал Федор, поднимаясь. – Догадался, должно, еще утром. Вон как утром зыкнул на нее».
* * *
Плескаясь в ручье, Анфиса со страхом думала: сейчас муж затолкнет ее в сараюшку, дико, в кровь, изобьет, как бывало не раз…
Но в сараюшку он ее не повел. И вообще ничего не сказал. Не проронив ни слова, он зашел в комнату, лег на кровать, подвинулся к стене, освобождая место Анфисе.
«Не знает, не догадался», – облегченно подумала Анфиса, прижалась к теплому плечу мужа, задремала. Потом прохватилась, чуть приподняла голову. Кирьян все еще не спал, в темноте поблескивали его глаза.
– Чего ты? Спи, – сказала Анфиса.
– Там, в подсолнухах-то, Федор, что ли, тебя ждал? – вдруг спросил он.
– Кирьян! – протестующе воскликнула она, привстала.
– Ну-ну, я ведь знаю – он.
Анфиса на секунду-другую застыла в оцепенении. Потом, упав на подушку, зарыдала:
– Ну – он! Ну – он! Бей давай! Тащи в сараюшку. Чтоб люди не слыхали, я кричать не буду.
– Тихо, детей разбудишь…
В голосе мужа было что-то необычное, пугающе спокойное. Анфиса замолкла, перестала вздрагивать.
– За что ж ты его любишь так… по-собачьи? Вот об чем я всегда думаю.
Это слово «по-собачьи» возмутило ее, все в ней запротестовало, всколыхнулось, каждая клеточка тела загорелась ненавистью к человеку, с которым она прожила, считай, жизнь. Она вскочила теперь на колени. Ей хотелось какими-то необыкновенными словами убить его, задушить, раздавить. Но таких слов не было.
– Ну и люблю… Люблю! Всю жизнь – люблю!
Ее слова не произвели на Кирьяна никакого действия.
В соседней крохотной комнатушке ворочалась на скрипучей кровати Вера, было слышно, как посапывал во сне Колька.
– Это ты только по-человечески умеешь любить, – в бессильной ярости проговорила Анфиса.
– Я – по-человечески, – спокойно подтвердил он.
Анфиса в изумлении уставилась на мужа, пытаясь разглядеть в темноте выражение его лица, но ничего не увидела, кроме прежнего холодного поблескивания его глаз.
Она легла, долго размышляла, что означают его слова: «Я – по-человечески»? Смеется, что ли, он над ней?
– Люблю – и все. А за что – какое твое дело? – с откровенной местью в голосе произнесла она. – Тебе этого не понять никогда.
– Да ты и сама этого не знаешь.
– А может, я и не хочу знать?! – чувствуя, что где-то муж прав, зло и упрямо заговорила Анфиса. – А может, есть у людей такое… которое нельзя словами объяснить, невозможно?!
– Замолчи ты! – Кирьян схватил ее за плечо, встряхнул. Потом минуты полторы тяжело, взволнованно дышал. – Не объяснишь иногда, верно, – заговорил он, успокоившись. – А объяснять рано или поздно надо все равно. Ежели не людям, так самому себе хотя бы…
Анфиса поняла – эти слова муж говорит уже не ей. И, пораженная чем-то таким, чего раньше не было ни в словах, ни в голосе мужа, удивлялась все более. А Кирьян продолжал все так же непонятно, думая о чем-то своем:
– Об одном я жалею – что Ивана, брата его, помог Федору посадить. Меня бы садить надо: я ведь тех двух коней к цыганам свел.
– Как ты?! А не сам Ванька? – Анфиса опять приподнялась. – Постой… Это тогда, выходит, правду Аркашка Молчун болтал?
– Правду, – вздохнул Инютин. – И не уразумею я до сих дней: как это Федор сумел уговорить меня? Отца-то, говорит, твоего он, Ванька, шлепнул тогда… Еще и в те поры, говорит, хоть Иван и умолчал о твоем отце, я догадывался, чьих рук это дело, а недавно Ванька, мол, сам вгорячах проговорился… И брызнула мне ядовитая моча в мозги. А что мне отец-то, что?!
Анфиса долго с недоумением перебирала в голове слова мужа, пытаясь их понять.
– Врешь! Вре-ошь! – закричала она вдруг.
– Зачем мне? – И тем же голосом, спокойным, негромким, продолжал: – А что водку трескал я без меры, это от глупости. Что бил тебя зверски, за это прощения прошу. Хоть и меня понять не грешно было бы тебе… Ты с Федькой тешишься, а у меня от пыток сердце заходится. Ну, зверел, конечно, не выдерживал, волок тебя от людских глаз куда подальше. Но ты не поймешь, да и не надо, ни к чему теперь. Прости, говорю, только…
– Господи! Да ты что, умирать собрался?! – в страхе выкрикнула Анфиса, совсем ничего не понимая.
– Зачем? Не-ет, – раздумчиво сказал он. – Войну сегодня объявили – это хорошо. На войну я уйду. Мужики толкуют – недолго, должно, война эта протянется. А я так думаю – навряд ли! Считай, вся эта шляпошная Европа под немцем. Сила у него. Завтра я пойду в военкомат. Не старик я, сорок годов всего. Возьмут…
– Что ты выдумал? Ты подумай! Надо будет – сами возьмут, согласия не спросят. А ты загодя голову в пекло хочешь сунуть…
– Это еще не все! – перебив жену, повысил теперь голос Кирьян. – Ежели в пекле этом не сгорю, домой все равно не вернусь, ты это знай…
– Кирьян!
– Сыть! Замолчи! И слушай… Ничего, дети уже взрослые. Верка на ногах, не сегодня завтра замуж выскочит. Через год-два и Колька мужиком станет. Ну а об тебе у меня забота маленькая.
– Да что ты выдумал? Что выдумал?! – ошеломленная, шептала Анфиса.
– Все. Спать давай. Поздно уже. – И Кирьян отвернулся к стене.
Анфиса долго сидела на кровати в темноте, пытаясь осмыслить и разобраться во всем, что наговорил ей муж, но сделать этого не могла.