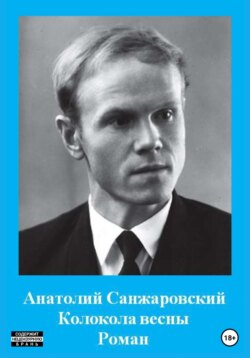Читать книгу Колокола весны - Анатолий Никифорович Санжаровский - Страница 8
8
ОглавлениеОн начал вспоминать свою жизнь.
Он никогда прежде не вспоминал свою жизнь. Считал её никому не нужной. Считал ни хорошей, ни плохой. Какую подала судьба, такую и жил. Что отгоревшее беспокоить?
Он не то чтоб боялся её вспоминать – избегал её вспоминать, не хотел, не отваживался-таки вспоминать, как не решаются робкие люди с кладки смотреть в клокочущую реку. Поспешно отворачивался от себя вчерашнего подобно дурнушке, которая, проходя мимо зеркала, в спехе отводила лицо.
Но вот, оказалось, понадобилась кому-то его жизнь, прикомандировали на беседу человека…
"Лет так с десяти стал я слабкий, хиловатый.
Достались детству моему война, послевоенье. Ну жизнь… Тогда все сводили концы с концами. Только, конечно, концы у всех разные… Откуда взяться достатку? То и богатствия было в дому, что бельевая верёвка во дворе. Жили бедно, нахватались голоду. Одно слово, не на сахарах возрастал.
С той поры и…
На дворе лето. Жарынь.
А я в валенках. В пальто. И всё равно холодно мне. Зябну. Почки допекали меня порядком. Плохо стало мне. Потом так и осталось.
Был я толстый, неразворотистый, медвежеватый. Не мог играть в футбол. Последним был в беге, на гимнастических снарядах.
Наконец меня вовсе отчеркнули от физкультуры.
Мир отгородился от меня.
Соседские девчонки-сокласски раздружились со мной, извинительно роняя: «С тобой, Поросюша, стыдно ходить». К ребятам я сам боялся приближаться. Потому что, завидев меня, они начинали дразниться: "Бочка! Бочка!" – и кидались толкаться. Я и впрямь был круглый, как бочка.
Я ушёл в себя.
Я старался не высовываться. Всегда держался на отшибе. Жался в угол. У меня такое чувство, что я и вырос в углу.
У меня не стало друзей. Я ни с кем не разговаривал, кроме как с одной матерью. Случались дни, я не произносил ни слова.
Вот оттуда, из горького одинокого детства, такого жестокого, ко мне пришёл страх перед всяким незнакомым человеком. Даже и сейчас, если очень надо заговорить, бухнешь что не думая – он бледнеет, а ты краснеешь… Я не знаю, как к человеку подойти. Я не знаю, как к нему обратиться. Я вовсе не могу держаться свободно даже в знакомой братии. Меня всегда жмёт, давит, оттирает в угол, к двери. За дверь… Я понимаю, что эту чертовщину нужно и можно перебороть в себе. Но я не знаю, как это сделать.
Однако я отвлёкся…
Три раза меня выписывали из районной лечилки и – боль врача ищет – клали обратно. Так как я опять сильно распухал.
В больнице у меня завелись большие друзья. Ма-аленький ста-аренький дедушка Кирила Клёнов. Я звал его просто дединька Кирик. И была ещё тётя Нина. Дробышева.
Нас слила одна боль.
Мы целыми днями не расставались.
Сидим жалеем друг дружку. Жалеем, жалеем да вдруг и ударимся в слёзы иль в шебутной смех.
В последний раз меня положили именно на ту койку, где лежал дедушка Кирик.
Значит, лежу я и думаю, как ему там-то, дома, расхорошо.
А соседец мне и посмейся:
– Ну что, думовладелец, ты горячий заместитель Клёнова? Съявился, задохлик, амбразуру закрывать?
– Какую ещё амбразуру?
– А такую. – Он угробно сложил синюшные лапки на цыплячьей грудке, на секунду закрыл печальные глаза. – В ту амбразуру, голубок, как в трубу дым, всё человечество вылетело. А так, ёлы-палы, и не закрыло. Уж как дорогой минздрав предупреждал: «Лечение опасно для вашего здоровья!» Уж ка-ак слёзно предупреждал-уговаривал… А вот пустыри не слушаются… И совсемуще навпрасно. Ведь у каждого врача своё кладбище! И если врачун перестанет регулярно пополнять его своими «вылеченными», его же больные, доведённые в мучениях до отчаяния, скоренько самого уроют с песнями как профнегодника на кладбище его ж дорогого имени! Доходит?.. Поймал ситуацию?.. Вот твой дедука и… Полный трындец…
– Ты что? Какого веселина перехлебнул? Или у тебя болты посрезало? Когда я даве уходил домой, дедушке стало лучшать!..
– Вот именно… – сосед постно уставился в потолок. – Стало… Да… Как верно подмечено не мной, «больной уже почувствовал улучшение, но врачи взяли ситуацию под контроль» и…
– Греби отсюда! Да у тебя фляга свистит![18] Ты что несёшь?
– Что имеется в наличности…
– Ты хочешь сказать… Дединька Кирик помер?!
– Ещё на той, больнуша, неделе отнесли в расфасовку.[19] Наглюха Загиб Иваныч[20] угрёб и не охнул… Вот такая расплошка…
Эта весть засекла мне сердце. Замутилось у меня в голове. Я встал и побрёл зачем-то к двери. Меня шатало.
– Ша, мышки амбарные!.. Шуба!.. Ёжики идут![21] Ложись, братовня! Ложись! – шепчет сосед. – Все по местам! Кавалькада движется. Последний парад наступает!
Тут дверь сама мне встречно распахивается. В палату набивается обход.
Упал я перед своей докторицей на колени и заплакал:
– Я не хочу умирать, как дедушка Кирик! Я не хочу умирать! Переведите меня… пожалуйста, с его койки!
Свободных коек не было. Поменяться со мной никто в палате не захотел. В коридоре класть не решились. Зима.
– Горе ты мое горькое, – утешает лечилка. – Потерпи денёшек-другой. Как кого выпишем, так и уважу твою просьбушку. А ты уважь мою. Иди ложись.
– Не могу…
– А ты переступи через не могу, ляг и ничего с тобой до самой смерти не случится. У тебя ж ничего серьёзного! Скоро выпишем!
– Не переведёте – сегодня же меня здесь не будет.
К той злосчастной койке я так больше и не смог подойти.
Дождался у двери, пока ушёл обход, и кинулся к нянечке. Неслышно вытащил у неё ключи из широко раскрытого кармана на боку халата, что натянула поверх душегрейки, забрал свою одёжку.
Ключи честь честью тишком вкинул назад нянечке в карман, переоделся в уборной и благополучно выскользнул из лечебки.
Дома я объявил, что у меня ничего страшного. А потому и выписан по обычаю на домашнее лечение.
Трудно мне поверили. Никаких справок наводить не побежали.
Слилось, может, так с полгода.
Иду я как-то раз из школы. Уже напротив своей калитки увидел почтальонку. Машет мне. Широко кидает руку из стороны в сторону. Такое впечатление, точно гонит от себя настоялый, тяжкий дух. Была она с глушиной. Подхожу я к ней вплоть. Она и шумит мне с попрёком:
– Слухай ты, Валера который… Ты вон, орёлек, как привсегда, всё за наукой гоняисси! А товаронька твоя, Нинок-то, совсемко заскучала… Примёрла! Царствие ей небесное…
Я оцепенел.
Выходит, следующий я? Конечно… Кто же ещё?
Верёвка…[22]
Из оцепенения меня вывели нарастающий жалобный стон и шлепоток полуторки. По осенней плыла хляби.
Что же делать? Чего ещё ждать? И на черта ждать? Какой смысл ждать? Сегодня… Завтра… Велика ль разница?
До машины оставалось всего несколько шагов.
Я выскочил ей наперерезку. Заслонил лицо брезентовой сумкой с книжками, повалился наземь…
Как потом я понял, машина вильнула, будто отпрянула от меня, толсто накрыла мне грязью голову, плечи, спину. Она с корня снесла нашу калитку, плетень и по самое брюхо вряхалась в нашу же грядку с чесноком под зиму.
Обложив меня незнамо каким этажом и поминая богову мать, шофёр за ухо выдернул меня из грязюки и, не выпуская, мёртвой хваткой держа за ухо, поволок к отцу на правый бой.
– У тебя что, все батарейки сели?! – хрипло пришепётывал он. – Совсема раздолба повредился разумом! Прибитый на завязи… Тоже нашёл игрушку – со всей дури под колёса кидаться! Пускай батечка кре-епенько смажет тебе мозги!.. Чтобушки не скрыпели…
Отец всё видел в окно.
Он готов был разнести меня на молекулы.
Моя выходка была ему чем-то вроде красной тряпки для быка. Батый отбуцкал меня мокрыми вожжами.
Я захлёбывался от обиды и слёз, убрёл из хаты.
Ночевал я тогда первый раз в скирде соломы.
Я возненавидел всё!
Возненавидел родителя! Возненавидел соклассников! Возненавидел больницу! Возненавидел врачей!
О эти врачи! Первые горячие помощнички смерти! Что эти пинцеты понимают!? Да они там только и знают по шесть раз в день лупить уколы! Столько натолкали в меня пенициллина – горло заплесневело! Сёстры обматывали столовую ложку марлей, макали в йод и продирали, прочищали горло…
Залечили эти таблетологи дедушку Кирика. Всё пихали в бедного какой-то трынтравин… Залечили тётю Нину. А тоже к диете привязывали!
Да плевал я на вашу диету с высокой кучи! Буду мять всё, что под руку ни подлети! Ну хотешко перед смертью наемся вволюшку!
Никакой диетологини!
Я стал наворачивать всё.
– Ты чего всё вподряде лопаешь, как свинёнок? – пытает за столом родитель. – Иль думаешь, что в рот полезло, то и полезно?
Мамушка и заступись за меня:
– А ему, Павлуша, врачевцы разогрешили, – заикалась и жалко моргала она.
– Чему только этих колпаков и учат! – хищно обсасывал наш хан лошадиные бивни. – У этих халатов по семь пятниц на неделе! То строго держи диету. Всё молочное. Всё несолёное. Соки… А то… – скосил на меня угрюмый взгляд. – Ишь ты! Рвёт селёдку, как шакалёнок козе горло!
– Голодом, Павлуша, ещё никто от болезки не откупился… Хочется малому есть. Значит, дело к поправке мажется.
А когда мы остались одни, мамушка и плесни:
– Ты, сынок, ешь, ешь взаподрядку всё, что душеньке мило. Ешь, да не ленись пройтись-пробежаться когда. Когда побегаешь, по себе знаю, оно вкусней естся. Ты бегай. Мне сдаётся, это к пользе. Стрясывай с себя больную пухлоту.
Я начал много ходить. Стал по утрам обливаться холодной водой в тазике. Зуб на зуб не приходит. А я знай полощусь. Но бегать-таки не отваживался.
Сам по себе я не мог бегать. Мне надо за кем-нибудь бежать. И без видимой причины по деревне неловко пластаться. Скажут, сбился дурёка с ума.
И надумал я из школы и в школу пришпоривать за грузовиками, за тракторами, за повозками.
Оденусь, бывало, и к окну. Время идти. Я стою. Выжидаю.
3авидел что на колёсах и задал бежака следом.
Раз за вечерей родитель и накатывается:
– Ты чего за машинами гоняешься, как бобик? Только что не обгавкиваешь…
Мамушка и тут поверни дело ясным лицом ко мне:
– Врачея, Павлуша, велела. Бегать ему надушко.
– А за аэропланом скоро повелит скакать?
– Да обскачет и аэропланий твой, будь у малого велосипедка. Давай-но укупим… Парубец у нас счастливуха. Что да, то да. Проверял вон облигацию и выиграл.
– Ну, коли самолично облапошил государство, возьми ему в премию этот хвостотряс…
На дворе ещё первый толчётся свет. А я на своём новом конике и завейся не в Скупую Потудань, так в сам Нижнедевицк. Что туда, что туда в один конец двадцать километришков. К урокам я поспевал обернуться. И так изо дня в день.
Велосипед, бег и вода отпихнули от меня врачей. Здоровому врач не надобен!
К концу школы я окреп. Забросил валенки.
18
У тебя фляга свистит – о сумасшедшем.
19
Расфасовка – морг.
20
Загиб Иваныч – смерть.
21
Шуба! Ёжики идут! – предупреждение об опасности.
22
Верёвка – безвыходное положение.