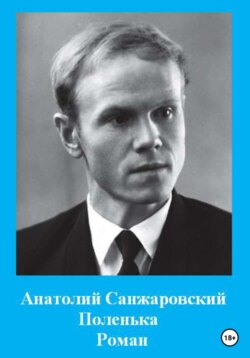Читать книгу Поленька - Анатолий Никифорович Санжаровский - Страница 2
2
ОглавлениеДля чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?
Запоздавший Егорка небрежно молился в плутоватой спешке.
– Что мотаешь рукой, как цепом! – подструнил его Владимир и с поклоном поздоровался со стариками, уже сидели за столом: – Здорово себе ночевали.
Старики степенно в ответ закивали.
Все они ждали его одного, без хозяина никто не смел начать против обычая. Но вот хозяин занял свое место за столом, заждавшимся ложкам дана воля. Как заведено, каждый молча, обстоятельно черпает непременно полную ложку, будто взаймы.
Поев, старики так же без слов выходят друг за дружкой из-за стола с той стороны, с какой и заходили, это чтоб беседу не ломать, идут оттаивать свои косточки на солнышке, уже тёплом с самой рани.
Кузьма предусмотрительно угнездился на низкой приступочке у самой у земли – вознесла даве нелёгкая на верхотурину, будь она неладна, поплатили своими боками. А потому нынь мы умней противу вчера, при падении дурость первая расшибается и идёт из головы впрах, поумнели мы, стал быть, вот так, говорит весь торжествующий вид деда.
– Тато, – с нарочитой унылостью подтирается Арсюха, – як надумаете падать, так ткажить мени, я толомки ридному татови кину. А не утпеете крикнуть, так хватайтеть за мэнэ. А то вжэ за атмотферу не вдержитэть – ре-едкий таки в нат воздух, не то шо каша т дымком, – сетует Арсюха, садясь-таки плечо в плечо с отцом и подымая с земли клок сухого хрусткого сена, упал с навильника утром, когда проносил Володьша от стога к яслям.
– Торохтишь, як лопух… Який же ты, хлопче, таранта… Пустый тарантас! Наторохтишь – на трёх фурах не вывезешь. Ты у мене ще засмиешься на кутний зуб![6] – беззлобно грозит Кузьма насмешнику и толкает того локтем в бок. – Ой, засмиешься!..
Старики весело захохотали, точно ссора и не ночевала.
А солнце между тем подпекало; жарко уже; старики снимают овчинные шапки, расстегивают на верхние петельки тулупы и даже вороты полотняных толстовок; наконец жара окончательно подломила; упрели, устали они от неподвижного сиденья.
– За плечьми як ангелы сидять, – говорит Кузьма. – Пишлы по двору поспотыкаемось…
– А чего ж не пойтить, – соглашается Арсюха.
Оставив на порожках шапки, тулупы, они утягиваются размять ноги в безмолвном, в грустном путешествии по двору.
Манит стариков наотмашь распахнутая амбарная дверь; не сговариваясь, медленно подскребаются к ней, приставляют сухие ладошки козырьками к глазам – с улицы, с солнца, с такой яркости сразу и не разберёшь, кто там хлопочет в амбарном сумраке; но через минуту какую глаза свыкаются с темнотой и совсем ясно видят, как Волик пересыпает ковшом семенную гирьку (сорт пшеницы) из сусеки в мешок, и Петро, мелконький, вёрткий, жилистый – вот отлиток отца! – помогает бате широко держать мешок.
– Ну шо, Петро, колы будэ тепло? – с подвохом щурится дед Арсюха. – Колы нам можно будэ везти кожухи на ярманку? А?
Петро хмурится, поджимает губы; с обиды начинает сопеть.
– Чего топишь? Иля много знашь?… Шо за музыка – обижатьтя… Ну-ну, молчу… Работай! Може, – тердце мое чуе, туттавы мои говорять, – може, и заработаешь на воду к хлебу иля на шнурочек от бублика…
Кузьма метнул колкий быстрый взгляд на Арсения, собиравшего хиловатые смешинки в жидкий кулачок.
– Арсюха, шоб тя лихоманка затрепала!.. Хотешко и довго живéшь… Як стара халява завалялась под лавкой… А умок дитячий… Знову ругаться, делить с тобой шутовы яблоки, не рука. Но я напрямо искажу: попридержи язычок на привязи. Дурна ото привычка подкусывать малого! Кабы ты не боялся смерти, надвое б разорвался, только дай помудровать над кем другим… Той же Петуша! Вин робитнык, не то шо мы… Напару поотпускали били бороды до самого до греха и рады!!.. Можем щэ свить кнут та собак дражнить, а на соль к селёдке уже и не заробымо. Куда нам до Петра!? Петру за добру роботу батько нови штаны справил. Молодец, Володик, гарна обновка!
– Да какая там обновка, – отзывается Владимир, сдувая в мешок вслед за льющимся из ковша зерном тяжёлые ядрышки пота. – В обед сто лет! Как бы там у него монастырь уже не прогорел.[7]
– Наскажешь! – возражает дед Кузьма. – Ну да, обновочка… Сзади, на подушечках, и не блещать. Як ненадёваны!.. Не думають и протираться.
– Того и не думают… – куражливо пускается Володьша в пояснения. – Наверши мне Петруха чего непотребного, я аккуратненько штанчата сдеру да и по голому делу разогрею ремешок… Так оно экономней, правда, Петро? И дело варится, и штаники повсегдатошно новёхоньки!
Петро теряется. Ну зачем отец заради ловкого словца высыпает перед дедами кучу неправды?
Мальчик не знает, что сказать, и зачем-то ещё ниже угинает голову; и без того мелкорослый, как бы сказал дед Кузьма, раку по плечишки, он, Петро, становится ещё мельче, сутулее, как-то виноватее, что ли; и далёкие детские голоса игравших в лапту одногодков где-то на самом на отлете Криничного яра заглушаются учащённым стуком маленького хлопотливого сердечка.
– Ну что, горит душа поточить копытца на выгоне? – участливо спрашивает Владимир сына, качнув головой в сторону ребячьих голосов.
Мальчик придавленно молчит, краснеет.
– Ну, бежи, бежи. На сёгодни будэ.
Мальчика как радостным ветром уносит.
В шесть рук завязав полный чувал с зерном, мужики усаживаются на лавке у амбара; сам собой настёгивается раздумчивый разговор о весне, о севе, о погоде, о будущем урожае, и за всеми словами, за вздохами одна мольба-слезница: уроди, Боже, дай-подай хлеба: солома в оглоблю, колос в дугу, зерно в набалдашник. Ах, их бы речи да Богу в уши!
– Не допутти Готподь и в это лето накажет урожай… Вот где запоём матушку репку…
– А может, – перебивает Владимир отца, – и то снова крутнуться… С Богом не подерёшься… Давешнее лето беда… Ни тучки, ни дождинки… Пылюка по полю танцювала под ветром, как за дурным колесом. Уродило – Вам ли слухать? – колос от колоса не слыхать и голоса… У нас того нынче и семеннику нехват. Где б его да у кого разжиться, обменять там на что иль занять до новины с возвратом?
– Как у кого, – очнулся было задремавший дед Кузьма, сквозь кисею легкой дрёмы слышавший, о чём это так доверительно толковали сын с внуком. – Как у кого… А забув… На Спас гостювала у нас новокриушанская тётка Олена, так казала-хвалилась, у них, Бог миловал, дожжи способные перепадали, так что с хлебом они. Даже говорила, гирька местами удалась крупная, як той горох.
– Ит ты! Так чего ж, ляпалки, дело бобами кормить! – ожил Владимир. – В непременности, дедове, сей же мент треба засылать послов к Олене!.. Мать, а мать! – окликнул он Сашоню, наливала из деревянной кружки воду в сковородку для кур; те тут же смело окружили её плотным белым шатающимся кольцом, занялись пить, с вельможной важностью поднимая головы, как бы распробывая воду на вкус, и тут же стремительно опуская клювы к сковороде. – Где у нас Полька?
– Полька? У криницы[8] холсты полоще. Сбегать позвать?
– Сам схожу.
За долгое потное утро Владимир весь изломался в этой бесконечной беличьей круговерти по двору: тут подтяни, там вон подбей, там переложи, а там, а там, а там… Батеньки, да нешто у Володьши тыща рук, не какая же он не индусская танцующая Шива, он всего-то и есть что Волик Долгов, всё то и богатства у него, что две руки православные, и всё ж доволен, что не ляпал спозаранок в две сонные руки – сработал, и то, может быть, вдесятеро против себя, сработал влад, дорого теперь глянуть с улицы посверх плетня, утыканного банками, на двор свой, крепкий, хозяйский, в холе.
Ему подумалось, а не так уж и кисло тянет он свой воз, раз на хуторе старые мужики в зависти покачивают головами. Ай да молодец, Панасок! Ай да молодец, Волик!
Усталый Владимир вмале подобрался и ещё раз, уже с налётом не то удивления, не то сановитости, глянул с улицы на свой двор поверх низкого, вровень с Петром, плетня и невесть чему улыбнулся несмело, рассеянно. Улыбнулся своим делам? Эти дела были дитя его рук, его души; он видел, что дитя его не хуже чем у кого хошь сравни по соседям в Криничном яру, и стыдливая радость распустилась розой на его по-мальчишески веснушчатом лице, будто кто сегодня на заре сыпанул в лицо горсть веснушек, сыпанул кучкой, в одно место, веснушки не успели разбежаться от носа далеко, да теперь и не разбегутся: облило их утреннее солнце глазурью, теперь не смоет ни одна роса, не выест ни один пот, пускай и седьмой; ему сдавалось, небо сегодня не в пример выше вчерашнего; звенел птичьими голосами и весь лог Лозовой, приютивший два века назад первых выходцев из Новой Криуши, приютивший и весь отселок, хуторок Собацкий; проснувшийся, умывшийся, наевшийся хуторок стучал, точил, отбивал, пел металлом – в этих извечных предпосевных весенних хлопотах всяк слышал могучую музыку пробуждения; хоть и велика зима наша, а и та прошла, и весна нам не чужая, и лето нам родич большой, и осень-панночка не зла к нам, а шапку пред ней ломишь да на коленки валишься, до тех степеней люба каждому, и осень каждому своя, богатейским сыпнёт урожаем, только дай всему ум, дай всему простор.
Владимир шёл по своей улочке и все с ним здоровались по-особенному почитательно. В ответ он кланялся и старикам и детям без разбору: с поклона голова не отвалится.
Нечаянно застигнув Полю в болтовне с Серёгой Горбылёвым, Володьша в изумлении примёр у плетня. Вот так так! Докатилась до грязи девка! В день, при народе свиданничать!.. И холстину наполаскивает, и шуры-мурничает!.. Ой, девонько, напряду я тебе на кривое веретено!
Увидела Поля отца, ещё круче наклонилась к корыту, ожесточенней навалилась на стирку. Руки у неё красно горели, холодна родниковая лёд-вода.
Не ускользнуло от Долгова и то, как горбылёвский бычок, заметив его, по-скорому черпнул в вёдра, может, на вершок всего и стриганул Володьше навстречу, норовисто угнув голову, будто собирался его боднуть, но вместо всего того с благочинностью в голосе, важевато, мудрёно так поздоровался:
– Путь Вам чистый на дороженьку… Счастливо!
Долгов зачем-то улыбнулся ему в полупоклоне, чинно даже оглянулся в улыбке, дивясь неожиданно хитрому и отрадному приветному слову; и чем долее смотрел он парню вослед, тем приметней сияние на его лице вытеснялось недоумением, а там уже и гневом.
«Ах ты, козий потрох! – пустил в тыщи, обругал себя Владимир. – Кому ж ты лыбился?.. Горбылю-козлу! Воистину, козёл козла видя издаля… Крепше гляди, Володяха, как бы этот козёл не навертел хлопот, что не станет у девки сбегаться капот…»
Раскипелся Владимир, разозлился на себя за то, что вот в срам себе на голову раскланялся – и раскланялся-то как? – почитай не ломал шапку перед этим шалопаем, которого смертно не терпел, и не только его одного, а и всю горбылёвскую рать.
Долгов свирепо повернулся и вцепился взглядом парню в спину; тот уже пропал в своей калитке, а Владимир всё не двигался с места.
«Ит ты, лише и сто́ите! – жёлчно плюнул и растёр плевок. – Выдул – тольке в бугаи и пустить!»
К Горбылёвым, к соседям, у Долгова была затаённая, заскорузлая давешняя злость. А разберись да разложи всё по веточкам, что и делал он частенько ночами, так Горбыли не так чтобы и плохи. Приветливые, этого у них не отберёшь; без зла, с добром живут к людям, последним поделятся… Как-то вон цыганьё залётное по дворам гадало. Где пирожок, где скибка хлеба с ладошку, то и вся им красная плата за брехеньки, а Горбыль, сам, фуфайку с гвоздка да и старой ведьме, мол-де, морозики вечерами ещё пошаливают, а ты в одном, прости Господи, платьишке, рано кожушок продала… Ну не дурак? Дурак, неумытый ду-рак, думал Владимир. И по части грамоты дураки не приведи Господь каки. Накарябали, настругали детвы полным-полную под завязку хату, будто ребятёжь у них, что мокрицы от сырости разводятся. Стемнело. Сами, зволь радоваться, на ликбез и ребятню позамуторили той школой. На двоих одинёшеньки сапожики, на пятерых одна шапчонка – а учатся все! Прибежал один, другой нырь в его сапоги да и в путь по своим заботам. Каждой морковке свой час… А на что, спрашивается, вся эта музыка? Ну на что это господне наказание? От тех же книжек резону – навару с пустой воды толще! Не знал я, как в той школе двери открываются, не держал и минуту ту книжку в руках – а жив, ещё как жив без книжек, хлебом жив. Хлебушко духовитый на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска!.. Сегодня не кусни, завтра не кусни, а там и кусалки-то не разожмёшь. Амбец, спёкся и остыл Босяк Антеллигентович… Ты носом почаще в навоз тыкай дитё, скорейше учует, как пахнет хлеб, скорейше поймает, как он достаётся, скорейше само возьмётся раздобывати его… А этот, Серёга, коломенская верста с долгими, неудалыми, как грабли, ручищами, несёт попереде себя и не знает, куда их и деть… этот так полных три класса отбайбачил! И привычка – видать, в школе подучили, где ж ещё такому научишься? – идёт, идёт да и станет столбом посередь улицы, задумается, как осёл перед порожними яслями; тс-с-с, не мешайте прохвессору думу думати… Что ничего – малый ладен ростом, а так плетень плетнём, не цопкий, не хваткий, не ловкай в делах при земле. Бабы пытают раз Горбылиху, на кого погонишь Серёгу учиться, а она руками картинки разводит, на что ж его и как его учить знать не знаю, ведать не ведаю, а надо. Видали?!.. А на что ж там только и живут? Пустой двор небом покрыт, полем огорожен, за что ни хватись, всё в люди беги. Там нищета – собаку нечем с-под стола выгнать. Одно слово, хвать в карман – дыра в горсти и боль ничего другого. В лучшем случае, наткнёшься в кармане на вошь на аркане иль на блоху на цепи. Ну, бабы на язычок язвы, досказали за Горбылиху, чему-чему, а вилами горох собирать, глядишь, и научится её Серёга… Эха, два плеча одну садовую головушку держат! Да хоть сто классов кончай и дуракуй потом всю жизню до самого до заступа, мне-то что с того, думал Владимир, только какого огня этот грамотник, этот дармоглот, чирей те во весь бок, топчет пятки Польке моей? Громом и молнией не отшибёшь!
И припоминает Долгов, припоминает решительно всё, как дело не дело, а всякую субботу-воскресенье Серёга с сеструхой Проськой, Полькиной товаркой, вертелись у него, у Владимира, в доме. Конечно, чего уж тут гадать, где коза во дворе, так там козёл без зова в гостях. И только дай добраться до огорода, так он, – а чтоб его черти облили горячим дёгтем! – так пополет капустку… И Полька вытворяет там такое, что и в борщ не крышуть. Это уже нож мне острый. Затягивает всё паутиной, таит от родного батьки. Когда ни спроси, куда это ты убралась, как на кулички, так ответ раз по разу один – Проську жду. «А Проська вона какая!» – с сердцем буркнул Владимир, увидав поверх плетня Серёгу, промелькнул из хаты за сарай с ведром помоев.
– Так шо мы тут поделываем? – нарочито вяло спросил отец, подходя к Поле.
Пристально приглядывается он к дочери, будто впервые так близко, так хорошо видит её, и ловит себя на мысли, что дочка, которую он всё считал ребёнком, далече ой уже не малёха: на голову выше батьки, широка, ловка в кости, крепка, туга телом; какая работяга в чужой уйдёт дом, да не приведи, Господь, в горбылёвскую курюшку. Не-е, нашим там нечего делать, твердил отцов взгляд, и она читала именно это, как полагал Володьша, а оттого и покраснела вконец – спекла рака, но ответить ответила примято:
– Шо Вы туточки делаете, я не знаю, а я… – опустила глаза на корыто, на свои руки, не переставая полоскать.
Умей она угадывать отцовы хотения, – из этого вышел бы прескверной пасьянишко, поскольку беспокойство за неё было порядочно выгрязнено расчётом доходного замужества, умри, а непременно чтоб за богатика из прочного семейства, пускай даже за нелюба, да за деньжистого. Денежки не Бог, а пол-Бога есть! Деньги – крылья!
Владимир отмеривал мерку по себе. Его не спрашивали, нравится или не нравится ему его будущая жёнка, без спросу подпихнули под венец, на том и весь сказ; а чего же он станет чичкаться, кто тебе по сердцу, за кого б пошла, а за кого и подумала; не-е, таковской канители Володьша не попустит и коль выдаст Польку, так на ах, только за такого, что не в стыд будет ни перед старыми людьми, ни перед Богом самим.
По ночам, мучаясь бессонницей в своем чёрном колодце, Волик маятно перебирал всех собачанских хлопцев и ни один ему не подходил: тот голяк, нашему козырю не под масть, а тот и навовсе в грамоту лезет, ещё хуже, последнее то дело… Всё чаще натыкался он на горбылёвского попрыгуна, кто всё толокся на видах – по надежде коник копытом бил! – и, кажется, Полькино серденько не в равнодушности к нему, что и тревожило и страшило Владимира. Ну на кой лях пятнать дочку нищетой этого комсомоляхи-грамотея? Не-е… Сам христарадничай, а мы тебе не компания!
Владимир собирался с духом сказать ей про это сегодня да завтра, сегодня да завтра, а парубок не промах, как что – тут как штык. Ну какая его сибирка погнала вот нынче за водой? Увидал, моя прошила, и себе туда, воду из ведра шварк под плетень да бегом следом; прежде подмечал это Владимир и сам, и стороной слухи такие препасквильные доплёскивались. Оно и моя хорошка хороша: краснеет, кумач продаёт, а пялит на малого синие свои мигалки, как дураха какая. Покуда не запела про горбылёвских сватов, надо разом отхватить эту петлю…
Он уже провертел, как приступиться; сначала спросит, а чего это тут крутился Горбуля, а чего это ты с ним в переглядки играла? Ну, говори, говори, я ж видел всё сам!
Но всё то, висевшее на кончике языка, упало в небытие без слов, без единого звука: отец сконфузился своего же умысла. Ну что ещё за самосуд заваривать у криницы, дочка ж, не кошка какая заблудная, и на миру ломиться в живую душу с кулаками, пускай и родительскими, никак не резон, а потому наместо внезапной кары он, осклабившись, поздоровался уважительно, как с настоящей прачкой:
– Беленько тебе, доча!.. Вода холодит?
– А кто её грел, тату? Руки лубянеють…[9]
– Ну раз такой макар выпадает, кидай всё то хозяйство, мать дополоще. Пошли в хату.
– Да я уже…
– Ит ты, не упрямься. Не гни всё под свой ноготок. Идём-ну. Дило!
– Якэ щэ дило?
– Дома искажу. Не среди ж хутора цынбалы разводить.
Переступил отец с ноги на ногу, помялся и поплёлся обратно к дому по старой гладкой, хоть боком катись, тропинке, вертлявой, узкой, как девичья ладонишка. Поля уже на бегу вытерла руки о низ платья, глянула назад через плечо на холсты в корыте, нагоняя отца.
Дома отец усадил за стол Полю напротив себя; всякому делу он придавал ту хозяйскую основательность, которая велась в дому испокон века.
– Вот оно шо, доча… Предстоит тебе дорога в Новую Криушу. У свояченицы Олены поспытаешь, а сколько мер гирьки она могла б нам дать наперехват до новины. Так-таки и сложи, доцё, моими словами… А то може статься, не хватя нам на сев, не скисли бы при печальном интересе. А можь, и без неё сольём концы, так запас не оторвёт карманы. Найдётся шо – завтре ж в вечер я и сгоняю к ней на бричке… Ну шо его ще?..
– Да вроде всэ ясно.
Поля встала. Отец жестом велел сесть.
– Ну ты спогоди. Попередь батьки не суйся в петельку… Будь там поприветней. А то она мамзелька с больши-ими бзыками. Отночуешь у неё, взавтре утречком в обрат додому. А зараз поешь да и поняй с Богом… Мать, а мать! – подвысил Владимир голос, обращаясь к жене, толклась с чугунками у печи. – Чем ты нас подкормишь?
– Невжель у нас нечего кинуть на зубок да заморить червячка? – с укором Сашоня уставилась кулаками в широкие бока.
– Не заморити… Его накормить треба як слид.
– Я зараз, зараз… А на дорожку не грех взять с пяток яець с собою. Патишествие – така даль, полных девять вёрст! Не до лозинок за катухом доскочить… А яйця и готовы, курчатам наварила цельный чугун.
При виде чугуна с яйцами Егорка весь аж затрясся.
– Нянь! – Егорка звал Полю няней, знал, кто его вынянчил. – Нянь! Солнушко! Солнушко мне! Солнушко!
– Завтра Боженька подаст.
– Да ну уважь ненасытны глазенятки, – заступается мать за Егорку. – А то будет вертеться тутечки под ногами, як бес перед обедней.
Поля чистит яйцо. Желток, крутой, хоть колесом дави не раздавишь, подаёт Егорке.
– На, плаксик, твоё солнушко!
– А белток, нянь, сама…
– Ладно… Поаккуртней ешь, не чвокай. Поменьшь губами ляпай. А то свиньи со всего Криничного яра сбегутся на собрание под окно.
– А вут и не сбегутся! Калитка на новой на вертушке. А вут и не сбегутся!
– Поговори, поговори у мэнэ! Поболтав та и за щеку. Мовчи…
– Разве ты не бачишь, шо ей не до тебя? – осаживает Егорку отец. – Отойди… Отхлынь от греха. Не дёргай за нервы… Ты у меня шо, ремня просишь иля чего? Так за мной не прокиснет… И жаль ремня, а треба погладить дурачика, скоро подживешься воды на кашу, – мягко смеётся отец, наблюдая, как Егорка, затолкав в рот целый желток, потешно ловчит разом его проглотить, поводя и вытягивая тонкую шею то в одну, то в другую сторону. – Хоть за работу не хвалять, зато за еду не корять!.. Ай да Ягор! Ай да Ягор!
6
Засмеяться на кутний (коренной, жерновой) зуб – заплакать.
7
Монастырь прогорел – брюки протёрлись.
8
Криницей в хуторе называли чёрный колодец. Он так глубок, что, глядя в него сверху, вода всегда виделась чёрной. Его питал могучий родник, который, дай ему только волю, мог залить весь хутор, как считали когда-то. Вот почему его подзабил один купец шерстью, а потом землёй. Имени купца никто не помнит, зато криница до сих пор жива. (Примечание автора.)
9
Руки лубянеют – костенеют, стынут.