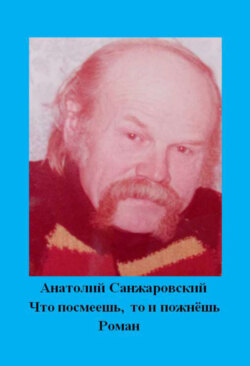Читать книгу Что посмеешь, то и пожнёшь - Анатолий Санжаровский - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья
4
ОглавлениеУ нарядной, облицованной цветной плиткой, станции грудился народ.
Пошёл, заглядываю старухам в лица.
Не она…
Не она…
Не она…
Всякий раз, когда мама прибегала сюда, вниз, в город – центр села с магазинами в Гнилуше называли городом, – прибегала за хлебом ли, за молоком ли, за какой другой мелочью к столу, она часами выстаивала автобус из Воронежа. А ну нагрянет сынок и – никто не встрене! Как же это так? Нельзя так! Не надо так!
Заявлялся я всегда без доклада, и всякий раз она, виноватая за свою тоску материнскую, за свою старость, за морщины, за верёвочно толстые жилы на разбитых сызмалу тяжким трудом руках, которые то и дело норовила подобрать повыше куда в рукава – а Боже праведный, да за что только не казнит себя без вины старый человек! – всякий раз, виноватая и удивлённая счастьем негаданной встречи, роняла она тепло слёз у автобусных приступок.
И теперь всё то отошло? Отошли встречи? Отошли слёзы у автобуса?
Надо идти домой – боюсь.
Ступнёшь шаг и станешь, задумаешься. А чего задумаешься, и себе не скажешь…
«А что, если…»
По прямушке, через сквер, выскочил я духом на свою Воронежскую улицу с падающими тополями. Молодые частые тополя наперегонки тянулись к солнцу – нависли телами над проездом улицы, того и жди, опрокинется тополиная стена.
«А что, если…»
Раза два падал я в грязь, падал и вскакивал и бежал снова…
«А что, если… Прибегаю… Дома народ, полно чёрного народу?..»
Вылетел я из-за угла – Глеб.
По двору колыхался от барака к раскрытому сараю.
– Гле-еб…
Глеб сиротливо оглянулся.
Вывалились у меня из рук чемодан, портфель; ткнулся я в небритую щёку и заплакал.
– Ну, чего ты? Всё обойдётся с мамой. Всё будет хорошо…
– Хорошо, хорошо… – повторял я, а слёз унять не мог.
Он бережно снял с моих плеч рюкзак и понёс в сенцы.
– Пшенцо приехало… Наш золотой запас… А ты догадчивый. Я не писал тебе, что ваше летнее пшено кончилось. Ты будто из Москвы это увидел и взял… Спасибо, брате…
Глеб вошёл в сарай, и только тут я увидел у него в руках корчажку с мешанкой. Поставил он её на пол – со всех углов, с насестов посыпались к кормежке куры.
– Ну, зверью своему обед дал. – Щепочкой Глеб счистил с пальцев остатки месива, бросил в белую куриную толкотню. – Ни курам, ни поросёнку до вечера ничего не выноси… Пошли в дом.
В нашем баракко с тонкими стенками, засыпанными шлаком, студёно. Гулко звенят-охают под ногами простуженные половицы.
Сунулся я кружкой в ведро, хрустнуло вроде стекла.
Наклонился, вижу: у закраинок лаково поблескивают лопаточки льдинок.
– Да, батенька, пар костей у тебя не сломит. Ты так вместе с тараканами и себя заморозишь. Ты чего такую холодень развёл?
– А-а… Как отвёз в больницу, так ни разу не топил. За день вмёртвую устаю. Приду, упаду… Никакие холода не берут.
Страшно несло от окна. В верхней шибке вместо стекла зеленела сетка. С лета осталась.
– Хотя б газетой прикрыл…
– Вот теперь сам и прикроешь. Конечно, надо б стекло на место поставить. Да где… На погребку отнёс, нечаянно сапожком, – Глеб с иронией покосился на свои сапожищи сорок последнего размера, тяжёлые, в грязи, – нечайно сапожком ступнул, оно и хрусь в мелочь… А мне, – поднял глаза к верху окна, откуда катило зимой, – как-то без разницы. Всё время дует, дует… Не продует. Толстокорый я. Вот было б швах, если б то дуло, то не дуло. Перемен я не перевариваю… Ладно. Довольно трепологии. Давай к столу, а то, – кивнул на цокавший на рукомойнике с зеркальцем будильник, – обед мой кончается.
Выскок Глеб в сенцы. Не притворяя за собой двери, хвать с газа сковороду и на стол.
– Ближе подчаливай… Вот вилка, вот хлеб, вот горчица. Ну, чего не начинаешь? Ждёшь амнистии? Не будет.
– Кто же начинает со второго?
– Я! В моей дярёвне, – кривит в усмешке лицо, – будь добр, кланяйся моим порядушкам. Это я приедь к тебе на Зелёный, там бы всё по-вашему, по-городскому: пей змеиный, из пакета, супчишко да ещё нахваливай до поту. А матушка дярёвня не любит обижать желудки. Лично я предпочитаю сначала мять досхочу курятинку с лучком, что и тебе советую по-братски. А уж потом – останься в желудке место – добавлю ложку какую жидкого.
– Да где ж столько набрать курятины?
– А во-он! – пустил Глеб глаз в окно. – Сколько её по двору бегает! Пока всех порубаешь, уже весна. Опять подсыпай квочек…
Какое-то время мы едим молча.
Глеб подмигнул мне:
– Как говаривал усатый кремлёвский нянчик, что навариш, то и будэш эст. Ешь. Не спи. Замёрзнешь!
– А пугать зачем?
В окно я вижу, как под яблоню, под навес кучками вжимаются уже сытые куры. Утихомирившись, нахохлившись, каждая прячет по одной ноге под крыло. Почему они все, важные, безучастные, стоят на одной ножке? У них что, соревнование, кто дольше простоит на одной ножке? Или кто кого перестоит?
– Послушай, – говорю я Глебу. – А ты почему мне телеграмму не дал? Я б уже давно был у тебя в работниках.
По лицу вижу, Глебу не хочется об этом говорить, да и некогда. Он молча потыкал начатой румяной куриной лодыжкой в суматошно хлопавший на рукомойнике будильник. Но всё же, прожевав, грустно заговорил:
– Что письма, что телеграммы… Поднялась бы скорей… Ты думал, она у нас железная? Не-ет… Забываться стала… Пойдёт на низ, в город. Ходит, ходит по магазинам, вспоминает, чего надо взять, вспоминает – вертается ни с чем. Какая-то напуганная, потерянная. «Вы чего?» – «Я, Глеба, забула, за чим пошла в город». – «За хлебом Вы ходили». Повернётся молча, снова в магазин. А то с месяцок назад… Была у Митьки, сидела день с больной Людкой. Сошла с порожек – круги перед глазами, упала. Соседи подняли, отнесли к Митьке. Отлежалась, пошла домой. Идёт, идёт – не в ту сторону взяла с развилки. Видит, незнакомые дома, свернула. Шла среди улицы. Ка-ак машины не сбили… Хорошо, что было уже поздно, машины не бегали…