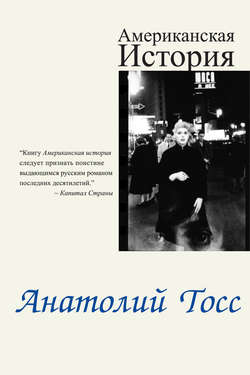Читать книгу Американская история - Анатолий Тосс - Страница 5
Глава пятая
ОглавлениеСмешно было то, что Марк действительно позвонил мне следующим утром ровно в полшестого, и голос у него был заспанный и оттого особенно теплый и милый.
– Давай вставай, пора, полшестого, – чуть-чуть заплетающимся языком пробурчал он.
– О, – я потянулась в постели, – я могла еще десять минут поспать.
– Ты же сказала: в полшестого, – все так же невнятно сказал Марк.
– Ладно, встаю, – согласилась я трезвея. – Счастливчик, ты-то небось еще спать будешь.
– Конечно, буду. В такую рань встают либо сумасшедшие, либо одержимые.
– Я одержимая, – выбрала я из двух.
– Кстати, – вдруг его голос зазвучал совершенно нормально, без намека на сонную расслабленность, – освободи себе субботу. Мы приглашены на вечер.
– На вечер? – удивилась я. До этого мы ни разу никуда не ходили, встречаясь, только чтобы увидеть друг друга. – Куда?
Мне стало любопытно.
– Какая тебе разница? Приглашены. Давай вставай, а то опоздаешь. Целую.
– Целую, – машинально ответила я и повесила трубку.
Как ни странно, но почему-то тот дурацкий разговор в кафе запал мне в душу. Возможно, потому, что это был первый случай, когда Марк был напорист, почти агрессивен со мной и не побоялся сказать неприятное. «А что, если, – вдруг неожиданно предположила я, – что, если он прав?»
Не то чтобы все эти науки, которые я изучала, очень раздражали меня, скорее они оставляли меня равнодушной. Если честно, я никогда не задумывалась, что всей этой занудностью мне придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Не потому, что мне эта мысль была непонятна, чего же может быть проще, а просто я вообще никогда не думала в терминах «всей жизни». Ну учусь, ну закончу когда-нибудь, через несколько лет, ну, наверное, пойду работать, ну, начну зарабатывать – и все, и на этом фантазия и мечта останавливались, потому что дальше и не стремились. Даже день окончания университета маячил в таком расплывчатом отдалении, что думать о нем, казалось, все равно что думать о следующей жизни, в которой я буду, может быть, кротом, хотя все же лучше белкой, хотя бы хвост пушистый.
Но после разговора с Марком я вдруг представила, что мне на самом деле придется до бесконечности заниматься этой смертельно одинаковой бухгалтерией, хоть назови ее экономикой, и сразу такая тошнотворная скука охватила меня, что я бы предпочла действительно стать кротом, или белкой, или кем мне там полагается, прямо сегодня. Не то чтобы я думала обо всех этих теориях, о которых говорил Марк, о всяком там творческом парении и прочих красивостях, а просто горизонт моего жизненного планирования отодвинулся, и я представила себя в будущем, там, где никогда почему-то до этого себя не представляла.
«Но, с другой стороны, – подумала я, – а что не занудно, что вызывает у меня одухотворенный восторг?»
И честно призналась: ничто, во всяком случае, ничто из того, что я знаю.
В школе я всегда училась хорошо, все давалось мне более или менее одинаково легко, я ничему не отдавала особого предпочтения, может быть, только к десятому классу – косметике.
В институт в Москве я поступила в тот, в котором, чего греха таить, имелись прочные знакомства. Романтическая идея призвания, так яростно проповедуемая в школе, как и все другие проповедуемые в школе идеи, в меня не запала. Сама идея призвания, особенно для «будущей женщины», казалась тогда, в той стране абсурдной.
В процессе своего незаконченного высшего образования я иногда с интересом наблюдала за незначительной группкой очень увлеченных не то радистов, не то программистов, вечно озабоченно обсуждающих всякие транзисторы и прочие острые и колкие железки, но наблюдала за ними скорее с анатомическим, чем с практическим интересом. Они, надо сказать, хоть и вызывали у всех нормальных людей, и у меня в том числе, уважение своей замкнутой увлеченностью, но я все же подозревала их… хотя даже не понятно, в чем – может быть, в отсутствии гармоничной полноценности.
Так что к субботе, к моменту, когда Марк заехал за мной, моя новая жизненная позиция выглядела приблизительно так: хорошо, я не хочу заниматься этой уже осточертевшей мне бухгалтерской гнусностью. Но чего же тогда я хочу?
По домофону голос Марка звучал привычно, как будто мы с ним почти не поссорились несколько дней назад. Когда он появился в дверях и я взглянула на него, мой взгляд беспомощно заметался, пытаясь то разом охватить его всего, то выделить отдельную деталь, но, как завороженный, не в силах был вырваться из поля притяжения, создаваемого его фигурой. Лицо мое, наверное, выражало комическое изумление и растерянность, что добавляло всему моему виду неподдельную искренность.
– Марк, – протянула я, – это ты?
Марк смущенно улыбнулся и развел руками. Он был в черном фраке, в блестящей белизной рубашке с жабо и, что было умилительнее всего, в бабочке.
– Неужто это так серьезно? – с неподдельным испугом спросила я.
Я никогда не видела его таким прежде. Когда мы встречались, он всегда был в джинсах и в рубашке со свободным воротом или в свитере – смотря по погоде. Более того, вид у него был не то что небрежный, а скорее вид человека, не обращающего внимания на свою одежду и к тому же подчеркивающего это. Мне и в голову не приходило представить его даже в костюме с галстуком, не то что во фраке. В моем воображении он ассоциировался только с этим неформальным, чуть артистическим образом, который, в общем-то, был мне привычен и нравился. Но сейчас он выглядел совсем иначе: картинка из журнала, образ из телевизионной передачи про роскошную жизнь – изящный, броский, светский и потому так очевидно не соответствующий убогой обстановке моей одинокой квартирки.
– Марк, – сказала я, потихоньку приходя в себя, – для нас нет счастья в этой жизни.
– Почему? – спросил он, принимая мой тон.
– Мы с тобой самая что ни на есть неравная пара. У меня нет шансов дотянуться до тебя.
– Мы купим тебе фрак и сравняемся, – предложил он.
Это меня успокоило. Я подошла к нему, подняла руки и, чтобы они кольцом сошлись на его шее, потянулась вверх, даже приподнялась на цыпочки.
– Нет-нет, не наклоняйся, – предупредила я его движение мне навстречу, – я сама, – и почти вплотную приблизилась к его лицу. – Марк, – несчастным голосом прошептала я, – а что, если они не продают фраки для женщин? Мы тогда пропали.
Мои губы лишь чуть коснулись его кожи, а руки на шее разомкнулись, и одна, передвинувшись чуть повыше и погрузившись в теплую густоту его волос, позволила второй соскользнуть на его грудь и продолжить скольжение вниз, ощущая каждую мышечную неровность его тела и отдавая свою, заряженную несколькими днями разлуки, энергию и теплоту.
– Во сколько нам там надо быть? – заговорщицки тихо спросила я.
– Ты чудесная, – сказал он. – Я так соскучился. – Он все же наклонился, и его губы нежно и влажно пробежали по моей шее. – Но нам надо ехать, мы не можем опаздывать.
– Ну на секунду, – прошептала я.
Он покачал головой.
– Нам надо ехать, – повторил он.
Я опустила руки и отступила на шаг.
– Вот. Вот он, пример прагматичной Америки. Вот о чем меня предупреждали бдительные товарищи, – громко сказала я и, резко сменив тему, развела руками и сказала: – Но мне действительно нечего надеть. Я не знала, что этот вечер такой важный, ты мне не сказал. Впрочем, если бы я и знала, мне все равно нечего надеть.
Я не кокетничала, с одеждой действительно приключилась обычная беда. Я ходила от гардероба в ванную и назад к гардеробу раз десять, вытаскивая разные, заведомо обреченные юбки, кофточки и рубашки, потом снова шла в ванную примерять их, ища хоть какую-нибудь разумную комбинацию.
– Ну все, – сказала я обессиленно и в отчаянии рухнула на кресло, – я никуда не поеду.
– Ну что такое? – как бы успокаивая ребенка, проговорил Марк.
Все это время он терпеливо и не без интереса рассматривал жалкие результаты тщетных моих изощрений.
– Ты же видишь, мне нечего надеть.
– Тебе сколько лет? – вдруг неожиданно спросил Марк.
«Кстати, – подумала я, – а ведь он действительно не знает моего возраста. Ведь он никогда не спрашивал, а я не говорила».
– Скоро двадцать два, – настороженно созналась я. – Это много или мало?
Он улыбнулся, по-моему, от удовольствия.
– Это мало, – заключил Марк. – Это настолько мало, что ты можешь вообще ничего не надевать, – попробовал пошутить он.
– Так ведь холодно будет, – заканючила я.
– Тогда надень вот ту черную юбочку, которую ты примеряла, эту блузку с декольте и белый пиджак. Самой юной после тебя женщине будет лет на двадцать больше. Ты в любом случае вне конкуренции.
– Ты чего? Юбка короткая слишком.
– Нормально, – одобрил Марк. – У тебя красивые ноги. Поверь мне, все только на тебя и будут смотреть. У тебя туфли на каблуках есть? – спросил он.
– Недооцениваешь, значит, – надменно произнесла я и, подумав про единственные туфли, которые купила еще перед отъездом из Москвы, добавила с вызовом: – Не иметь туфель! До такого я еще не опустилась! Но всю ответственность за мои голые коленки ты берешь на себя, – погрозила я ему пальцем, собирая указанные вещи и направляясь в ванную.
– Беру, беру, – с готовностью крикнул он мне из комнаты.
– А краситься можно? – крикнула я в ответ.
– Обязательно, – откликнулся он. – Только быстро, а то мы действительно опоздаем.
– Ну, вот где я все компенсирую, – сказала я себе, подходя к зеркалу.
Когда я вышла из ванной, одетая и накрашенная, я встретила теперь уже его изумленный и оттого еще более лучистый взгляд, и он сказал почти серьезно:
– Может, действительно никуда не поедем?
– Нет, – ответила я решительно, – у тебя был шанс, ты его упустил. Теперь я хочу на бал.
Мы спустились вниз, и Марк открыл ключом низенькую дверцу «Порше».
– Это твоя машина? – почти выкрикнула я, делая ударение на каждом слове.
Он опять смущенно улыбнулся, как тогда, когда зашел в мою квартиру.
– Так ты, оказывается, буржуеныш, – сказала я и поняла, что прозвучала не так задорно, как я хотела того. – Вообще я про тебя ничего не знаю. Ты кто? Неаполитанский принц, который инкогнито соблазняет молоденьких девочек?
– А что, если принц, ты меня больше любить будешь? – неуклюже увернулся он от моего проницательного вопроса.
– Я всегда говорила, что принцы самые закомплексованные люди на свете. – Я выдержала небольшую паузу. – После принцесс, конечно.
Я вдруг подумала, что ведь на самом деле про него ничего не знаю. Ни что он делает, ни чем зарабатывает. «Но, – одернула я себя, – какое это, в конце концов, имеет значение?»
Мы проехали минут десять молча.
– Я хотела поговорить с тобой, – наконец сказала я.
Я действительно собиралась начать этот разговор в первый удачный момент.
– Помнишь, мы говорили о моей учебе. Ну, о том, что она мне неинтересна?
Он кивнул головой.
– Я, как и обещала, думала об этом и решила, что, наверное, в чем-то ты прав.
Он улыбнулся, то ли тому, что я думала, как он и просил, то ли тому, что он прав.
– Но вот что меня смущает и что я хотела спросить. Смотри. – Я говорила медленно, как часто говорил он сам, осторожно подбирая слова. – Допустим, ты прав и мне не надо заниматься тем, чем мне не нравится, но смотри, сейчас я уверена, что, когда закончу, я смогу найти работу и зарабатывать. А есть куча профессий, которые, – я замялась, – для души, что ли, но для которых нет работы.
– Конечно, ты права. – Он согласился сразу, как бы не раздумывая. – На некоторые специальности спрос больше, да и оплачиваются они лучше, чем другие. Однако здесь есть хитрость, не такая уж, впрочем, хитрая. Заключается она в том, что человек, который очень хорош в малооплачиваемой работе, в большей мере востребован и, соответственно, зарабатывает больше, и иногда значительно больше, чем человек, который слаб в своей высокооплачиваемой профессии.
Голос его снова звучал поучительно, как будто он читал лекцию перед подростками, выбирающими тернистую дорогу в жизнь. Но почему-то это не раздражало меня так, как во время нашего предыдущего разговора.
– Сейчас я тебе скажу нечто, что не является социально корректным утверждением и что не очень пропагандируется перед широкими массами…
Я оторвала взгляд от надвигающейся в лобовом стекле дороги и с любопытством перевела его на Марка, так как в принципе я обожала социально некорректные утверждения.
– Творческих людей очень мало на этой земле. Под творческими я понимаю не образованных, не интеллигентных, не эрудированных и даже не способных, даже не талантливых, а именно творческих – тех, кто может что-то придумать, что-то создать, подойти с нестандартной, новой стороны. Короче, кто может творить.
Это не было самым социально некорректным утверждением, которое я слышала в своей жизни, и поэтому я осмелилась спросить:
– Разве в таком случае талант и творчество не одно и то же? Ты почему-то разделил их.
Он опять улыбнулся.
– Каждый творческий человек – талантлив, но не каждый талантливый человек – обязательно творческий. Поэтому творческих людей значительно меньше, чем талантливых.
– Что-то я не очень улавливаю границы, – упрямо повторила я.
Я почувствовала, что опять пытаюсь спорить с ним и доказать, что хоть в чем-то не согласна с ним и хоть в чем-то он не прав. Наверное, его менторский давящий тон начинал опять раздражающе действовать на меня.
– Ну смотри, допустим, кто-то родился с талантом спортсмена – атлетически сложенный, гармонично сбалансированный, с хорошей реакций и так далее. Он, наверное, при наличии всего прочего может стать хорошим, скажем для простоты, футболистом. Но он не станет исключительно хорошим, если у него нет таланта творчества, если он не творит на поле, не создает каждый раз или пусть хоть иногда – каждый раз трудно – что-то неожиданное, новое, чего никто не ожидает. А если на поле есть человек, который, может быть, менее атлетичен или, скажем, бегает медленнее, но имеет этот талант творчества, то он, наверное, стоит, я имею в виду и материально, но не только, больше, чем другие, более быстрые мальчики.
– Это понятно, – нехотя согласилась я. – Хотя пример из футбола не самый для меня показательный.
Я все же нашла к чему придраться.
– Извини, – сказал Марк. – Так вот о чем я. – Он задумался на секунду, как бы ловя нить мысли. – Да, творческих людей мало, – вспомнил он то, с чего начал, – но еще меньше тех, кто нашел себя, нашел то самое место, где смог максимально проявить свои способности. То есть таких счастливых случаев единицы. Для творческого человека не найти себя, не реализоваться – трагедия. Откуда, ты думаешь, берутся очереди в кабинеты психиатров?
Я пожала плечами и сделала это вовсе не из кокетства, а потому, что на самом деле не знала ничего про очереди в эти самые психиатрические кабинеты.
– Но творческий человек, попавший в правильное для себя место, – жемчужная редкость и ценится очень и очень. Поэтому, малыш, я наконец подхожу к ответу на твой вопрос.
Наконец-то, подумала я и засомневалась, сказать это вслух или нет, и решила сказать. Но Марк не отреагировал, и я решила, что могла и промолчать.
– Творческий человек в непрестижной профессии в результате добивается большего, чем обыкновенный человек в престижной профессии, по той причине, что он выходит за рамки этой профессии. То есть, например, творческий портной скоро перестает быть портным, а становится модельером, и лучшим модельером, чем другие, простые модельеры, которые с самого начала были модельерами. В результате он получает куда как больше, чем, скажем, тот же экономист, который принадлежит к изначально более оплачиваемой профессии.
Он замолчал. Мы оба какое-то время молчали. Марк затормозил у светофора.
– Так, куда тут ехать? – задумался он вслух. – Кажется, направо, – ответил он сам себе. – А потом, малыш, я знаю, это будет звучать кощунственно для тебя сейчас, но поверь мне и поверь, что потом это станет для тебя очевидным: деньги – это, конечно, важно, но, помимо них, есть еще другие, не менее важные факторы, такие, как кайф от реализации себя или кайф от пребывания в подходящей для тебя социальной среде обитания. Опять же, поверь мне – если ты не врожденный, скажем, программист, тебе будет скучно в среде программистов, а через какое-то время – тошно, тогда как программисту будет через какое-то время тошно в среде, скажем, искусствоведов. И это важно, потому что если ты проводишь на работе восемь часов в день, что составляет треть суток, то ты хочешь, чтобы тебя окружали подходящие для тебя люди с подходящими, по твоим понятиям, интересами.
Он опять замолчал.
– Знаешь, – сказала я, – ты, конечно, все правильно говоришь, но ты так серьезно развиваешь, в общем-то, понятные и иногда, только не обижайся, очевидные мысли.
Я не знаю, зачем я это сказала, наверное, опять чтобы позлить его за такую менторскую самоуверенность. Но даже если мне это и удалось, то виду он, во всяком случае, не показал. Он помолчал, а потом сказал спокойно, впрочем, все таким же гнусным тоном:
– Во-первых, в этой жизни все достаточно просто. Мы ведь не говорим о квантовой физике или микропроцессорных чипах, мы говорим о вещах, определяемых здравым смыслом. К тому же революционные идеи рождаются Шекспирами и Эйнштейнами один раз в столетие, а может быть, еще реже, а все остальное достаточно просто и является как бы доводкой идей Шекспира или Эйнштейна – это даже в сложных науках так. Но мы с тобой-то сейчас не претендуем ни на что революционное, просто так – нашу жизнь обсуждаем. Во-вторых, не относись к простоте свысока. Типичная ошибка как раз в том, что люди не задумываются о сложности простых вещей. Смешно, хотя печально смешно, то, что люди совершают ошибки в той или иной ситуации не потому, что ситуация сложна и оттого им недоступна, а наоборот: ситуация часто проста и вполне доступна, просто человек не дает себе труда задуматься и разобраться в ней и именно потому ошибается.
Марк вдруг улыбнулся, и сразу как-то голос его стал мягче, потеряв нотки поучительной занудливости.
– Однажды, несколько лет назад, – казалось, он совсем расслабился, – скорее много лет назад, я слушал по радио комментарий какого-то хоккейного специалиста. Вдруг слышу, он говорит: «Для того чтоб забросить шайбу в ворота, надо, чтобы шайба была направлена в створ ворот». Я услышал это и думаю, что за ерунда, это же очевидно, и ежу понятно: чтобы забить гол, надо, чтобы шайба попала в створ ворот. Зачем об этом по радио говорить, да еще выдавать себя за хоккейного специалиста, это же смешно. Но почему-то его простота вдруг запала в меня, и я иногда не то что думал, а скорее вспоминал тот радио-комментарий.
И вдруг однажды до меня дошло, что простота эта не такая уж и простая и определяет всю игровую хоккейную стратегию. Потому что один подход – быть изощренным, делать разные финты, обманывать вратаря – может всех удивить, но если при этом не попадаешь в ворота, то, как бы все ни восхищались твоими финтами, гола – цели игры – не будет. А можно просто, не мудрствуя, незамысловато, может быть, даже и не сильно бросить, и, если попадешь в створ ворот, глядишь, и шайба как-нибудь влетит в сетку.
И может быть, подумал тогда я, одна тактика игры лучше, чем другая, а может быть, наоборот, но это не имеет значения. Важно то, что эта, кажущаяся такой очевидной, и на самом деле такая очевидная фраза, услышанная мною по радио, определяет стратегию игры, принцип ее построения.
И еще я понял, что человек, который высказал ее, действительно профессионал и специалист в области хоккея и что он, я уверен, долго думал над вопросом, тогда как мне ничего подобного никогда в голову не приходило и не могло прийти именно потому, что я не специалист. Но самое главное, что я понял тогда, – не надо относиться свысока к простоте. Простота часто ускользает от нас, скрывая неожиданную глубину, и от нее зачастую многое зависит.
Все это время, пока он говорил, теперь уже совсем мягким голосом, будто рассказывая сказку, я вглядывалась в его лицо и вдруг поняла, наверное, в первый раз за все месяцы нашего общения… Я в первый раз поняла, что этот человек, который был так приятен мне и как собеседник, и как любовник, и как просто товарищ, с которым хорошо находиться рядом, на самом деле несет в себе и глубину, и опыт, и знание, о которых я даже не подозревала. Я вдруг осознала, что разделяют нас не только годы, но, вместе с ними, и пропасть в понимании жизни, которое эти годы приносят. Что, наверное, случались в жизни его события и эмоции, не случившиеся еще со мной и давшие ему возможность думать о таких вопросах, о которых я никогда не задумывалась, потому что они просто не приходили в мою голову, не были в рамках моего жизненного опыта.
Я вдруг почувствовала приступ особенной, ранее незнакомой нежности – странно беззащитной, оголенной и оттого еще более чувственной, готовой вылиться в какое-то особенно проникновенное действие, еще не определенное мной и потому еще не нашедшее своего выражения.
– У тебя все время слишком мальчишечьи примеры, не самые доступные для меня, – сказала я улыбаясь. – И термины странные, вот эти, как ты их назвал, хоккейные винты, что ли.
Я замолчала и, больше не в силах сдерживаться, запустила руку в его волосы, не найдя ничего лучшего, чем выразить себя в этом не самом замысловатом движении.
– Ты странный, ты знаешь это?
То ли рука моя, то ли голос все же выплеснули скопившийся во мне заряд нежности, но Марк вдруг резко рванул машину к тротуару и остановился. Он перегнулся ко мне, и я услышала чуть сдавленное дыхание.
– У тебя помада при себе? – выдохнул он, и я увидела даже в подступающем с улицы полумраке мгновенно меняющийся цвет его глаз.
Я не почувствовала ни его губ, ни языка, ни запаха его возбуждения, я больше вообще не способна была что-либо чувствовать. Потому что в голове моей вдруг помутилось, и незнакомая по прежней жизни, дурманная, почти материально осязаемая теплая волна поднялась откуда-то из недр моего тела и ударила в виски и в глаза, и сознание мое медленно качнулось и расплылось, стало неосязаемо тонким и рассеялось по всему телу, перейдя в новую, неожиданную субстанцию, и так и не вернулось в обычное состояние, даже когда он отстранился и откинулся на свое сиденье – тоже с вполне ошарашенным видом.