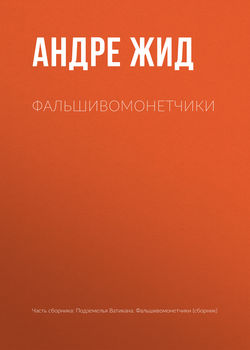Читать книгу Фальшивомонетчики - Андре Жид - Страница 14
Фальшивомонетчики
Часть первая
ПАРИЖ
XII
ОглавлениеДневник Эдуарда
(продолжение)
2 ноября
Долгий разговор с Дувье, который вышел вместе со мною от родителей Лауры и проводил меня до Одеона через Люксембургский сад. Он готовит диссертацию о Вордсворте, но по некоторым его высказываниям об этом поэте я ясно чувствую, что самые глубокие особенности поэзии Вордсворта ему недоступны. Он лучше сделал бы, если бы выбрал Теннисона. Я чувствую, Дувье чего-то недостает, он слишком отвлечен и простоват. Он всегда принимает вещи и людей за то, за что они выдают себя; может быть, оттого, что сам он всегда такой, каков на самом деле.
– Я знаю, – сказал он, – что вы лучший друг Лауры. Мне следовало бы, несомненно, немного ревновать ее к вам. Я не могу. Напротив, все, что она рассказала мне о вас, помогло лучше понять ее и в то же время породило во мне желание стать вашим другом. Я спросил у нее однажды, не будете ли вы сердиться на меня, если я женюсь на ней? Она ответила, что, напротив, вы сами посоветовали ей вступить в брак со мною. – Я хорошо помню, что он так прямо и ляпнул. – Мне хотелось бы поблагодарить вас за это – только не сочтите, пожалуйста, моего поступка смешным, я говорю с вами очень искренно, – прибавил он, стараясь выдавить улыбку, но голос его задрожал, и на глазах появились слезы.
Я не знал, что ему сказать, так как чувствовал себя гораздо менее взволнованным, чем подобало, и совершенно неспособным на ответное излияние. Я, должно быть, показался ему несколько черствым, но он раздражал меня. Все же я, как только мог горячо, пожал протянутую мне руку. Сцены, когда один предлагает больше, чем другой просит, всегда тягостны. Он, без сомнения, надеялся добиться моей симпатии. Если бы он был более проницательным, то почувствовал бы себя обворованным; однако я уже видел, что он доволен своим поступком, который, по его мнению, вызвал живой отклик в моем сердце. Так как я ничего не говорил, его, похоже, стало смущать мое молчание.
– Надеюсь, – торопливо произнес он, – что разлука с родиной и жизнь в Кембридже отвлекут ее от сравнений, которые были бы не в мою пользу.
Что он разумел под этим? Я прикинулся, что не понимаю. Может быть, он рассчитывал на протест с моей стороны, но этот протест еще больше поставил бы нас в ложное положение. Он принадлежит к числу людей, робость которых не в силах переносить молчание и которые считают своей обязанностью заполнять его предупредительностью; к числу тех, которые говорят потом: «Я всегда был с вами откровенен». Но, черт возьми, суть дела не столько в том, чтобы самому быть откровенным, сколько в том, чтобы позволить откровенничать другому. Ему следовало бы понять, что именно проявленная им откровенность мешала мне быть искренним.
Но если я не могу стать его другом, то хотя бы надеюсь, что он для Лауры станет отличным мужем, потому что, в общем, тут как раз уместны те его качества, которые я ставлю ему в упрек. Затем мы заговорили о Кембридже, где я обещал навестить их.
Почему Лауре пришла в голову нелепая мысль сказать ему обо мне?
У женщин удивительная склонность к самопожертвованию. Любимый мужчина для них чаще всего только своего рода вешалка, на которую они вешают свою любовь. С какой чистосердечной легкостью совершает Лаура подмен! Я понимаю, почему она выходит замуж за Дувье; я сам один из первых советовал ей так поступить. Но я был вправе надеяться, что она хоть немножко огорчится. Свадьба состоится через три дня.
Несколько статей по поводу моей книги. Качества, которые наиболее охотно признают у меня, принадлежат как раз к числу тех, что внушают мне наибольшее отвращение… Были ли у меня причины позволить переиздать это старье? Оно совсем не соответствует тому, что я люблю в настоящее время. Но я замечаю это только сейчас. Не думаю, чтобы как раз теперь я переменился; просто я лишь сейчас начинаю осознавать самого себя; до сих пор я не знал, кто же я такой. Неужели я всегда буду ощущать потребность в том, чтобы другое существо открывало мне меня самого! Эта книга кристаллизовалась по воле Лауры, и поэтому я больше не хочу узнавать себя в этой книге.
Неужели для нас заказана та основанная на симпатии проницательность, которая позволяла бы нам опережать время? Какие проблемы будут занимать завтра тех, кто придет нам на смену? Я хочу писать именно для них. Давать пищу еще бесформенной любознательности, удовлетворять еще не выкристаллизовавшиеся требования так, чтобы тот, кто сегодня еще дитя, завтра с изумлением встретил меня на своем пути, как друга.
Как я люблю чувствовать в Оливье эту любознательность, эту нетерпеливую неудовлетворенность прошлым…
Мне иногда кажется, что поэзия – это единственное, что его интересует. И я чувствую, перечитывая наших поэтов и стараясь воспринять их душою Оливье, сколь немногие из них были руководимы больше вдохновением, нежели сердцем или умом. Замечательно, что когда Оскар Молинье показал мне стихи Оливье, я дал мальчику совет стараться не столько подчинять себе слова, сколько отдаваться им. Теперь мне кажется, что именно его влияние открыло мне эту истину.
Каким тоскливо-, скучно- и забавно-рассудочным представляется мне сейчас все написанное раньше.
5 ноября
Обряд состоялся. В маленькой часовне на улице Мадам, где я давно уже не был. Семья Ведель-Азаис в полном сборе: дедушка, отец и мать Лауры, две ее сестры и младший брат, затем дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры. Семья Дувье представлена тремя тетушками в глубоком трауре, которых католицизм сделал бы тремя монахинями; мне говорили, что они живут вместе и с ними жил также Дувье после смерти родителей. На хорах воспитанники пансиона. Прочие друзья семьи постепенно заполняли зал, в глубине которого находился и я. Невдалеке я увидел сестру с Оливье. Жорж, должно быть, стоял на хорах вместе со сверстниками. За фисгармонией старик Лаперуз; его постаревшее лицо прекраснее и благороднее, чем в годы, когда я знал его, хотя в глазах уже не светится тот удивительный огонь, который действовал на меня столь заразительно во время уроков фортепиано. Наши взгляды встретились, и в обращенной ко мне улыбке я почувствовал столько горя, что дал себе слово непременно навестить его после церемонии. Присутствовавшие стали двигаться вперед, и место рядом с Полиной освободилось. Оливье тотчас же сделал мне знак и попросил мать подвинуться, чтобы я мог сесть подле него; потом взял мою руку и долго держал ее. В первый раз он обращается со мной так фамильярно. Глаза его оставались закрытыми в течение почти всей нескончаемой речи пастора, что позволило мне внимательно его рассмотреть; он похож на уснувшего пастуха с неаполитанского барельефа, чья фотография стоит на моем письменном столе. И я его принял бы за спящего, если бы не легкая дрожь пальцев; рука Оливье трепетала в моей как птичка.
Старый пастор счел своею обязанностью напомнить историю всей семьи, начиная с дедушки Азаиса, который был его школьным товарищем в Страсбурге еще перед войной 1870 года, а затем учился вместе с ним на факультете теологии. Я испугался, что ему не удастся закончить сложную фразу, в которой он пытался объяснить, что, приняв на себя руководство пансионом и посвятив силы воспитанию юношества, друг его в некотором роде продолжает исполнять и обязанности пастора. Затем на смену пришло другое поколение. Он наставительно заговорил также о семье Дувье, но ясно было, что он мало знает ее. Теплота чувств искупала недостаток красноречия, и изредка можно было слышать, как сморкается кто-то из присутствующих. Мне хотелось знать, о чем думает Оливье; я стал представлять, что поскольку он получил католическое воспитание, то протестантский культ, должно быть, нов для него и он, вероятно, впервые присутствует в этом храме. Исключительная способность отрешаться от своей личности, позволяющая мне испытывать как собственные чувства другого, почти насильственно наполняла меня ощущениями Оливье, ощущениями, которые, по-моему, он должен был сейчас переживать; и хотя он держал глаза закрытыми – или, может быть, именно вследствие этого, – мне казалось, что я вижу его глазами как будто в первый раз эти голые стены, тусклый, белесый свет, омывавший суровую отчужденность кафедры на белом фоне задней стены, прямоту линий, холодную строгость колонн, поддерживающих хоры, самый дух этой угловатой и бесцветной архитектуры; в первый раз глазам моим открылись ее ужасающее безвкусие, нетерпимость и скаредность. Понадобилась привычка к ней с детства, чтобы не заметить всего этого раньше… Мне вдруг вспомнилось мое религиозное рвение, мой первый пыл; вспоминалась Лаура и та воскресная школа, где мы встречались, будучи оба репетиторами младших классов, преисполненные усердия и, плохо различая, что в этом пыле, сжигавшем в нас все нечистое, было присуще нам и что принадлежало Богу. И я тотчас принялся сокрушаться, что Оливье осталась вовсе неведомой та первоначальная чувственная скудость, которая с такой опасностью устремляет душу далеко за пределы видимого мира, – принялся сокрушаться, что у него не было воспоминаний, подобных моим; но сознание, что он остался чужд всему этому, помогло мне самому освободиться от власти прошлого. Я страстно сжал его руку, которая все время оставалась в моей, но которую в это мгновение он поспешно выдернул. Он открыл глаза и посмотрел на меня, потом с шаловливой, совсем детской улыбкой, представлявшей такой резкий контраст с необыкновенной серьезностью его лба, прошептал, наклонившись ко мне, – как раз в тот момент, когда пастор, напомнив об обязанностях христианина, расточал молодым супругам советы, наставления и благочестивые внушения: