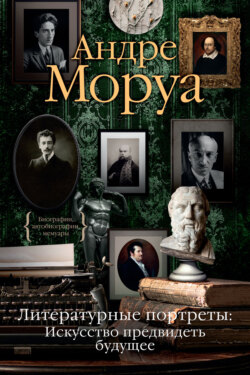Читать книгу Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее - Андре Моруа, Андре Моруа - Страница 2
Часть I
От Жида до Сартра
Вступительная заметка
Андре Жид
ОглавлениеАндре Жид, родившийся в 1869 году, принадлежит к знаменательному поколению Клоделя, Валери, Пруста, Алена. Он единственный из них был удостоен Нобелевской премии. Его трудная пуританская юность, прошедшая в борьбе со своими инстинктами, его бунты и нонконформизм, его пристрастие к коммунизму (сменившееся скорым отрешением от него) привели к блистательной старости, подобной старости Гёте. Он не только стал кумиром, но и сохранил дружеские привязанности своей юности, и вызвал интерес у новых поколений. Он не нес им никаких доктрин, никаких новых идей, потому что любую доктрину рассматривал только как защиту своей чувственности. Но может быть, в этом и состояла философия или, скорее, какая-то неведомая методика, которая не знала иной реальности, кроме полной искренности желания. Воспитанный в строжайшей дисциплине, он потряс и порвал ее путы, но при этом «возвел идею принуждения», столь необходимую его натуре, в своего рода артистический аскетизм. По стилю, как и по культуре, Жид был классиком. Он не обладал ни естественной свободой Монтеня, ни точностью мысли Валери, ни гениальностью Пруста, ни глубиной Алена. И однако, он привлекал бесконечной молодостью и горячностью. Трудно сказать, что будут читать из его произведений, но их автор оставит воспоминание об успехе тем более удивительном, что его юность, казалось, сулила только поражение…
I
Об авторе, самом любимом молодыми людьми моего поколения, в годы своей юности я не знал почти ничего. А он уже был достаточно известен, и позднее я увидел из писем Жака Ривьера и Алена-Фурнье[1], двух моих сверстников, что его произведения занимали немалое место в их юношеских мыслях. Но я был провинциальным лицеистом, к тому же в провинции весьма консервативной. В лицее Руана у меня были старые учителя, которые заставляли меня читать Гомера и Тибулла больше, чем Валери и Рембо, и самые молодые из них, если и доходили до Франса и Барреса[2], не знали Клоделя и Жида.
После войны 1914 года, во время которой я опубликовал свою первую книгу, Поль Дежарден[3], критик и профессор, пригласил меня провести несколько дней в старом бургундском аббатстве в Понтиньи с несколькими писателями, собиравшимися там каждое лето. В своем письме он заметил, что эта встреча будет тем более интересна, что ожидается присутствие Андре Жида.
Я до мельчайших деталей помню свою первую поездку в Понтиньи по узкоколейной железной дороге. Все двери были нараспашку, и из каждого купе доносились голоса писателей. На перроне рядом с хозяином дома стоял мужчина с бритым лицом, напоминавшим некоторые японские маски, лицом настолько удивительным, что от этого оно казалось красивым. На мужчине был широкий плащ, какие носят жители гор, в который он кутался с элегантной естественностью, а также широкополая шляпа с остроконечной тульей, сделанная из чего-то похожего на серый бархат. Это был Андре Жид.
Мы пешком прошли от вокзала до аббатства, и после первого же нашего разговора я был покорен. Чем? Прежде всего удивительно юной экспрессией, которая была заметна сразу – в его взгляде, в непринужденной походке, в оригинальности мысли. Ничто из того, что он говорил, не казалось банальным. В каждой теме он пытался добиться от собеседника не показного согласия, а искренности. Большинство людей схожи с граммофонной пластинкой. И стоит с ними познакомиться, как уже знаешь их репертуар. Жид всегда бывал разным. Очень оригинальным. Его свистящий голос удивил меня. Было что-то безапелляционное в его сомнениях, позитивное – в отрицании. «Обольстительное, доверительное и серьезное, – как говорил Мартен дю Гар[4], – временами с громкими выкриками, когда он хочет подчеркнуть что-то важное».
Жизнь в Понтиньи мне понравилась. Каждый день с двух до четырех часов происходила открытая дискуссия на избранную тему. Это была академическая часть пребывания, а в остальное время мы могли гулять то с Жидом, то с Мартеном дю Гаром, то с Мориаком[5] и вести беседы, более свободные и более приятные. Вечером после ужина мы собирались, чтобы «немного поиграть». Жид в этих играх был душой общества, и тогда ощущение юности выражалось в том почти детском удовольствии, с каким он включался в игру, к примеру – в литературные портреты. Один из собравшихся загадочно обрисовывал героя какого-нибудь романа, второй, расспрашивая его, угадывал. Я вспоминаю тон ответа Жида, когда мы выбрали Мефистофеля Гёте и спросили его, главу противоположного лагеря: «Есть ли такой среди ваших друзей?» Жид ответил: «Я льщу себя надеждой!» Чертовская победа.
В этих дискуссиях меня поражала его живость. Стоило ему появиться в Понтиньи, как он тут же, находясь в любом обществе, очень быстро создавал кружки, не политические, а литературные и философские. Редко случалось, что Жид долго задерживался в одном из них. Когда я обратил на это его внимание, он ответил: «А с кем мне там спорить? В споре я всегда на стороне оппонента!» Жак Ривьер отметил, что для Жида «одна идея – это главным образом множество других», а сам Жид написал: «Для меня всегда непереносима необходимость выбора». Он утверждал, что именно в противоречиях индивидуум раскрывается по-настоящему.
В приватных разговорах он признавался, что боится одиночества, что тоска, которая может довести до желания смерти и перемежается весельем в другие минуты жизни и его юношеским любопытством, являет собой некий мифический персонаж, сложный и притягательный.
Во время пребывания в Понтиньи я рассказал ему, что работаю над «Жизнью Шелли». Он спросил:
– А вы не хотите мне показать это?
Я ответил:
– Но я еще не закончил работу…
– Прекрасно, – сказал он, – я люблю только незавершенные вещи. Законченная книга вызывает у меня впечатление чего-то мертвого, чего уже нельзя коснуться. Книга в процессе написания представляется мне каким-то прелестным живым существом.
И тогда я привез ему черновик своей рукописи в Нормандию – в его дом, стоящий недалеко от моря, на полпути между Гавром и Феканом. Я сразу узнал этот дворянский белый особняк, описанный им в «Тесных вратах».
«Похожий на множество провинциальных домов предыдущего века, с двадцатью окнами, выходящими в сад, который тянется и за домом; оконные рамы разделены на небольшие квадраты… Сад прямоугольной формы окружен стенами и образует перед домом широкую затененную лужайку, через которую дорожка из песка и гравия проложена к дому».
Дом в осеннем пейзаже «вблизи моря» выглядел олицетворением спокойствия и красоты – тех черт характера Жида, которые выдавали в нем нормандского буржуа. Благородная простота его приема напомнила мне, словно гармоничный резонанс, естественное достоинство и любезность, которые покорили меня в нем при первой же нашей встрече. Я прочел ему свою рукопись. Он терпеливо выслушал меня, делая какие-то пометки, а потом высказал свои замечания, верность и точность которых меня очаровали. Немногие из людей имели такое чувство языка, как он; немногие из людей также бывают справедливыми судьями, говоря о том, что в книге необходимо, а что – пустое украшательство. На следующий день он, в свою очередь, прочел мне несколько глав из «Фальшивомонетчиков», над которыми в то время работал. Я уехал счастливый, потрясенный своим открытием – разницей между Жидом и легендой о нем.
Позднее мне все же пришлось понять, что и в легенде есть своя доля истины и что и описание Жида, которое я сделал после нашей первой встречи, не было – тоже не было – в полной мере точным. Потому что Жид не был однозначен. Впрочем, какой человек однозначен?..
II
«В том невинном возрасте, когда жаждут, чтобы вся душа была наполнена только ясностью, нежностью и чистотой, я видел в себе лишь тень, уродство и скрытность». И еще: «Это мое одинокое и унылое детство сделало меня таким, каков я есть». Поразительное признание. На основании его автобиографии критики описали Жида как некоего пуританина, который, получив слишком суровое воспитание, якобы стал борцом с уродством пуританизма своей семьи. Это общепринятое объяснение требует уточнения.
По отцу, профессору права Полю Жиду[6], Андре Жид происходил из южных протестантов (его дед был пастором), а по матери – из руанской семьи Рондо, богатых промышленников-католиков, ставших протестантами в результате заключения браков. Один из Рондо был мэром Руана, и одна из улиц города носит его имя. Обе семьи были богаты. Поместье в Кювервиле, замок в Рок-Беньяке (Кальвадос), гугенотский дом на юго-западе (Изес, Монпелье), роскошные апартаменты в Париже на улице Турнон. Жид родился богатым буржуа, выходцем из протестантской среды и только много позже, уже дистанцировавшись, заинтересовался социальными битвами своего времени.
Отец был с ним нежен и внимателен; мать «оставалась слишком озабоченной другими и их суждениями». Жан Деле[7] очень точно определил родителей Жида[8]: «С одной стороны – очарование, веселость, терпимость, интеллектуальная культура; с другой – несколько давящая серьезность, строгость в отправлении культа и морали». Юность Жида прошла в атмосфере чтения Библии, Евангелий. Кальвинистская суровость матери должна была воспитать в нем стойкость. Он ей подражал, боялся ее, уважал ее. Фрейдисты сказали бы (они и сказали), что в этом уважении к ревнивой матери нужно видеть проявление неестественной чувственности сына. Впоследствии он стремился следовать традициям бережливости и простой жизни в достатке, которые она ему передала.
Когда Жиду было двенадцать, умер его отец, и это было для него невосполнимой потерей. Никто больше не возражал против требований матери, полных ненавистной ему добродетели, «единственной заботой» которой было вытравить естественные склонности ребенка. Он обожал ее сердце, «которое никогда не допускало никакой низости, которое билось только для других», беспрестанно принося себя в жертву не столько из долга благочестия, сколько из склонности своей натуры. Но к восхищению примешивалось горькое разочарование. Мать установила тиранический режим: «Никакой длительный мир между нами был невозможен. Впрочем, я отнюдь не винил свою мать: она была в своем амплуа, казалось мне, даже когда мучила меня больше всего. По правде сказать, я не уверен, что любая мать, думающая о своем долге, не ищет, как подчинить своего сына, но также нахожу вполне естественным и то, что сын восстает против этого… Я думаю, о моей матери можно было бы сказать, что качества, которые ей нравились в людях, отнюдь не были присущи тем, на кого она обращала свою любовь, – скорее ей хотелось так их видеть. Тем не менее я стараюсь понять, зачем столько душевных сил она тратила на других, главным образом на меня… Она по-своему так любила меня, что иногда заставляла ненавидеть ее и доводила до того, что нервы мои были на пределе. Представьте себе, чем могут стать беспрестанная забота и непрерывные навязчивые советы – советы, касающиеся ваших действий, мыслей, расходов, выбора ткани для вас, даже вашего чтения и названия книг».
Действительно, во многом по вине матери юноша вырос замкнутым. Рамон Фернандес[9] употребляет выражение «зажатый», и это, возможно, точно даже в смысле физическом. Жид описал нам одежду, которую выбирали для него в детстве: «Я очень ревниво относился к одежде и очень страдал из-за того, что был безобразно и безвкусно одет. Я носил обуженные курточки, короткие штаны, обтягивающие коленки, и полосатые носки, слишком короткие, которые сползали вниз, то один, то другой, и уползали в обувь. Я навсегда запомнил самое ужасное: накрахмаленную рубашку. Мне надо было ждать, когда я стану почти мужчиной, чтобы добиться того, чтобы мне не крахмалили больше грудь рубашки. Но так было принято, так было модно, и тут уж ничего не поделаешь. Представляете себе несчастного ребенка, который весь день, во время игры и во время занятий, неизвестно для чего носит спрятанные под курточкой своего рода белые латы, которые заканчиваются эдаким железным ошейником – пристежным воротничком, – потому что гладильщица тоже крахмалила его, и при любом повороте он врезался в шею. Из-за этого любая курточка, широкая или узкая, не сидела на такой рубашке хорошо, и на ней появлялись отвратительные складки. Попробуйте-ка заниматься спортом в подобном одеянии!»
Эта накрахмаленная рубашка и этот слишком жесткий пристегивающийся воротничок являются символами детства, в котором не было места расслабленности и свободе. «Никогда, – написал Рамон Фернандес, – никогда Жид не станет настолько старым, чтобы перестать радоваться возможности носить ненакрахмаленные рубашки, просторную одежду и чувствовать себя свободным в своей одежде. И еще нужно было бы сказать о правилах, всевозможных условностях и жестких ограничениях, которые сковали его душу».
Всю свою жизнь он утверждал, что в нем борются две провинции (Изес и Руан) и две семьи (семья Жид и семья Рондо). Этот тезис, странно звучавший, позволял ему объяснять свою неспособность занять твердую позицию и склонность к резким переменам. Сочетание моральной строгости и того, что большинство людей называют пороком. С детства он страдал нервным расстройством, это факт. Schaudern[10], о которой говорит Гёте, – дрожь, сопровождаемая слезами, обостренное чувство вины, которое ему внушило одиночество, – все это заставляло его укрываться в воображаемом мире. Артистическая натура почти всегда является компенсацией за некий изъян. Совсем юным он пожелал скрыться от действительности, которая его ранила.
Из Эльзасской школы в Париже, куда определил его отец, он был отчислен за «дурные привычки». Тем не менее он успел подружиться там с Пьером Луи (впоследствии – Луисом)[11], которому признался по секрету о своем стремлении писать. Французское сочинение: первое место занимает Андре Жид, второе – Пьер Луи. Но мораль победила талант, и первый ученик по французскому оказался отчислен.
В лицее в Монпелье этот незаурядный ученик, так отличавшийся от своих однокашников, подвергся «насмешкам, побоям, травле». Его считали позером, потому что он читал стихи артистично, «поставленным голосом». Всякая школа становилась для Жида адом. Он не обращал внимания, утверждает Морис Надо[12], на упражнения в пошлости, на чрезмерную утонченность остроумия. В таких случаях он прибегал к симуляции и изображал нервный криз. Врачи попадались на эту удочку и назначали ему курс лечения. Он чувствовал сам, что становится лживым и злым. «Решительно, меня подстерегал дьявол, я был весь состряпан из тьмы, и ничто не позволяло мне предчувствовать, откуда может прийти ко мне свет. И вот внезапно случилось ангельское явление, о котором я вам сейчас расскажу, чтобы оспорить меня у Злого Духа». Этим ангельским явлением стала его любовь к кузине Мадлен Рондо.
Это случилось в 1882 году, когда ему было тринадцать лет, а ей семнадцать. Он давно любовался ее красотой, очарованием и умом. Как-то вечером он увидел, что она страдает. У ее матери, женщины весьма легкомысленной, был любовник, и Мадлен это знала. Он увидел ее в слезах, и это потрясло его – он влюбился. (Этот эпизод позднее подтолкнет его написать роман «Тесные врата».) Любовь оказала на него благотворное влияние. «Теперь моя жизнь без нее стала бессмысленной». Они вместе читали прекрасные книги, музицировали, но эта любовь не была для него связана ни с каким плотским желанием. Сексуальное беспокойство облегчалось мастурбацией. Все женщины вызывали у него страх. «Тайна женщины, если бы я смог познать ее в половом акте, но этого акта я не сделал». В общем, он оставался до двадцати трех лет одновременно девственником и развратником. Он жил, как написал доктор Деле, «в компромиссе тайного удовлетворения, отравленного чувством вины».
И тем не менее еще совсем молодым он захотел жениться на Мадлен. Это будет, думал он, мистическая женитьба. Она любила его, но встретилась с противодействием своей семьи. Ее мать к тому времени сбежала с любовником, предоставив дочери жить впредь «как ребенку, испытавшему страх». Отец ее умер, и Мадлен Рондо взяла к себе ее тетя, мадам Поль Жид, мать Андре, которая не уставала напоминать девушке об опасности принимать за любовь детскую влюбленность.
Однако той было приятно и сладостно постигать со своим кузеном, нежным и чувственным, поэзию, музыку, красоту природы. Во время каникул, проведенных в семье, они по утрам гуляли, взявшись за руки. «Благостное очарование, пришедшее тебе на память в смертный час, победит мрак». Но стоило Андре лишь заговорить о женитьбе, как мадам Жид решительно этому воспротивилась. Она судила о своем сыне с суровой простотой, увидев, что он идет сразу по двум запретным путям: «одним – от мечтаний любви и музыки, другим – от чувства вины и стыда, но в целом – путем неодолимым и навязчивым, идущим от его сексуальных наклонностей»[13]. Мадлен уже достаточно настрадалась. Нужно ли ей соглашаться на столь рискованный союз? И что может думать сама Мадлен о браке с кузеном, который говорит ей: «Я тебя не желаю, твое тело меня смущает, а физическая близость пугает».
Он признавался также этой молодой и серьезной девушке, что способен искренне разделять мысли и вкусы многих своих друзей, не совпадающие с его мыслями и вкусами. «Эта легкость, расцвеченная всеми цветами радуги, – писала она ему, – порой слишком… напоминает хамелеона». В общем, ее первым порывом было отказаться; и это стало бы благом для обоих.
Андре Жид, чтобы завоевать ее, в двадцать лет написал «Записные книжки Андре Вальтера». Они для него то же самое, что «Вертер» для Гёте. В том и другом сочинении юный романтик освобождается от романтизма, передав его герою. Потому что Андре Вальтер – это Андре Жид, и, несмотря на бессилие, которое почти всегда проявляет юность, описывая собственные страдания, автор выглядит очень похожим на своего персонажа. Слишком похожим, утверждает Мадлен. «Все это мы и о нас… Андре, ты не имел права описывать это». Но он не мог заставить себя не писать. После их совместного чтения поэтов (Верлена, Роллина) и, главное, «Интимного дневника» Амьеля[14] слишком многое переполняло его сердце. Это и называется призванием.
Есть две части «Записных книжек Андре Вальтера». В первой – «Записной книжке белой» – герой остается чистым. Он принимает боль, которую порождает конфликт между его верой и желаниями, и принимает ее почти с чувством счастья. Всю свою жизнь Жид будет находить некое наслаждение в конфликтах, в которые будет втянут. Моральная боль не бывает без сладостности, и он был, наверное, в достаточной степени членом семьи Жид, чтобы сказать, что из всех притворств гордости это – самое дьявольское.
«Те, кто ищет счастья, не поймут эту книгу, – говорит Андре Вальтер. – Душа в нем не находит удовлетворения, она дремлет в блаженстве; это отдохновение, но отнюдь не бодрствование. А нужно бодрствовать… Следовательно, лучше боль, чем радость, потому что она делает душу более жизнестойкой. Интенсивная жизнь – вот что превосходно; я не променял бы свою ни на какую другую, потому что я прожил множество жизней и реальность стала для меня пустяком».
Андре Вальтер (как и Андре Жид) испытывает страстную любовь к одной из своих кузин, Эмманюэль, – любовь целомудренную и пронизанную религиозными мыслями. Здесь прослеживается сходство с Байроном. Обоим нравится представлять свою жизнь, как бы раздираемую двумя противоположностями: с одной стороны – дьяволом, Злым Духом, с другой – ангельским видением, облегчающим влиянием утешительницы. Но Байрон в конце концов возненавидел супругу, являющуюся препятствием для кровосмесительной любви; Андре Вальтер больше всего страшится запятнать свою душу, уступив телу. Однако Злой Дух, который принимает разные обличья, иногда и друга-советчика, говорит ему:
«– Освободи душу, дав телу то, что оно требует.
– Пожалуй, – отвечает он, – но нужно, чтобы тело требовало возможного. Если я дам ему то, что оно просит, ты первый возмутишься».
И в другом месте: «Ты говоришь мне, друг, что не следует заботиться о теле, лучше предоставить ему решать, чего оно так страстно желает. Но тело развращает душу, уже однажды испорченную».
Эта боязнь тела приводит к тому, что для Андре Вальтера любовь – вечная помолвка. В «Записной книжке белой» любовный словарь, где душа играет роль гораздо большую, чем тело, эти абстрактные возвышенные рассуждения, «альпийские излияния» (как скажет позже сам Жид), напоминают Жан-Жака[15].
Вторая часть «Записных книжек Андре Вальтера» называется «Записная книжка черная». Андре Вальтер пишет роман «Аллен» – это одновременно история и Андре Вальтера, и Андре Жида. Автор, следуя методу, от которого Андре Жид не откажется и впредь (роман о романе внутри романа), знакомит нас с заметками Андре Вальтера, размышляющего о композиции «Аллена». Они очень интересны для понимания Андре Жида.
«Два действующих лица; Ангел и Зверь – противники. Душа и тело… Не материализм, но отнюдь и не идеализм. Это просто борьба двоих. Реализм требует конфликта двух сущностей. Вот что нужно показать… Есть только один персонаж или, скорее, его мозг – то место, где разворачивается драма; есть закрытое поле битвы, где противники сражаются. Эти противники – душа и тело, и их конфликт возникает в результате единственной страсти, подогревается единственным желанием: создать ангела».
Конфликт, который терзает юношескую душу Жида, и есть, следовательно, основной в романе Андре Вальтера. Но в «Записной книжке черной» торжествует Зверь.
«О Вечность! – пишет Андре Вальтер. – До каких пор, до каких пор буду я бороться, не чувствуя тебя рядом со мной? И потом, чем закончатся они, эти битвы?»
Они заканчиваются поражением. «Эволюция всегда одинакова: ум восхищается, он забывает о бдительности, и тело побеждает. Мы просим, мы снова жаждем экстаза, и эволюция начинается заново. Когда мы проходим через это несколько раз, мы уже не удивляемся; и это приводит в отчаяние». Игравшая роль ангела в его жизни, Эмманюэль выходит замуж за другого. Андре Вальтер остается один. Он заканчивает свой роман и напоследок делает героя безумным, после чего и сам умирает от воспаления мозга.
Жид проделывает здесь то же, что сделал Гёте, который, чтобы избавиться от Вертера, убил его. Выстрел из пистолета Вертера освободил Гёте. «Я называю романтичным все, что нездорово, и обычным то, что здорово», – говорил Гёте. Пистолетный выстрел Вертера убил романтизм, чтобы возродить обыденность. Юность, которая считается счастливой порой, – в действительности самый трудный и самый горестный возраст. Молодому человеку или девушке нужно пережить ужасный период, когда после чудесной детской беззаботности они вдруг открывают для себя трудности взрослой жизни, узнают злобу людей и силу страсти. Год, два, десять лет они чувствуют себя растерянными: это вертеровский кризис. Одни не выходят из него никогда, другие побеждают его цинизмом, лучшие же приходят к пониманию, по выражению Андре Вальтера, что истинный реализм есть соглашение Ангела и Зверя. «Самая большая ошибка, – писал примерно так Мередит, – это отказ признать животную природу человека». Самая большая? Нет. Первая из двух самых больших, а вторая – это отказ признать его ангельскую природу. Андре Жид в двадцать три года убил Андре Вальтера, но так и не постиг реальную жизнь.
«Для меня остается все та же проблема, и она выражается очень просто: во имя какого идеала вы запрещаете мне жить согласно моей природе и куда затянет меня эта природа, если я буду просто следовать ей?.. После публикации моих „Записных книжек“ отказ кузины, возможно, и не обескуражил меня, но он не позволил мне и впредь надеяться. И еще вот что: моя любовь была, возможно, почти мистической, и если дьявол обманул меня, заставив отказаться от мысли придать ей плотский характер, то это и есть то, чего я еще не способен понять».
Наслаждение… Отныне он был уверен, что не найдет его с женщинами. С теми, кого он любил, его сексуальность пасовала. У него (как у Руссо и Стендаля) страсть подавляла физическое влечение. Во время своего первого путешествия в Африку он имел короткую сексуальную связь с некой Улед Наиль Мериам (маленькой алжирской проституткой, которую делил со своим другом Жан-Полем Лораном)[16]. Но его мать пришла в ужас из-за боязни туберкулеза и отвращения к плотскому греху; она рыдала из-за того, чему должна была бы радоваться. Его дядя Шарль Жид, которому он по наивности рассказал о своей победе и своем освобождении, ответил с невероятной суровостью, что все аравийские ароматы, наверное, не смогут смыть этот позор. Так бестактная добродетель вернула Андре к его естественной склонности: к мальчикам. Ах, какие оттенки он находил, чтобы описать этих юных бронзовых арабов, пьяных от солнца и от радости!
III
Это неожиданное открытие или, скорее, признание в своем потаенном сладострастии освободит писателя, очень отличающегося от писателя из «Записных книжек». За периодом Андре Вальтера, полным нарциссизма, последовал период дионисизма. Пьер Луис познакомил Жида с творчеством Гёте. В Монпелье он узнал Валери и Гёте, раннего и в зените могущества; в Париже Малларме явился для него образцом литературной святости. Но более всего его завораживает Гёте. В нем он видит пример великого человека, который познал «дрожь» и который, как сам Жид, был терзаем в юности и обрел не душевное равновесие, к которому не стремился, но вступил в борьбу с позиции той «освещенной солнцем полувысоты, где сплелись хлеб и вино, то, что должно питать человека, и то, что может опьянять его».
Начиная с 1891 года Жид сезонами живет в Париже как литератор. «Стать художником! Терзаться искусством и быть покоренным им, достичь гармонии»[17] – вот к чему он стремится. Он следует моде «конца века»; он придает себе вид «страдающего скрипача», с ниспадающими волосами и задумчивой улыбкой; «он самодовольный и чопорный» (Анри де Ренье)[18]. Но уже под маской Андре Вальтера в зеркале просвечивает лицо Андре Жида. Он знакомится с Оскаром Уайльдом, тогда уже известным и успешным. Он пишет небольшие произведения, замысловатые и ироничные: «Трактат о Нарциссе», «влюбленном в самого себя и презирающем нимф»; «Путешествие Уриана», чья мысль витает в миражах и дымке; «Топи», где герой Титир – это юмористически переписанный Андре Вальтер. Жид смеется над Жидом. «Прежде чем объяснить другим свою книгу, я надеюсь, что ее объяснят мне самому». И действительно, «Топи» не столько книга, сколько ожидание книги. Нарциссу очень трудно оторваться от своих зеркал; Андре Жиду очень трудно стать взрослым.
Все его эссе и трактаты свидетельствуют об уме, ясном стиле (покуда несколько претенциозном) и таланте и все несут на себе печать эпохи. Символизм в них смешивался с новым веянием в искусстве ар-нуво. Выходило изящно, искусно и бесперспективно. Второе путешествие в Африку и новая встреча с Оскаром Уайльдом, еще пленительная, но приближающаяся к скандалу и драме, и последовавшая в 1895 году смерть матери завершили процесс его освобождения. Грубое неистовство африканской жизни, плотские наслаждения, которых он так долго избегал, и усвоенные от Уайльда уроки страсти превратили его наконец в самого себя. «Это было больше чем выздоровление; это было возобновление жизни». Уайльду он был обязан (хотя физические данные обоих мужчин очень сильно разнились) смелостью своих желаний. Странно, но, целиком отдаваясь своему желанию мальчиков, он продолжал мечтать о браке с Мадлен. Он хотел, чтобы любовь и наслаждения были разъединены. Его мать умерла 31 мая; уже 17 июня он обручился с Мадлен и 8 октября женился (после консультации с врачом, который заявил ему: «Женитесь без боязни, и очень скоро вы поймете, что все прочее – лишь ваше воображение»).
Никогда вера в правоту врача не была столь злосчастна. Комплексы (из-за сомнений его матери и сомнений жены, из-за неприятия женщины как порождения сатаны) восторжествовали над любовью, пусть даже искренней, и это супружество, которое могло бы быть счастливым, село на мель уже в свадебном путешествии, наткнувшись на подводные камни полового бессилия. Оно не пошло сразу ко дну. Мадлен Жид была несколько напугана, догадавшись о тайных утехах мужа, но сумела затаить это в себе. Она стала не женой, но сестрой и второй матерью. Позднее она испытывала ужасные страдания, видя, как во время их путешествия в Алжир он ласкает обнаженные руки арабских мальчиков или уже в Риме приводит в свою мастерскую юношей-натурщиков. Странность поведения (а к чему еще могло привести жестокосердное воспитание?) заключалась в том, что, избегая женщин, которые в глазах Жида воплощали собой грех, он сам безудержно грешил. «Ты похож на преступника или безумца», – говорила Мадлен, которая продолжала его любить, осуждая его. Тем не менее ей удалось превозмочь горькое разочарование и сделать свою жизнь с 1895 по 1915 год достаточно счастливой. Но она вынуждена была безропотно смиряться с тем, что ей часто приходилось жить вдали от мужа, с которым она не могла разделить ни его увлечений, ни радости.
Из этих увлечений, из этой непреодолимой тяги к юным ученикам родились «Яства земные», которые в 1897 году сделали Жида одним из не придерживающихся общепринятых правил, но обожаемых юностью мэтров. «Яства земные», как и «Заратустра»[19] суть евангелие в этимологическом смысле слова: благая весть. Некое поучение о смысле жизни, адресованное возлюбленному ученику, которого Жид называет Натанаэлем. Мы чувствуем, что автор вскормлен библейским лиризмом, которому он обязан своими ритмами и своей поэзией. Книга создана на одном дыхании, как стихи, как гимн, рассказ, песня, хоровод, связанные друг с другом, как обращение к Натанаэлю и как утверждение доктрины, которая кажется доктриной самого Жида. Я говорю «кажется», поскольку мы знаем, что Жид не придерживался ни идеи поучения, ни идеи доктрины.
Помимо Натанаэля и автора, в «Яствах земных» присутствует еще третий персонаж (мы найдем его и в «Имморалисте»), который в жизни Жида был тем же, что и Мерк[20] в жизни Гёте или Мефистофель в жизни Фауста. Этот персонаж представляет собой «космополита, эгоиста и сибарита», которого Жид назвал Менальком и которого иногда идентифицируют с Оскаром Уайльдом. Но, как говорил мне Жид (был ли уверен в этом сам?), это отнюдь не Уайльд – он на самом деле никто, если не облик самого Жида, одна из его личин в споре с самим собой, в котором проявляется его духовная жизнь.
Основу книги составляет рассказ Меналька, довольно близкий к тому, что могло бы быть отчетом Жида о его африканском возрождении. «В восемнадцать лет, – говорит Менальк, – когда я закончил свою учебу, с усталым от занятий мозгом и свободным сердцем, изнемогающий от жизни, с телом, доведенным до отчаяния противоречиями, я пошел блуждать по дорогам без всякой цели, изнуренный лихорадкой бродяжничества… Я проходил через города и нигде не хотел задерживаться. Счастливы те, думал я, которые ни к чему не привязываются на земле и испытывают свою горячность постоянными переменами! Я ненавижу очаги, семьи и все места, где люди думают найти отдых; все бесконечные нежности и любовные привязанности, все верности идеям и все то, что идет на сделку с условностями; я говорил, что для встречи с новизной мы должны быть совершенно свободными».
Мы находим в этом тексте главные темы творчества Жида: горение и отказ от всего, что может связать и привязать; требование быть свободным. «Я жил, – продолжает Менальк, – в постоянном ожидании сладкого и неопределенного будущего… Каждый день, час за часом, я искал только постижения самых простых вещей. Я обладал бесценным даром не погружаться в собственное „я“. Воспоминания о прошлом побуждали меня только к тому, что необходимо сделать, чтобы придать моей жизни целостность. Это было как таинственная нить, которая, связывая Тесея с его прежней любовью, не мешала ему исследовать все новые области».
«По вечерам я смотрел, как преображаются в незнакомой деревне дома, пустующие в течение дня. Возвращается отец, уставший после работы, дети приходят из школы. Дверь дома на мгновение открывается, оттуда вырывается свет, тепло и смех, потом закрывается на ночь. Ничего из этого бродягам уже не дано… Семьи, я вас ненавижу! Очаги погашены, двери снова заперты, какое завидное ощущение счастья. Иногда, невидимый в ночи, я стоял, прильнув к окну и подолгу глядя на обычную жизнь дома. Отец сидит в свете лампы, мать шьет, место старика пустует, один ребенок около отца учит что-то, и мое сердце переполняется желанием повести его с собой по дорогам…»
Вот главная идея «Яств»… Сначала доктрина негативная: бежать подальше от семей, их правил и стабильной жизни. Жид слишком настрадался от «запертых домов», чтобы на протяжении всей жизни не стращать их опасностью. Затем доктрина позитивная: необходимо искать приключения, преувеличения, горение; нужно ненавидеть мягкость, безопасность и все умеренные чувства. «Не симпатия, Натанаэль, а любовь!..» Иными словами, ценится не поверхностное чувство, которое, возможно, всего лишь подражание другим, но такое, которому человек отдается всем своим существом, самозабвенно. Любовь опасна, но это еще один повод, чтобы любить, чтобы оставить мысли о счастье, тем более если мы обречены потерять его. Потому что счастье ослабляет человека. «Спустись на дно колодца, если хочешь увидеть звезды». Жид придерживается этого взгляда: в комфортной удовлетворенности самим собой не может быть спасения – мысль, которая сближает его одновременно и с крупными христианскими мыслителями, и с Блейком. «Несчастье возбуждает, счастье расслабляет», – утверждал Блейк. И Жид заканчивает письмо одной своей приятельнице замечательной формулировкой: «Прощайте, дорогая, пусть Бог отмерит вам много счастья!»
Было бы ошибкой считать доктрину «Яств» чувственным эгоизмом. Это противоречит доктрине, где «я» (которое главным образом является преемственностью, памятью о прошлом, капитуляцией перед прошлым) стирается и исчезает, чтобы позволить человеку потеряться, раствориться в каждом мгновении возвышенных переживаний. В «Яствах» Жид еще не отказывается найти Бога, которого искал Андре Вальтер, но он ищет его уже повсюду, даже в аду: «Пусть моя книга научит тебя в любви интересоваться больше собой, чем ею, и больше всем остальным, чем собой!»
Мы не можем сказать, что Жид был антихристианин, но в христианстве он любил анархию, которую, как он верил, нашел в нем. Жид примеряет Христа на себя, и в этом он похож на Достоевского, которым так восхищался. Его «Воспоминания о суде присяжных» призывают общество вспомнить Евангелие: «Когда в суде мы находимся среди публики, мы еще можем верить в справедливость. Но, сидя на скамье подсудимых, мы повторяем слова Христа: не судите». По существу, антисоциальный призыв, если он приводит «милого мальчика» к его отцу, чтобы посоветовать младшему брату бежать[21]. От усталости человек может выбрать подчинение, но моральное величие проявляется, по мнению Жида, в отказе, в горячечном беспокойстве.
IV
Этой доктрине Жида мы можем противопоставить много возражений. Прежде всего, что этот имморалист по сути своей является моралистом; что он наставляет, хотя сам отрицает это; что он грешит, хотя ненавидит грешников; что этот хулитель счастья всю жизнь его искал – и таки нашел; что он пуританин антипуританизма и, наконец, что отказ войти в сообщество людей («запертые дома и семьи, я вас ненавижу!») означает… запереться от них.
Жид слишком умен, чтобы не видеть этого противоречия. Он сам говорит о нем в «Фальшивомонетчиках». Описывая эволюцию Венсана, он пишет: «Он человек морали, и потому дьявол одержит над ним победу, предоставив ему доводы для самооправдания. Теория исчерпывающей полноты жизни, беспричинной радости… В результате дьявол побеждает». Исчерпывающий анализ своего собственного случая. Зверь нашел хитроумный ход: создать ангела, который создаст зверя. Если имморалист – человек не нравственный, у него нет повода бунтовать. Он шел бы своим путем без колебаний.
Другое возражение: Жид говорит не о здоровом человеке, а о выздоравливающем… Жид и сам говорит об этом в новом и очень серьезном предисловии к «Яствам земным», где признается, что, когда он, как художник, писал «Яства земные», то, как человек, уже отринул их идейное содержание, потому что только что женился и по крайней мере на какое-то время утихомирился. Кроме того, он вскоре пишет драму «Саул», которую можно интерпретировать как осуждение ловцов мгновений и сенсаций. Таким образом, метания Жида между ангельским и дьявольским ни в коей мере не были прерваны «Яствами земными».
О драме говорит и то, что в конце «Яств земных» учитель сам советовал ученику покинуть его:
«Натанаэль, теперь отбрось мою книгу. Освободись. Покинь меня. Покинь меня сейчас, ты надоел мне; ты меня связываешь; любовь, которую я испытываю к тебе, слишком поглощает меня. Я устал притворяться, что воспитываю кого-то. Когда это я сказал тебе, что хочу видеть тебя таким, как я сам? Именно потому, что ты не такой, как я, я тебя люблю; я люблю в тебе только то, чего нет во мне. Воспитывать? Следовательно, кого же мне воспитывать, кроме как себя самого? Натанаэль, мне ли говорить это тебе? Я постоянно воспитывал себя и продолжаю это делать. Я всегда ценил в себе и других только способность что-то изменить.
Натанаэль, отбрось мою книгу; не довольствуйся ею. Не думай, что истина может быть найдена кем-то другим; больше всего стыдись этого. Если бы я искал пропитание для тебя, ты бы не жаждал поесть; если бы я стелил тебе постель, тебя не одолевала бы бессонница.
Отбрось мою книгу. Скажи себе четко, что перед лицом жизни у нас есть только один из тысяч возможных путей. Ищи свой. Того, что кто-то другой смог бы сделать так же хорошо, как ты, не делай. Того, что кто-то другой смог бы сказать лучше, чем ты, не говори; и если кто-то пишет лучше тебя, не пиши. Привязывайся душой только к тому, что ощущаешь в себе самом, и нигде больше. Создавай из себя – терпеливо или нетерпеливо, ах! – самого незаменимого из людей».
Если он с такой страстью требует отказа от ученика, как же не потребовать того же от самого себя? Если он испытывает отвращение ко всем идеям и доктринам, как же не испытывать отвращения к собственной доктрине? Он слишком Жид, чтобы быть жидистом. Во всех его сочинениях просвечивает его сущность. Он всегда выступал против обычая искать ее в его текстах и трактатах, из которых он, напротив, хотел бы сделать руководство к бегству. Именно быстрые прыжки Жида делают его неуязвимым. Этот Протей в душе осуждает то, за что могли бы осудить и его самого.
И теперь мы оказываемся перед проблемой, самой озадачивающей. Почему эта слабая, туманная и противоречивая доктрина так надолго стала для стольких молодых людей и девушек источником радости и энтузиазма? Прочитайте в «Прекрасном сезоне» Мартена дю Гара рассказ о том, как герой открыл для себя «Яства земные». «Эта книга жжет руки, когда читаешь ее», – говорит Жак Тибо. У многих юношей и девушек «Яства земные» вызвали страстное восхищение, которое далеко выходило за рамки литературного вкуса. И вот почему.
Почти у всех в юности за чудесным и беспечным детством, по мере открытия сложности жизни, наступает период возмущения. Это первая «пора» отрочества. Вторая – это, вопреки разочарованию, озлобленности и трудностям, открытие прелести жизни. Это открытие у нормальных людей происходит где-то между восемнадцатью и двадцатью годами. Оно делает немалую часть юных созданий лирическими поэтами.
Характер самого Жида, его необычность и сила, связанная с задержкой свободного раскрытия из-за ограниченности полученного воспитания, прошел эту вторую стадию развития тогда, когда ум Жида уже был более зрелым. Благодаря этому задержка развития позволила ему облечь свои открытия, которые являются открытиями всего юношества, в более совершенную форму. Иными словами, юношество познакомилось с одним запоздалым и неисправимым юношей, сумевшим так хорошо высказать то, что они чувствовали. Отсюда необходимость, повсеместность и привлекательность «Яств». Ученик, как в прекрасной сказке Оскара Уайльда, – это человек, который ищет себя в глазах учителя. Юные искали себя в Жиде и часто находили. Следует добавить, что единственная приемлемая для него форма любви, педерастия (что не является, как он считал, ни извращением, ни растлением, но именно любовью к детям, к юношам), приводила его к особой близости с поколением, которое он старался завоевать. Юность заразительна, и ее учителя приобретают частицу ее свежести.
Урок обретения независимости читатели Жида найдут в его «Плохо прикованном Прометее» (1899). Жид определяет жанр своей книги как соти – так в Средние века называлась аллегорическая сатира в диалогах. Прометей мнит себя прикованным на вершине Кавказа (как Жид – «цепями, шипами, ограждениями и совестливостью»), но потом он обнаруживает, что ему достаточно всего лишь захотеть стать свободным. И он отправляется гулять со своим орлом по Парижу, где делает доклад в зале «Новых лун», объясняя публике, что каждого человека пожирает его собственный орел, порочный или добродетельный, долг или страсть, и что этого орла надо кормить собой с любовью. «Господа, нужно любить своего орла, любить его, чтобы он стал хорошим». Орел писателя – это его книга, и он должен посвятить ей себя целиком. И даже если он в конце концов съедает своего орла, то все же сохраняет одно его перо, которым пишет «Плохо прикованного Прометея».
Именно в этом соти Жид впервые говорит о беспричинном поступке, совершенном бессмысленно. «Я взывал к человеку, указывая, что только животное способно на беспричинный поступок. А потом я понял, что все обстоит ровно наоборот – это животные не способны действовать беспричинно».
Мы закончили разговор о романтическом периоде Жида, но не коснулись пока иронического его периода и темы сложной натуры Жида.
V
Очень важный этап жизни и творчества Жида начинается «Имморалистом» (1902), изображением эгоизма в чистом виде, и завершается «Тесными вратами» (1909), «плодом, полным горечи пепла», – романом, в который автор вложил всю свою страсть, все свои слезы и все свое умение. В этом полуавтобиографическом романе им выведен герой, немного преображенный или нисколько не преображенный, считающий себя безнравственным и отрекшийся от себя прежнего – то есть от Жида из Бискры, зажатого сына мадам Поль Жид.
В эти годы два его театральных опыта имели успех. Пьесы «Саул», где говорилось о любви царя одновременно к уму и совершенному телу юноши, и «Царь Кандавл» – о царе, который ради высшей цели сумел отказаться от плотских утех и сопутствующих мук ревности.
В 1908 году совместно с Гастоном Галлимаром, Жаном Шлюмберже и Анри Геоном[22] Жид создает журнал и издательский дом «Нувель ревю франсез», который станет в XX веке одним из оплотов культуры Франции. Основатели, к которым присоединились Жак Ривьер и Роже Мартен дю Гар, были бескомпромиссны в вопросах независимости и бескорыстия писателя. Они работали не на публику, не ради славы, не ради прибыли, но «чтобы их орел был высокого полета». Жак Копо[23] в 1913 году создаст театр «Старая голубятня», который станет поддерживать «НРФ» и который по духу будет близок Флоберу и Малларме.
«Тесные врата» (название заимствовано из Евангелия от Луки, 13: 24) – это романтическая автобиография, история любви двоюродных брата и сестры, Жерома и Алисы, друживших с детства. Алиса (как Мадлен Рондо), узнав о недостойном поведении своей матери, воспринимает это как оскорбление Бога, которое она должна искупить своей чистотой. Она хочет, чтобы ее любовь была любовью мистической, чтобы в ней не было ничего плотского. «Казалось даже, что у Алисы больше страха перед землей, чем устремления к небу». Жером движим жалостью, энтузиазмом и добродетелью. Жид, говоря об этом романе, критиковал поведение Алисы и отрицал, что прообразом для нее послужила Мадлен. «Она была более человечна. В ее добродетели не было ничего чрезмерного, ничего преувеличенного». Алиса ищет не любовь, а абсолют. «О Господи! Охраните меня от счастья, которое я могла бы получить слишком быстро! Научите меня, как отсрочить приход счастья».
Книга, волнующая и прекрасная, в которой нет никаких символических украшательств, написанная языком точным и музыкальным. Она сделала ее автора, не без участия «НРФ», одним из известнейших авторов своего времени. К 1910 году он воспринимается уже как мэтр все более широким кругом читателей. Долгое время он был другом Валери; теперь он становится еще и другом Клоделя. Через пятнадцать лет все трое будут купаться в славе.
Что касается личной жизни Жида, то она для нас остается тайной за семью печатями; мы знаем от Геона (который до своего обращения был его компаньоном в путешествиях и ночных прогулках по Парижу), будто Жид, чтобы удовлетворить свои склонности, шел на ужасные риски. Но это не помешало ему, с его двойственным разумом, иногда задумываться о переходе в католичество. Большинство друзей подталкивали его к этому – Клодель и Шарль дю Бос[24], позднее Геон и Копо. Во время войны он одно время работал во франко-бельгийском центре помощи беженцам. Вокруг него множилось число обращенных. Сам он перечитывал евангелистов, восхищаясь их разумом и стилем и делая заметки, послужившие основой для небольшой его книги, «Numquid et tu?..»[25], которая вселила надежды в его друзей-католиков…
На самом же деле он просто примерял на себя священные тексты. Он не находил в них греха; ему нравилось думать, что Христос был воплощением любви и что это святой Павел сделал более жесткой – и исказил – благую весть. Потом вдруг Жид прервал свои занятия, прекратил молитвы, которые его сердце, сухое и рассеянное, больше уже не одобряло, а его разум видел в них лишь нечестную комедию, которую ему внушает дьявол. Истинный героизм, думал он, состоит не в молитве, не в добродетели, но в беспощадной ясности. Познать себя и состояться – вот его долг. Странный человек! Он так боялся быть лицемерным, что только усугублял свое бунтарство. Суть заключалась в том, что он был сентиментальным христианином (по воспитанию и искренности восхищения) и при этом презирал своих обращенных друзей, которые отреклись от свободы мыслить.
Все это движение, согласно Жиду (и он включил его осуждение в книгу «Numquid et tu?..»), является плодом пережитой войны, ее горестей, страхов и отчаяния. Потому что он не стал одним из тех новообращенных, чей разум не оставлял никакой лазейки, через которую мог бы проникнуть мистический дух… «Меня отвращает и тревожит дерево, способное принести ужасные плоды». Он сражается, отступая на заранее подготовленные позиции. Ветхий Адам восторжествовал в нем. С Клоделем, Джеймсом, а позднее и с Шарлем дю Босом он прекратил всякое духовное общение. Он больше не понимал их, его разум протестовал. К тому же личная жизнь целиком поглотила его. Во время войны в Кювервиле разыгралась драма. Мадлен Жид из письма Геона узнала правду о подлинной жизни своего мужа. Влюбившись в очаровательного и одаренного юношу, Жид отправился с ним в Англию. «Говорят, что я бегу за своей юностью. Это правда. Но только не за своей». Такой цинизм повлек за собой разрыв. Мадлен, глубоко уязвленная, сожгла письма мужа. Тут пострадал и автор, и человек. Только его «Дневник» (который он вел долгие годы) откроет нам теперь, что за человек он был.
После атаки на Бога, предпринятой в книге «Numquid et tu?..», история с разоблачительными письмами и пример обращенных побуждают его к сокрушительному удару в противоположном направлении, к нападению на духа зла. «Меня одолевают крайности», – говорит он и сочиняет свой «разговор с дьяволом». «Я наконец добился от него ответа: „Почему тебе страшиться меня? Ты же прекрасно знаешь, что я не существую“». Но нет, дьявол существует, не трансцендентный, а имманентный. Это он диктует Жиду его сатанизм, который является формой борьбы, иногда коварной, с его извечным врагом: лицемерной набожностью и гримасами добродетели.
Уже в 1914 году, в «Подземельях Ватикана», он объявляет войну моральному жульничеству. Это необычное повествование в жанре фарса направлено против клерикалов. Лицемерные марионетки Антим Арман-Дюбуа, Жюлиюс Баральуль и Амедей Флериссуар противопоставлены герою книги Лафкадио – некоему супер-Жиду, скрещенному с Жюльеном Сорелем[26], – ставшему жертвой обмана и настолько свободному от всяческих привязанностей, что он совершает немотивированный поступок. Он безо всякого повода выбрасывает из двери вагона (и убивает) глупца Флериссуара. Жид восхищается «искушением плохого парня». Он это испытал на себе. Разве не он провел с Анри Геоном десять «несказанных, неоценимых» дней? Впрочем, скоро он перестанет бравировать этим и поймет тщетность поиска абсолютной свободы. Потому что этот поиск сам по себе становится мотивом, и тогда действие перестает быть немотивированным. Есть мораль плохих парней, есть сообщество плохих парней, есть кодекс чести плохих парней. Что же тогда становится немотивированным?
Чтобы избавиться окончательно от всякого лицемерия, Жид хочет любой ценой освободиться от своей последней тайны – педерастии. Он не только признается в ней, он будет ее прославлять, он согласится на великое поношение. В 1924 году Жид опубликует «Коридон» – теоретическое обоснование этого, а в 1926 году – «Если зерно не умрет», свою полную исповедь. Это, безусловно, был мужественный поступок. Жид в 1924 году был тем, кого я узнал в Понтиньи, – знаменитым писателем, которым восторгались во всех странах. Таким образом, на вершине своей славы он сделал признание, которое, как он думал, уничтожит его, как то произошло с Оскаром Уайльдом. «Я считаю, пусть лучше нас ненавидят за то, какие мы есть, чем любят за то, какими мы не являемся». И стал ждать скандала и бури.
Но ничего не случилось. С одной стороны, его слава позволяла ему все; с другой – читатели уже были подготовлены Прустом и Фрейдом к тому, чтобы это все принять. Но Пруст просто описывал извращение, не восхваляя его. Пруст следовал совету, который дал Жиду Оскар Уайльд: «Никогда не говори „я“, дорогой мой». Жид осудил такую осторожность Пруста, ему хотелось доказать благородство гомосексуализма. Анри Беро[27] грубо напал на него: «Сама природа испытывает отвращение к Жиду». Массис[28] оспаривал его более лояльно. Жид не переживал из-за этих нападок и даже упивался ими. Они побуждали его вести себя агрессивнее и в других областях. Отсюда его «Путешествие в Конго» – действенная атака на некоторые уродливые формы колониализма, а позднее – его поворот к коммунизму. От евангельской морали у него остались лишь отвращение к привилегиям и любовь к обездоленным.
Одновременно с предпринятым им крестовым походом он заканчивает одно романтическое сочинение. В 1919 году появилась «Пасторальная симфония», сюжет которой он вынашивал очень долго и увлекся им в процессе работы, но закончил наспех. Прискорбно, потому что у него было все, чтобы создать превосходную книгу. Это история уже немолодого пастора, который подобрал слепую девочку и с необычайным терпением занялся ее перевоспитанием из чувства милосердия, как он думал, а на деле потому, что он ее желал. Вполне закономерно эта история должна была найти место в цикле его произведений о лицемерии, хотя здесь лицемерие героя совершенно неосознанное: пастор сам не подозревает, что он ставит евангельскую заповедь на службу своей страсти. Пруст пространно проанализировал подобные софизмы ума и сердца. Жид сделал из этого короткий, очень короткий рассказ, который позднее был экранизирован, и этому прекрасному фильму суждена долгая и успешная жизнь[29].
В это время он уже целиком отдался работе над своим первым и единственным романом «Фальшивомонетчики» (вышел в 1926 году). «Первый роман» – Жид сам так определил его в посвящении Роже Мартену дю Гару, поскольку относил свои соти, рассказы и аллегории к разным формам критики. «За исключением „Яств земных“ все мои книги – иронические и критические». В романе ему хотелось пойти дальше: жизнь, изобилие персонажей, объективность и дьявол (а когда речь идет о Жиде, мы повсюду находим дьявола – ведь Жид больше литератор, чем романист). Клод Мартен замечает, что «как спор о поэтическом звучании лежит в основе поэмы Малларме», так и техника романа для Жида много важнее самого романа. Критики отмечали, что в «Фальшивомонетчиках» (как некогда и в «Андре Вальтере») особое внимание уделено процессу написания романа. Его главный герой Эдуард пишет роман «Фальшивомонетчики». Часть «Дневника» Жида-романиста, следовательно, здесь явно присутствует. Это «роман, заканчивающийся романом, который не удался»[30]. Идея принадлежит Прусту, но его цикл «В поисках утраченного времени» заканчивается романом, который имел успех.
Как обычно, замысел «Фальшивомонетчиков» Жид вынашивал долго. По его словам, толчком к его написанию послужили заметка в «Журналь де Руан» о спекуляции фальшивыми деньгами, а также другая заметка, напечатанная в 1909 году, о самоубийствах учащихся в Клермон-Феране. Жид собирал различные факты о жизни подростков и любил писать о них. Он считал, что они дают обширный материал. Выведенный им персонаж дяди Эдуарда, романиста, позволил ему описать собственные сомнения, раскаяния, неспособность написать традиционный французский роман. «Уверяю вас, я вижу каждого из моих героев – сироту, единственного сына, бездетного холостяка». Это говорит о том, что он стремился избавиться от бальзаковских деталей. Он хотел также, чтобы его роман закончился «внезапно, не из-за того, что иссяк сюжет, но из-за своего рода перемены его контура. Он должен не закрываться, но – распылиться, разрушиться».
Эта книга, значительная по своим техническим инновациям, оказала очевидное влияние на Олдоса Хаксли, который, в свою очередь, применил похожий метод в своем «Контрапункте» («Дневник романиста»). Жид захотел освободить «чистый» роман от всех надуманных элементов, диалогов и внешних происшествий, которые присущи кинематографу. Даже описание персонажей, как представляется ему, выходит за пределы жанра. Но романист должен дать волю воображению читателя, а законченное произведение – стать книгой многоплановой, несколько перегруженной деталями. «Фальшивомонетчикам», чтобы быть великим романом, не хватает все же щедрости Бальзака и Толстого. Книга умная, художник умелый, но едкая сатира превалирует и заставляет персонажей скрежетать зубами.
В общем, в 1926 году, когда его друзья уже вознеслись высоко, когда им внимали и подражали молодые, Жид все еще пребывал в сомнении: не является ли он сам фальшивомонетчиком? Как видно из его переписки с Шарлем дю Босом, он постоянно колеблется и сомневается. Потому Эдуард, как и пастор из «Симфонии», «ищет для себя оправдания», чтобы следовать зову своего тела. Резкий поворот к коммунизму Жид сам объясняет заботой «о том, какую роль он играет в мире», иллюзией, что в нем он найдет наконец то, во что он верил и всегда искал: христианский идеал без религии, этические нормы без догматизма. Он стремится отбросить все представления своего класса – буржуазии (к которой он принадлежал с рождения и с которой связан столькими путами), желает остаться близким прогрессивной молодежи, испытывает потребность убедиться в своем избавлении. Образ общества, которое он вообразил себе, общество без семьи и без религии, воодушевлял его. Он с радостью был принят французскими коммунистами. Большой писатель, пользующийся огромным уважением, сам шел к ним. Его делали председателем на конгрессах, приглашали на митинги. «Но для меня важно сказать следующее: меня ведет к коммунизму не Маркс, а Евангелие… Это евангельские заповеди укрепили во мне презрение и отвращение к любой частной собственности, к любому захвату» («Дневник», июнь 1933 года).
Вступить в партию он отказывается, чтобы сохранить свободу выражать свои мысли. Тем не менее его политическая ангажированность и обязательства, которые она влечет за собой, кажется, истощают его творческую силу. Между «Эдипом» (1930) и «Тесеем» (1944) он написал всего несколько незначительных вещей. Как позже Сартр, он говорит, что не может слушать новые благие призывы, когда мы оглушены стенаниями. Роже Мартен дю Гар с грустью описывает Жида в 1937 году, его мимику старого бонзы с трясущейся головой безнадежно разочарованного комика. Эта маска приросла к нему во время публичных выступлений, уличных шествий, участия в конгрессах. И надо заметить, что разрыв Жида с политикой не приведет к возрождению его творческого воображения, и, как он сам признается, усталость, которая порождалась старостью, вполне объясняла застой в его творчестве.
В 1936 году Андре Жид приезжает в Москву. Эта поездка его разочаровала. Сталинизм свирепствовал. Жид отметил отсутствие свободы, навязанное следование принятым нормам, убивающее всякую критическую мысль, чудовищное незнание внешнего мира и торжество классового сознания в интересах бюрократической буржуазии. Он был огорчен и шокирован уголовным преследованием гомосексуализма и вовсе не нашел того, что, собственно, приехал увидеть: евангельскую бедность. По правде сказать, мало кто был так далек от этой бедности, как он сам – человек комфорта, не знающий истинной нужды, искренне желающий сделать счастливыми всех, но неспособный увидеть пути, которые привели бы всех к счастью. Его «Возвращение из СССР» было выходом из боя, но разве владелец Кювервиля когда-нибудь вступал в бой по-настоящему?
Вся его жизнь была долгой чередой вступления в бой – и выхода из боя. Единственное правило, которому он оставался верен, – это отказ от всяких догм. Отныне и до конца своей долгой жизни он будет проповедовать мудрость, внушенную ему Монтенем и Гёте. Его «Тесей», написанный в Алжире во время Второй мировой войны, отдаленно напоминает гётевского «Фауста». «Когда я сравниваю судьбу Эдипа со своей судьбой, – говорит Тесей, – я доволен… Это свидетельствует о том, что я одинок и приближаюсь к смерти. Я вкусил блага земные. Мне приятно думать, что после меня и благодаря мне люди сделаются счастливее, лучше и свободнее. Для блага будущего человечества я сделал свое дело. Я прожил жизнь».
Время беспокойства, казалось, миновало, и Жид вернулся к полной свободе 1920–1930-х годов. Я жил рядом с ним во время написания «Тесея» и восхищался его мощной, суровой внешностью, столь отличной от вида длинноволосого скрипача периода романтизма. Да, он выиграл трудную партию. Молодой эстет 1900-х годов, стесненный семьей и религией, превратился в старого Просперо[31], но не закопал своего волшебного жезла. «Нисколько не постаревший, – говорил Мартен дю Гар, – удивительный для своих семидесяти семи лет». Хотя «подобострастие, объектом которого он был в Алжире, оставило свои следы». По поводу смерти в 1938 году своей жены Мадлен он написал взволнованные строки: «Et nunc manet in te…»[32] «Увы! Теперь я убеждаю себя, что исковеркал ее жизнь еще больше, чем она смогла испортить мою, потому что, по правде сказать, она не испортила моей жизни; и мне даже кажется, что самое лучшее во мне – от нее». Он писал, что, «когда я перебираю в памяти наше общее прошлое, то страдания, которые она претерпела, мне кажется, спасли ее от многого… любя ее так, как я любил, я не сумел все же ее защитить… моя любовь была такой неосознанной и такой слепой». Поначалу ему казалось, что, потеряв ее, он утратил смысл жизни, но потом его необычайная жизнестойкость вернулась к нему. «В действительности, – замечает Мартен дю Гар, – он ни в коей мере не чувствует себя виновным, ответственным за страдания этой пожертвовавшей собой женщины. Он думает: „Я был таким. Она была такая. Отсюда огромные страдания для нас обоих; все не могло быть иначе“».
Почести[33] выпали на долю того, кто так обдуманно балансировал на грани бесчестья. Триумфальная презентация в «Комеди Франсез» «Подземелий Ватикана» ознаменовала его восьмидесятилетие. Его чествовали и ему аплодировали. Преданные друзья окружали Жида в старости – давние (Жан Шлюмберже, Мартен дю Гар) и новые, молодые (Амруш[34], Деле). Доктор Деле, который станет его биографом, беспристрастным и понимающим, почти не покидал Жида во время его последней болезни. Постепенно сердце слабело, и болезнь легких доконала. Писатель не очень страдал – читал Вергилия и не испытывал ни малейшего страха. Он укрепился в атеизме, не переставая оставаться христианином. Он всегда утверждал: «В вечности надо жить каждое мгновение». Мартену дю Гару он сказал: «Я не мечтаю ни о каком воскрешении… Напротив: чем дольше я живу, тем больше гипотеза о потустороннем мире для меня неприемлема». До последнего мгновения он был оживленным. В общем, жизнь получилась счастливая и триумфальная.
Теперь молодежь читает его мало. Он, кто всегда стремился – но тщетно! – найти точку опоры, не нашел ничего, за что молодое поколение, жаждущее действия, могло бы ухватиться. Он не смог предложить ему убедительную доктрину. Но он никогда и не хотел этого. Если не считать короткого романа с политикой, о чем он жалел, он хотел оставаться просто художником. Иными словами, человеком, единственное ремесло которого – облекать мысли в совершенные формы. Роль автора – строить жилище, роль читателя – его обживать. Вот таким был Андре Жид.
1
Ривьер Жак (1886–1925) – писатель и литературовед. Ален-Фурнье (наст. имя Анри Альбан Фурнье; 1886–1914) – писатель, получивший мировую известность благодаря единственному завершенному роману «Большой Мольн» (1913). – Здесь и далее в книге, кроме особо оговоренных случаев, примеч. переводчиков.
2
Баррес Морис (1862–1923) – писатель и политический деятель. – Ред.
3
Дежарден Поль (1859–1940) – историк. – Ред.
4
Мартен дю Гар Роже (1881–1958) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 г.; см. очерк о нем в наст. издании. – Ред.
5
Мориак Франсуа (1885–1970) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1952 г. – Ред.
6
Жид Поль (1832–1880) – юрист и историк, профессор римского права в Парижском университете. – Ред.
7
Деле Жан (1907–1987) – психиатр и невролог, писатель. – Ред.
8
«Юность Андре Жида» (издательство «Gallimard»). – Примеч. автора.
9
Фернандес Рамон Мария Габриэль Адеодато (1894–1944) – писатель и журналист мексиканского происхождения; во время войны – коллаборационист. – Ред.
10
Дрожь, ужас (нем.).
11
Луис Пьер (наст. имя Пьер Луи; 1870–1925) – поэт и писатель-модернист, разрабатывавший античные стилизации и эротическую тематику. Главное произведение – «Песни Билитис» (1894). – Ред.
12
Надо Морис (1911–2013) – литературный критик, историк словесности, издатель. – Ред.
13
Клод Мартен. «Андре Жид о себе» (издательство «Editions du Seuil»). – Примеч. автора.
14
Роллина Морис (1846–1903) – поэт и исполнитель песен. Амьель Анри-Фредерик (1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист. Дневник, который он вел с 1839 г., был признан шедевром психологической аналитики. – Ред.
15
Жан-Жак Руссо.
16
Лоран Жан-Поль (1838–1921) – художник, скульптор, иллюстратор. – Ред.
17
Морис Надо. – Примеч. автора.
18
Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864–1936) – поэт и писатель. – Ред.
19
Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра».
20
Мерк Иоганн-Генрих (1741–1791) – немецкий ученый, писатель, друг Гёте, который называл его «своим Мефистофелем» и писал, что Мерк оказывал «огромное влияние» на его жизнь.
21
Здесь автору, по-видимому, изменила память: скорее всего, речь идет об описании Достоевским суда над Дмитрием Карамазовым в романе «Братья Карамазовы», когда его адвокат, вспоминая Евангелие, напоминает суду присяжных: «в ню же меру мерите, возмерится и вам» (Мф. 7: 2), но Моруа отсылает к начальным словам этой главы: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7: 1). Также, по-видимому, здесь речь идет об Алеше, которого отец Паисий, его духовник, называл «милым мальчиком». Алеша действительно пришел, но не к отцу, которого уже не было в живых, а в тюрьму к Мите (старшему, а не младшему брату) и посоветовал ему бежать.
22
Галлимар Гастон (1881–1975) – издатель, один из основателей издательства «Нувель ревю франсез»; в 1919 г. открыл собственный издательский дом, до сих пор остающийся крупнейшим во Франции. Шлюмберже (Шлюмбергер) Жан (1877–1968) – писатель, журналист и поэт. Геон Анри (1875–1944) – драматург, писатель и критик. – Ред.
23
Копо Жак (1879–1949) – театральный актер и режиссер; в 1913–1924 гг. – руководитель театра «Вьё коломбье» («Старая голубятня»). – Ред.
24
Дю Бос Шарль (1882–1939) – писатель и литературный критик; см. очерки о нем в наст. издании. – Ред.
25
«Numquid et tu?..» («Откуда ты?..») – своего рода дневник, который Андре Жид писал в течение десяти лет и который стал отражением кризиса его религиозных исканий: писатель вел в этой книге поиск подтверждения Божественного существования, пытаясь оправдать свое неприятие идеи вины. Название «Numquid et tu?..» – «Разве и ты?..» (лат.) – аллюзия на евангельский текст: «Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет» (Ин. 18: 17). Тем не менее за этой книгой Жида у нас закрепился ошибочный перевод ее названия – «Откуда ты?..».
26
Герой романа Стендаля «Красное и черное» (1830).
27
Беро Анри (1885–1958) – писатель и журналист, в годы войны – коллаборационист. – Ред.
28
Массис Анри (1886–1970) – эссеист, литературный критик. – Ред.
29
«Пасторальная симфония», реж. Жан Деланнуа, 1946, Франция.
30
Клод Мартен.
31
Имеется в виду герой пьесы У. Шекспира «Буря».
32
«Отныне он (смысл жизни) в тебе» (лат.).
33
Имеется в виду Нобелевская премия (1947) и степень доктора Оксфорда.
34
Амруш Жан Эль Мухув (1906–1962) – алжирский поэт, писатель, журналист. – Ред.