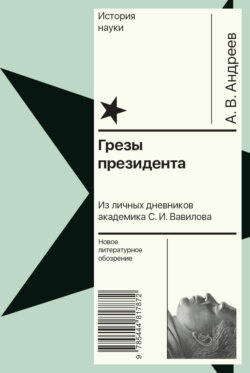Читать книгу Грезы президента. Из личных дневников академика С. И. Вавилова - Андрей Андреев - Страница 5
1909–1916
Планы, цели и мечты (1909–1916)
ОглавлениеВыдуманный мир, которого пока что нет, но который вполне может появиться в будущем, – мир жизненных целей. Некоторые дневниковые записи (часто 1 января или в день рождения) Вавилов посвящал планам и мечтам.
«Со вчерашнего дня мне пошел 20-й год. ‹…›[2] В прошлом году я пожелал себе жития на сто лет и университета. От первого, конечно, и теперь не откажусь, второе достигнуто, и теперь я желаю себе только одного, прямолинейности трамвая и скорости автомобиля на пути к науке» (13 марта 1910).
«На очереди три большие задачи 1) физика, 2) языки и 3) освобождение от всякого рода белиберды. Надо только всем существом почувствовать необходимость» (16 мая 1911).
«…я желаю счастья, воли и покоя. Сбросить все третье – вот задача на этот год. Сбросить все лишнее – усложняющее, упростить жизнь, сделать ее целой и красивой – вот и все» (1 января 1913).
«Чего я сейчас хочу? 1) Покончить скорее с моей комической работой в лаборатории. Только теперь разглядел я всю ее чепуху. 2) Найти какой-нибудь хороший исход в военной службе (а я бы, право, хотел послужить). 3) Счастья. Das ist alles[3]» (7 декабря 1913).
«Физика, милая физика, как далека ты от меня сейчас. Но, что сделать? Делай что возможно, но не упускай ее – вот первая и главная задача. // Война… а я не воин, но и тут делай хотя бы что-нибудь нужное. А остальное – ну, это просто поставить себя в условия сносной жизни, добиться хотя бы белых погон [прапорщика]» (1 января 1915).
Планы, цели, мечты, желания фиксировались в дневнике настолько часто, что сами по себе могут использоваться для периодизации жизни Вавилова.
Вначале он мечтает покончить со школой и поступить в университет. «Мелькнула сегодня в голове мысль о школе ‹…› какая же радость, что через 5 месяцев – jamais, jamais[4]. Вон из этой выгребной ямы купеческих нечистот» (2 января 1909).
Поступив в университет, Вавилов мечтает стать настоящим ученым: «Когда наука станет для меня обыденщиной, только тогда я буду доволен» (27 января 1910); «Я погружаюсь в нирвану: в старину, в искусство, а нужна наука, она единая. Я люблю ее, все остальное сор и мишура перед нею, я молюсь ей, но не вхожу в нее. „Доколь же, доколь“. О, явись sancta „vis motricis impressa“[5], помоги inertiae[6]» (16 февраля 1911); «Наука, как цель жизни ‹…› Наука серьезна, наконец нашел я это слово, и право же всерьез собираюсь я „для науки „жизни“ не пощадить“» (23 июня 1912); «Здесь, около могилы Галилея, почти клянусь делать только дело и серьезное, т. е. науку. Пусть ничего не выйдет, но будет удовлетворение» (17 июля 1913); «На свете лучшее – физика. Физика – это наука, и наука – это физика. Все остальные – с математики, астрономии до зоологии и ботаники – только ее прислужники. В физике нет ни капли служебности. Сама в себе. Быть физиком и даже таким плохим, как я, – уже счастье. Быть физиком – это значит хоть час в день чувствовать себя хорошо. С какою гордостью говорю я, что я физик» (12 октября 1913).
Стать наконец настоящим ученым Вавилову мешают две вещи: лень и неправильные, по его мнению, прежние увлечения.
Для достижения цели нужно напряженно работать! Вавилов постоянно пишет, как он хочет наконец начать делать дело, трудиться «как каменщик» (7 сентября 1910). Это одно из главных его желаний в первые пару лет обучения в университете. «…сидеть бы, да дело делать» (7 июля 1909). «Все мои дневники заполнены воздыханиями о работе, но ее не было, потому что не было необходимости, потому что ее загораживала ложно-работа – школа. Теперь свободен, мне только одно и можно и должно работать» (10 сентября 1909). «…мне необходимо делать, трудиться, заниматься как лошади» (18 октября 1909). «…дело не идет; математика плохо усваивается, и вместо вычислений начинаешь чертить карикатуры, бродишь без толку, а самому хочется работать. Это состояние самый опасный враг мой… Почему я всегда хочу работать, творю из работы бога? Сам не знаю почему. В работе я чувствую себя здоровым, свежим, без нее я делаюсь меланхоликом» (9 января 1910). «Мне надо, необходимо, неизбежно делать. Но я… могу помечтать, могу чуть-чуть поработать, стряпать планы, читать газеты, но мало, слишком мало дела…» (1 февраля 1910). «Нужно или еще ускорить шаг раза в три, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть, или опять heu mihi[7] обратиться вспять. Завожу старую волынку: дай, мол, попробую первого» (20 февраля 1910). «Каждый день я собираюсь начинать, откладываю на другой день и не делаю ничего. Что делать? Не что, а просто „делать“, в этом и ответ» (26 апреля 1911).
На пути к поставленной цели стать настоящим физиком Вавилова постоянно отвлекали его неправильные увлечения – литература, поэзия, искусство. Подросток Вавилов, судя по всему, считал себя «гуманитарием» и даже, более того, философом. В интеллектуальном кружке одноклассников «диапазон вопросов был громадный: философия, литература, искусство и политика (правда, в очень умеренном виде). Но вывозить приходилось мне» ([Франк, 1991], с. 117–118). Также Вавилов с подлинной страстностью относился к живописи и архитектуре, занимался, как он сам выражается, «вопросами искусства»: «…вот уже три года, как я более или менее сильно занимаюсь этими вопросами, и главным, конечно, о сущности искусства» (12 января 1909). Многие и многие страницы дневников посвящены описанию увиденных в Италии картин, мыслям о любимых художниках (Леонардо да Винчи, Джорджоне, Пьеро делла Франческа и др.). Также Вавилов очень много читал. В дневнике часто цитируются Пушкин, Тютчев, Фет, Баратынский. Любимые писатели Вавилова – Гоголь, Гофман, Достоевский, Франс. Неоднократно упоминаются Д. С. Мережковский (1866–1941), В. С. Соловьев (1853–1900), В. В. Розанов (1856–1919). Наконец, Вавилов не только читает, но и сам пишет – стихи (подборка стихов Вавилова приведена в конце первого раздела). Он часто ходит в театр, на концерты. Именно с этой всей «белибердой» Вавилов и вступает в борьбу на пути в «настоящую науку». «Как бы хорошо сейчас освободиться от лишнего груза, приставшего за 20 лет бытия, и оставить только физику» (5 июня 1911). «Надо бросить под печку поэзию, а браться за науку» (4 сентября 1911). «…пора бы мне, может, и плюнуть совсем на картины… и даже на Италию и заняться физикой. Там единственно несомненное, важное, серьезное и святое, и интересное» (30 июня 1913). «…плюнуть на искусство и уйти совсем в науку» (14 июля 1913). «К черту искусство и прочее» (25 июля 1913). Единственное отвлечение от науки, которым Вавилов не готов пожертвовать, – книги. На фронте он порой буквально изводится без нового чтения, мучительно ждет посылок из дому с книгами (и с шоколадом). Часто пишет примерно так: «Думаю о прошлом, мечтаю о будущем, о Москве, матери, о книгах. А настоящее sei sie verfluchkt[8]» (29 ноября 1914). «Думаю только о себе, Лиде (сестре. – А. А.), матери, книгах и о конце» (30 ноября 1914). Еще примерно в десятке записей военной поры Вавилов мечтает буквально через запятую о родном доме и о книгах. И примерно столько же – об уютной лаборатории с библиотекой. «Вот попаду снова к себе, „к книгам милым“ моим – тогда все пойму и оценю, а сейчас я все время живу как оглушенный» (30 июня 1915). «…больше, чем когда-либо, хочется бежать домой к книгам, в лабораторию и забыться» (18 июля 1915). «Скорее бы хотя бы самообман книг, старых запыленных книг» (21 октября 1915). «Поскорее бы к книжкам и опомниться» (16 декабря 1915).
Многие зафиксированные в дневнике желания, планы и мечты Вавилова не особо интересны: путешествовать, изучить иностранные языки, сдать экзамены и т. п. В армии Вавилову хочется домой (около двух десятков записей), поехать в отпуск, он мечтает перевестись в другую часть (с десяток записей) или получить звание прапорщика. Также он, разумеется, мечтает о победе, скором конце войны.
Его прежние, «довоенные» мечты приобретают на фронте новый облик. Собираясь в армию, еще не зная о будущей войне, Вавилов довольно наивно планирует (16 июня 1914) продолжать заниматься наукой: «Буду заниматься физикой ‹…› а на сон грядущий читать романы. Завел себе толстые тетради 1) для выписок, 2) для кратких рефератов, 3) для физических соображений. // Это 3-е главное дело, ибо безусловно необходимо найти собственную (т. е. независимо от П. П. [Лазарева]) тему работы. Меня все время влечет проблема гравитации… Это бесспорно наиболее ценное в физике» (16 июня 1914). Далее на протяжении всех лет войны примерно в десятке записей он действительно упоминает Gravitationsproblem (как предпочитает ее называть), 27 октября 1915 г. обещает решению этой проблемы посвятить жизнь. «От тоски (иногда раздирающей) спасаюсь у физики, начинаю опять обдумывать разные проекты, как бы экспериментально зацепить „Grav[itation] problem“» (30 октября 1915). Фронтовая реальность вносит коррективы, Вавилову приходится мечтать уже не о занятии столь утонченными темами, а вообще хоть о какой-то физике. «Следовало бы физику не забывать и хотя бы мечтать физически. ‹…› Господи, дай скорее вернуться к физике! (до того скверно, что плачу, когда пишу эти строки)» (29 сентября 1914). Десятки раз Вавилов буквально грезит о науке. «…в сладком сумраке рентгеновского кабинета как хорошо бы делать рентгенограммы и копаться в загадке вещества…» (12 октября 1914). «Оживляешься ведь, в сущности, единственно надеждой на конец. Как одеревенеет за эти ½ года моя физика, бедная физика, попробую хоть помечтать о фотохимии и Gravity Problem etc.» (4 ноября 1914). Он сам называет это ощущение «тоской по физике» (6 декабря 1914). «…перед глазами опять Москва, книги и физика» (25 марта 1915). Летом 1915 г. Вавилов пишет в армии и отсылает в Москву короткую заметку (к сожалению, концептуально неверную) о методической ошибке в знаменитом опыте Майкельсона, давшем толчок возникновению теории относительности, ее публикуют в «Вестнике опытной физики и элементарной математики». В мае 1916 г. Вавилов добивается перевода на радиотелеграфные курсы и затем в соответствующие подразделения армии и гвардии, начинает увлеченно работать со сложным радиооборудованием (в 1919 г. он даже публикует научную статью по итогам этого эпизода своей жизни), и острая тоска по физике немного стихает.
Однако описанная «тоска по науке» проявляется также еще и в более сложном и интересном комплексе образов. Можно обозначить его вслед за самим Вавиловым словами dumpfes Mauerloch. «Verfluchtes dumpfes Mauerloch» – это описание чернокнижником Фаустом своей тесной захламленной лаборатории в трагедии И. В. Гете «Фауст» (сцена 1), дословно – «проклятая скучная дыра в стене». Вавилов использует это немецкое выражение для обозначения лаборатории и, шире, своего идеала занятий наукой. «В эти тяжкие минуты погрузиться бы в океан книг, замкнуться в свой dumpfes Mauerloch, корпеть над Gravitation’s Problem» (10 июня 1915). Перед войной Вавилов трижды пишет о своем разочаровании в лабораторной работе, наступившем после смерти П. Н. Лебедева, например так (26 апреля 1913): «Еще одно страшное желание приходится выговаривать, надо постараться покончить с лабораторией». Но образ не конкретной московской людной лаборатории, а лаборатории абстрактной, обобщенной, становится одним из навязчивых образов в его армейских мечтаниях о занятиях наукой. «Запереться бы от всяких газет и войны в лаборатории с библиотекой» (1 октября 1914). «Mauerloch с книгами и лабораторией лучше всякого мира» (8 октября 1914). «Суждено или нет мне то, о чем мечтаю, – тишь лаборатории и библиотеки» (18 марта 1915). К этому образу дополнительным штрихом неожиданно становится лес и монастырская келья. «Мне только два пути спасения „in Museum“[9] и „в лесу“» (20 апреля 1916). Еще до армии Вавилов дважды пишет: «…я всерьез иногда думаю о монастыре. ‹…› Книги, келья и лес – больше ничего не надо» (15 июля 1913), «…высшим счастьем теперь кажется уйти в лес. ‹…› Но в лес я хочу с книгами. ‹…› Ах, книги, лаборатория и лес – вот и paradiso ritrovato[10]» (28 января 1914). Этот образ сохраняется и в последующие годы. «Смотрю на леса на горизонте, синие и дикие. Хорошо бы убежать в эту дичь и чащи и поселиться где-нибудь под землей, под мхом и корнями, зажать уши, не слушать выстрелов, не говорить о безнадежной войне, читать, работать в лаборатории и в конце концов так умереть» (27 августа 1915).
Стремление к уединению, поиск «блаженного одиночества» (по-немецки «seliger Einsamkeit», как в 1915–1916 гг. предпочитает писать Вавилов) – одно из самых частых – наряду с мечтами о науке – состояний Вавилова, фиксируемых им в дневниках 1909–1916 гг. Во многом это объясняется спецификой армейской службы: Вавилов вынужден постоянно находиться среди чужих ему людей – «За день изредка выдаются минуты, когда остаюсь один, в тишине, эти минуты считаю блаженными. Но они так коротки и их так мало. Одинок изредка на улице…» (6 марта 1915), «…ни минуты блаженного покоя» (23 ноября 1915) – таких записей очень много. Однако дело не только в специфике армейской обстановки. Во-первых, схожие записи Вавилов делал и до армии, в школьные и в студенческие годы (пусть и реже, и обычно в оправдание своего безделья: мол, мешают работать, «исчезает „мудрое одиночество“» – 16 февраля 1911 г.), тяга к уединению была присуща ему уже тогда: «…приятно бы полежать неделю в больнице…» (20 февраля 1914). А во-вторых – тут можно вспомнить воображаемую желанную келью-лабораторию, – такое стремление к уединению было вызвано отнюдь не бытовыми причинами. Оно отражает важную общую особенность мировоззрения Вавилова. 22 апреля 1910 г. он делает замечательную запись: «Читал сегодня шлиссельбургские письма Морозова и, ей Богу, позавидовал его участи. Оно, конечно, на 25 лет, это уже слишком, нет, а так годика 3–4 быть заключенным, для меня было бы прямо счастьем. ‹…› Да, ей Богу, мне страстно хотелось бы быть заключенным или, вернее, отъединенным». 8 ноября 1914 г. похожая запись, более лаконичная: «Пойду в монахи и буду мечтать». Об этой особенности мировоззрения – индивидуализме, философской сфокусированности Вавилова на собственном «я» – подробно речь еще пойдет позже. Пока же, чуть забегая вперед, можно привести запись, показывающую, что сам Вавилов понимает эту свою особенность – во всей ее сложности и противоречивости. «Самое сладкое и самое ужасное в жизни – Einsamkeit. В эти дни, часы и минуты человек себе хозяин и творец своей жизни. Все чужое, подневольное простительно, но если Einsamkeit стала скукой – это преступление. Перед кем? Бог знает. Но на душе тягость страшная. Если не вынесешь Einsamkeit, тогда беги, хватайся за первую зацепку, чтобы тебя закрутило, завертело, чтобы ты себя забыл. Но если Einsamkeit – творчество, тогда это достигнутое счастье, и единственное счастье на земле» (13 июня 1916).
Желания Вавилова относительно его места в социуме также противоречивы. Презрение к обществу или показное безразличие чередуется с обидами на него. «Хочу я быть профессором, но и то вовсе ни для развития наук, ни для собственной славы, ни для просвещения юных умов. Так, одно возможное слово – так. Как? не знаю сам» (23 сентября 1909). «…как я желал бы сделаться определенным лицом на мирской ярмарке, все равно кем, только бы не сумасшедшим» (12 декабря 1911). «Говорю прямо, я хочу быть eigenartig[11], да не только хочу, а просто другого исхода не вижу; по временам затертый в среде засаленных пятаков чувствую себя ужасно» (21 октября 1911). «Почувствовать себя человеком среди людей и в пафосе кричать: // Vivat academia // Vivant professore[12] // так непонятно мне иногда. Но сегодня этот пафос у меня есть, и я с радостью сливаюсь с общим хором и кричу: „Gaudeamus“» (12 января 1912). «Весь ужас в одиночестве. Или, опять не так, если бы одиночества этого не было бы, не было бы и человека, а была бы просто пространственно-временная частица общей машины. Ведь к чему стремишься? 1) Быть со всеми, 2) быть первым. Все вещи неприятные» (26 декабря 1912). «…я ничего не хочу, никем быть не желаю, я желаю счастья, воли и покоя. Сбросить все третье – вот задача на этот год. Сбросить все лишнее – усложняющее, упростить жизнь, сделать ее целой и красивой – вот и все. ‹…› Простота, ясность, равнодушие, воля и покой. И пусть год будет самоценным – не для других, а для себя. Пусть каждый день будет как последний. ‹…› Улучшить самого себя – остальное приложится» (1 января 1913).
На примере смены желаний и мечтаний Вавилова относительно окружающих людей можно впервые заметить то, на что еще не раз придется обращать внимание: Вавилов постоянно противоречит сам себе. Описанный выше гимн «блаженному одиночеству» никак не вяжется с его мечтой наконец найти друга: «Не появляется „истинного друга“, моей заветной мечты» (16 февраля 1911), «Мое самое заветное желание найти „alter ego“» (2 августа 1913). Призывая себя «плюнуть на искусство», в другой раз он пишет: «Ай-ай, как хорошо будет после войны и службы заняться Пьеро, Греко и прочей ерундой» (29 сентября 1914).
Противоречивы и желания Вавилова в связи с войной. Вначале он и вовсе пытается «найти какой-нибудь хороший исход в военной службе» (7 декабря 1913). На протяжении всех дневников периода Первой мировой он неоднократно фантазирует о кардинальных стратегических переменах в войне, наступлениях, победах (признается в записи от 28 октября 1915 г., что, собираясь в армию летом 1914 г., купил путеводитель по Германии и до сих пор его с собой возит – надеется, что пригодится). Иногда скатывается до ура-патриотических пассажей. В середине – конце 1915 г. Вавилов даже задумывается, не лучше ли на линии огня, чем в относительно безопасных инженерных частях: «Однообразие начинает тяготить, попасть бы хоть под огонь и немного разогреться» (29 июня 1915), «…чувствую себя неловко, совестно и хочется в пехоту» (25 ноября 1915). Он хочет или «службы в пехоте, или selige Einsamkeit[13]» (28 ноября 1915). Но чаще всего Вавилов все-таки хочет просто прекращения войны. «Молю Бога об окончании войны» (23 ноября 1914). Он несколько раз загадывает даты, когда война кончится. И просто мечтает оказаться вне этого ужаса: «Читать мешают. Плакать нельзя. Бежать, бежать. Когда же я спасусь, и спасусь ли» (25 ноября 1914).
В дневник Вавилов записывает не только свои стихи, но и творческие планы. 16 февраля 1911 г. он признается, что мечтает написать своего собственного «Фауста». По всей видимости, это первое (если не считать неоднозначной записи от 11 января того же года) упоминание о так и не написанном произведении, которое он называл «Фауст и Леонардо» (или «Леонардо и Фауст»): «От скуки хочу спасаться творчеством, а не написать ли моего Фауста. Вот я куда гну, хотя, конечно, из этого ничего не выйдет» (28 мая 1915), «Мелькнуло желание (старое) написать „Леонардо и Фауст“» (16 ноября 1916) – начиная с 1939 г. этот воображаемый трактат будет упоминаться неоднократно. Изредка упоминает Вавилов и другие свои литературные планы, в крайне широком диапазоне: «…в Италии должна создаться теперешняя моя философия, научный эстетизм» (15 июня 1912) – «…следовало бы написать оду картошке и проклятым вшам. Может быть, и займусь» (5 ноября 1914).
Особый интерес представляют записанные в дневнике желания и мечты, относящиеся не к обстоятельствам происходящего вокруг Вавилова (учеба – наука, военный быт и т. п.), а к его внутренним переживаниям и исканиям.
Разбираясь в самом себе, он, например, писал, что нужно «голову в порядок привести, а то от сумбурных мыслей чуть с ума не схожу» (7 июля 1909). «Надо научиться управлять настроением ‹…› Мне теперь нужно глубокое спокойствие, равнодушие и Selbstregulierung[14]» (16 августа 1913). Неоднократно Вавилов признавался, что жаждет каких-то неконкретизируемых перемен: «Я жду все перелома ‹…› во мне энергии порядочно, но вся она в мелочах, в сотне разных видов и толку, эффекта от нее весьма мало; так вот превратить все эти энергии в одну определенную, научную, сделаться машиной экономной, в этом и весь перелом» (19 ноября 1911). 28 октября 1916 г. Вавилов отмечает: «Появилась у меня очень скверная философия. Все равно, всё пустяки, и все равно придется умереть. ‹…› С ней надо бороться, побороть ее и создать хотя бы что-нибудь святое в жизни».
Сам процесс мечтания также зачастую вполне осознан Вавиловым: «…хотелось уединиться, подумать, помечтать, почитать» (7 июля 1909), «…могу опять медлительно думать и мечтать» (11 ноября 1915). Порой он прямо мечтает мечтать: «Посидеть бы и помечтать» (11 октября 1914), «…устал, остался 1 час бодрствования, были бы книги или газеты, улегся бы, и начал читать и мечтать» (1 июня 1915), «Ищу опять покоя и медлительной мечтательности» (2 марта 1916).
Также часто Вавилов мечтает заснуть. «Хорошо бы заснуть недели на 2, проснуться и посмотреть „цо новéго“[15]. Возможно все. Получать новости такими „двухнедельными квантами“ было бы хорошо и совсем нескучно» (1 октября 1914). «…заснуть месяца на 2» (6 июня 1915). «Заснуть бы месяца на три» (22 августа 1915). «…хочется заснуть и ни о чем не думать» (14 августа 1915). «Ах, скорее бы домой, успокоиться, уснуть» (17 ноября 1914).
Вавилов очень любил «философствовать» (его собственное выражение). И само по себе это занятие то и дело становилось объектом его желаний. Вначале в основном с отрицательным знаком (он относил его к уже упоминавшейся «белиберде», с которой нужно бороться на пути в физики). «Я все время (вот уж года 3) философствовал, все мое дьявольское „ни туда, ни сюда“ – именно отражение этого» (16 февраля 1909). Тем не менее Вавилов продолжал много «философствовать» в дневнике и иногда прямо признаваясь в сохранившейся любви к этому занятию: «Слава Богу, опять я остался один с собою самим. Пофилософствуем» (8 июля 1913), «Хорошо бы пространственно изолироваться, освободиться от „патрулей“ и всласть, на свободе, пофилософствовать» (29 сентября 1914).
2
В приводимых цитатах везде далее пропуски обозначаются угловыми скобками, вставки – квадратными.
3
Это все (нем.).
4
Никогда, никогда (фр.).
5
Святая «запечатленная движущая сила» (лат.).
6
Инерция (лат.).
7
Увы (лат.).
8
Будь оно проклято (нем.).
9
«Museum» – место, посвященное Музам, т. е. место ученых занятий, библиотека (лат.).
10
Обретенный рай (ит.).
11
Своеобразный, особенный (нем.).
12
Да здравствует университет, / Да здравствуют профессора (лат.).
13
Блаженное одиночество (нем.).
14
Саморегулирование (нем.).
15
Co nowego (польск.) – что нового.