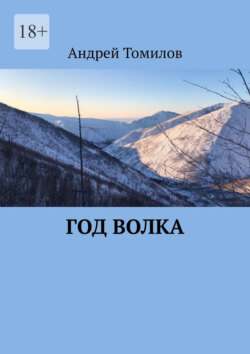Читать книгу Год волка - Андрей Андреевич Томилов - Страница 10
Мы одной крови
ОглавлениеВ сибирских, таёжных деревнях, посёлках зачастую принято навеличивать друг друга. Называть по имени и отчеству. Порой, даже рассмеяться хочется от того, что кто-то, обращаясь к пареньку лет семнадцати, восемнадцати навеличивает его. Или, того пуще, когда по имени, отчеству называют опустившегося селянина, грязно развалившегося на крыльце сельповского магазина.
И просто в разговоре между собой, женщины, упоминая о ком-то, непременно назовут его по имени и отчеству. Не всегда так, но очень часто. Чуть школу закончил, купили родители костюм, чтобы было в чём в жизнь идти, и тут же, словно приклеили отчество. Ещё, как бы и не заслужил, а с другой стороны, это возвышает, обязывает блюсти себя.
Но, как говорится, из любого правила всегда есть исключения.
Федюня и родился здесь, на самом юге Хабаровского края, и живёт, не думая, что можно куда-то уехать за лучшей долей, да и есть ли она где-то, лучшая доля. Так и живёт в своей деревне, не бедной, даже развивающейся за счёт промысла зверя разного, да народившегося недавно лесного промысла, когда начали осваивать лес широко, размашисто, начисто оголяя ближние сопки, да распадки, проделывая туда дороги для техники невиданной. Техника та уж не по одному бревёшку тянула к посёлку, а целыми охапками, будто старалась быстрее и быстрее извести тайгу, перемалывая при этом гусеницами и подрост молодой, и нарушая все ключики да ручейки. И не замечал никто этого, да и не хотел замечать, лишь одно, поистине волшебное слово решало и определяло всё: план!
Федюня уже в школу бегал, когда леспромхоз открыли и можно сказать, что босоногое своё детство паренёк провёл без душных выхлопов лесовозов, да натужного урчания трелёвочных тракторов, от которых аж земля вздрагивает.
Школу закончил, можно сказать, отличником, всего-то две четвёрки. И не бедовым рос, не то, чтобы тихоня, но пакости не творил, к соседям относился уважительно.
А вот, не дали ему отчества, не дали. Как был Федюня, ещё с дошкольного детства, когда шнурком за дедом таскался на речку, на рыбалку, так Федюней и остался. Может это оттого, что отца у парнишки никогда не было, откуда взяться отчеству, если отца нет.
А теперь уж четвёртый десяток разменял, у самого вон, двое спиногрызов погодков поднимаются. Да и ладно. Давно уже стали звать Фёдором. Жить можно. Скандалов серьёзных ни с кем не водил, зла ни на кого не держал, и на него никто не бычился, не смотрел из-за бровей. Радовался жизни, с самого детства мир узнавал с широко открытыми глазами.
Директор в промхозе сменился, всех стал навеличивать, по ручке здороваться, сигаретами дорогими угощать. Но хватило не на долго. Уже через месяц как-то само собой случилось, что отчество отпало и все, и директор тоже, стали привычно окликать его просто Фёдором. Про себя улыбнулся, но возражать не стал. Может на роду так написано.
В промхозе, а правильнее сказать в госпромхозе, Фёдор работал давно. Ещё с дедом грибы да ягоды таскал на сдачу государству, папоротник по весне собирал. О-о! на папоротнике хороший заработок был, присесть отдохнуть не хочется. По три раза за день полные мешки пучками уложенного папоротника вытаскивал на заготовительный пункт. Денежки промхоз сразу платил, за каждую партию. Радостно.
А ещё пуще радость, когда мать, принимая от него вечером деньги, заработанные за день, всплеснёт руками, словно птица крыльями, и, ну его обнимать да целовать.
– Работник ты мой! Да золото ты моё! Да как же ты быстро бегаешь, что столько заработал. Ба-тю-шки!
Внутри становилось тепло и хотелось ещё и ещё смотреть, как мамка пересчитывает деньги. До копеечки…
А ночью, ещё и уснуть не успев, просто чуть глаза прикроешь и видишь: стеной стоит папоротник, стеной. И весь как на подбор, ровный, да толстый, а закрученные головки все в одну сторону повёрнуты, будто смотрят на тебя и улыбаются.
Утром, чуть свет, бежал торопливо к конторе, где уже ждала машина, а в кузове полно пацанов, женщин, да мужиков. Вот с тех пор и причислил себя Федька к промхозу, как к чему-то родному и близкому, без которого и жить-то не знамо как.
Особенно сроднился с хозяйством, когда на каникулы зимние попал к дядьке на участок. Ходил там на лыжах, разводил костёр и сам кипятил в котелке чай, учился обдирать белку и правильно обрабатывать шкурку. Посмотрел живого соболя.
Деда в то время уж не стало, а отца и никогда не было, вот дядька и взял шефство над парнем. То сети проверить возьмёт, то на перелёт, утку стрельнуть. А тут и вовсе, с участка приехал на снегоходе, специально, чтобы пацана в тайгу вывезти. Тогда снегоход в диковинку был, только, только стали завозить их в глубинку, да не всякий охотник мог себе позволить такую роскошь. Попусту такую технику драть не будешь, только по делу использовали.
Две недели счастья! Федьке казалось, что дни таёжного счастья уж больно быстро пролетают, больно быстро.
Ночевать в зимовье, под тёплым собачьим одеялом, на матрасе, набитом душистой лесной травой пикчей, рядом с таким сильным и смелым дядькой. Это ли не счастье!
А когда в капкане оказался живой соболёк, дядька пропустил паренька вперёд и тот вихрем долетел до мечущегося зверька и сграбастал его, не хуже молодой собаки, без какой-то предосторожности. Даже и не почувствовал, что мелкие, но очень острые зубы пробили крепкую шубенку и прилично достали руку. Именно тогда проснулся в парне азарт к промыслу. Родился охотник.
Когда возвращался из армии, честно отслужив положенные два года, от райцентра подъехал на попутке и попросил остановить именно у промхозовской конторы, не доехав до дома один проулок. Заскочил на крыльцо, улыбаясь настолько, насколько могли растянуться губы.
Дома после дембеля и дня не высидел, вышел на работу. Вышел, теперь уже полностью самостоятельным, с записью в трудовой: принять штатным охотником такого-то госпромхоза, с такого-то числа, месяца, такого-то года. Гордился этой записью и радость скрыть не пытался.
Правда, директор не сразу согласился взять Фёдора в штатьники, долго вёл разговоры об охране природы, о каких-то мероприятиях, помогающих зверям жить и выживать. Но это было так далеко и не интересно, что парень даже и не вникал в те разговоры, не вдумывался. И предложение выучиться и стать егерем, Фёдора даже рассмешило. Он отказался от предложения и настоял на зачислении в штат охотником.
Радостные чувства, восторг, переполняли молодого парня, он так и ходил по посёлку, по территории пилорамы, куда его определили на период межсезонья, с растянутой донельзя улыбкой на лице.
Может от этой улыбки, может по какой другой причине, девчонки висли на парне гроздьями. Проходу не давали. И когда перед самой охотой Фёдор объявил матери, робко переступая с ноги на ногу, о том, что они с Любаней решили пожениться, уточнив при этом, – с Валерьевной, мать лишь мягко улыбнулась, развела руки, как бы для объятий и тихо проговорила:
– И славно. Славно.
На это тихое «и славно», как на благословение, в комнату впорхнула Любаня Валерьевна, томившаяся всё это время за занавеской, и первая оказалась в объятьях матери. Фёдор тоже было двинулся к обнявшимся матери и невесте, но сдержал себя, лишь чуть дотронулся кончиками пальцев до вздрагивающего плеча своей избранницы, ни с чего вдруг заплакавшей. Тихо вышел во двор.
Труд штатного охотника не назовёшь лёгким. Там нет бригадира, начальника, который будет тобой руководить каждодневно, отвечать за тебя, думать за тебя. Сам решай куда идти, когда, и сколько. Сколько идти? Час, два, пять? Или все десять часов надо шагать и шагать, чтобы вовремя проверить капканы, пока мыши не постригли ценный мех, устраивая себе тёплые гнёздышки на зиму. Чтобы вовремя прибежать к работающим собакам, загнавшим наконец-то упорного, не поддающегося соболя. Вовремя, так как уже скоро сумерки, а там и ночь, и надо очень спешить, торопиться, чтобы добыть зверька засветло. Если отемняем, ему будет гораздо легче обмануть уставших собак и ускользнуть незамеченным из укрытия, уйти верхом, перепрыгивая с одного дерева на другое. И вся погоня, все старания целого дня пропадут напрасно.
Все жилы вытянет охотник, гоняясь за работающими собаками. В зимовьё вечером, а то и вовсе ночью, он не приходит, а притаскивается, едва передвигая натруженные ноги. А утром, чуть свет, снова торопится оставить тёплое зимовьё, торопится в лес, предвкушая трудный, но добычливый день.
Мать с молодой женой так и вспоминались охотнику всегда стоящими в объятьях друг друга. Они как-то сразу, с первой встречи, очень тепло и по настоящему полюбились, сроднились накрепко.
Любаня, лишь появлялась свободная минутка, чуть не бегом кидалась к матери, смешно растопырив руки и шевеля пальцами:
– Мамулечка – золотулечка, ну почеломкай свою любимую донечку. Ну, почеломкай…
И та, принимая игривый тон невестки, с удовольствием раскрывала свои объятья, принимала в них молодайку и, правда, начинала её горячо и нежно целовать в голову, лоб, глаза. И всё что-то приговаривала, приговаривала на своём тарабарском языке, не утруждая себя выводить каждое слово. Просто мурлыкала и мурлыкала, источая ласку и любовь. Казалось, что это кошка облизывает и нежит в лучах материнской ласки своё дитя, уже взрослого, но всё же котёнка.
По другому Любаня и не обращалась к свекрови, только мамулечка, только золотулечка. И всё это было так естественно, так искренне, что и сомнений ни каких не возникало, что это дочь и мать. Причём, любимая дочь и любимая мать.
И Тамара Павловна, каждый раз, пережив очередной порыв нежности от своей невестки, украдкой крестилась и только для себя шептала:
– Господи! Спаси и сохрани. Сохрани, Господи…
Боялась даже думать о том, что когда-то отношения эти могут вдруг оборваться, закончиться. Настойчиво гнала от себя эти дурные мысли, которые помимо воли рождались, или лезли со стороны. Гнала и сердилась на себя за них, за мысли такие, а они, проклятущие, лезли и лезли. И если чувствовала, что не может отогнать, не может справиться, уже сама растопыривала руки и призывала Любаню:
– Донюшка моя родная, моя золотая, беги быстрее к своей мамке, она тебя почеломкает, полюбит, да понежит.
И снова сливались в одно целое, любились, ласкались, и мысли дурные отступали, улетучивались, становилось легко…
Так Фёдор всегда их и вспоминал, обнявшихся, чуть покачивающихся из стороны в сторону, с любовью глядящих на него.
Даже когда прошли годы и в доме появился ещё мужик, которого Любаня, едва приняв на грудь, ещё в родовой слизи, ещё не отошедшего от родовых мук и страданий, синюшного и даже страшненького сразу назвала Феденькой, нежность между женщинами не прошла.
– Будет Фёдор Фёдорович.
А никто и не возражал, не спорил. И Федя сразу согласился, и мать закивала головой и быстро, быстро защебетала о чём-то, низко склонившись над внуком, жадно улавливая нежный запах грудного молока.
На невестку с той поры и вовсе не давала пылинке сесть, только и прихорашивала, только и поглаживала по головке. Целовала в темечко. Очень любила, даже болезненно.
Когда появился второй внук, Ванечка, поняла Тамара Павловна, что всё, сложилась семья, крепкая, надёжная, добротная. Как-то даже успокоилась. Нет, не отступилась, дочку так же челомкала – целовала, и наглаживала прихорашивала, и лучшие кусочки за столом всегда ей невзначай подкладывала, но душой успокоилась. Отвалилось, отстало то бешеное напряжение, которое ни спать ни есть не давало, свербило и свербило какими-то дурными мыслями, что не может быть всё так ладно, да складно. А оказалось может. Вот, уже и деток двое. И все здоровы, веселы, и Федя всегда прибран, постоянно с шутками, да прибаутками.
Все жизни рады. А и как не радоваться-то? В таком краю живём! А страна какая! Ни душой, ни взглядом, ни даже мыслями за один раз не охватить. И правда счастье!
Фёдор охотился. Первые годы после женитьбы выбегал из тайги через каждый месяц. Попроведать. И ничто ему тяжёлые таёжные тропы, или совсем безтропье, длиной в три дня и три ночи. Ещё и мяса кусок тащит. Доберётся до лесовозной дороги, подсядет на попутку и, считай, дома. Два, три дня отдохнёт, на диване поваляется, всех поцелует и назад, на работу.
Детки народились, остепенился. Не стал так часто бегать домой. На новый год выберется, и на том спасибо.
Новый директор, почему-то завёл старую песню. Тоже предложил Фёдору перейти в егеря. Рассказывал, что работа нужная, сложная, что не всякий зверь сможет прожить и выжить без помощи человека. А в чём эта помощь заключается, можно прочитать вот в книге. Он листал книгу, рассматривал картинки, показывал охотнику. Потом и вовсе, сунул книгу ему в руки:
– Почитай на досуге, как созреешь, приходи.
Тайга притягивала к себе молодого мужика и удерживала крепко накрепко. В передовики Фёдор так и не вышел, хоть и старался, добросовестно работал, пушнину всю сдавал государству, под чистую. Но считался хорошим промысловиком, крепким, умелым, удалым. Надёжным считался.
Вечерами, перед лампой, когда была свободная минутка, открывал книгу, подаренную когда-то директором. Она называлась «Обязанности егеря охотничьего хозяйства» и жила здесь, в зимовье безвыездно уже не первый год.
Соседом по охотничьему участку у Фёдора был Николай Аверьянович. Запросто его звали просто Аверьянычем, но получить разрешение на это «запросто» мог далеко не каждый, с кем Николай Аверьянович опрокидывал горькую. Это нужно было каким-то неведомым способом заслужить. Гулял же Николай Аверьянович, в межсезонье, кажется, не пропуская ни одного дня. Как он сам говорил, с трудом задавливая острым кадыком надоевшую икоту:
– Быстрее бы зима, да отдохнуть от этого зелья проклятущего. Наливайте мужики, выпьем за то, чтобы больше не пить.
И все с удовольствием поддерживали его, стукались кружками, стаканами, торопливо разевали обрамлённые щетиной рты и плескали туда горькую.
Пьянки эти могли длиться днями, неделями и месяцами, плавно перемещаясь то под какой-то навес, то на берег, так сказать на природу, то в промхозовскую кочегарку, не взирая на то, что там идёт ремонт котлов и пыль, вперемешку с сажей так и висит в воздухе сплошной стеной. Выбирались оттуда чёрные и страшные, как шахтёры после трудовой смены.