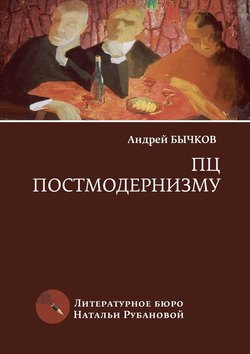Читать книгу ПЦ постмодернизму. Роман, рассказы - Андрей Бычков - Страница 3
Графоман.
Роман
Часть вторая.
Профессор
ОглавлениеГде ты? Стол, привинченный к полу болтами. Железные нары. Морговый запах ржавой параши, который раньше мешал, а теперь уже не мешает. То, что когда-то увидел на чистом холсте, можно потрогать рукою, теперь не называя. Холод. Неумолимый холод, пьющий твое тепло. Безмерность холода и твое ничтожество. Айсберг справедливости с толстыми прутьями решеток. Не шевелись. Нет тепла для тебя. Только чувство вины – отныне в нем твоя жизнь. Что ж – эта белая стопка листов на столе. Они разрешили тебе писать, чтобы казнил сам себя? Умерщвляющий сам себя преступник. Только откуда в тебе эта трезвость, от холода? Эта белая стопка листов на столе. Тебе разрешили писать. Близость смерти излечивает от безумия. Что ж, по крайней мере нет этой настигающей, как в машине, жары. Да, был безумен. Но твое ли это было безумие? Ведь все связаны, как острова под водой. Да, я убийца, но ты был безумен. Не письмо, он пишет теперь не письмо. Он не раскаивается. Он о чем-то рассказывает – не о своей жизни, словно выплачивает долг. Он знает, что умрет. Они признают убийство преднамеренным, они постараются, найдут, к чему прицепиться, эти авдеевы, скажут, что он был знаком с профессором давно. Они отомстят преступнику. Они отомстят ему. Они отомстят тебе. Они не отменят смертную казнь. Они соберут вещественные доказательства – выдолбят куски асфальта, достанут из урн скомканные салфетки, вырежут автогеном куски гаража, выломают стену в его комнате, они соберут все это – кучу хлама, чтобы положить на весы правосудия. И еще, быть может, они вырвут из него «царицу доказательств» – признание, переведя в общую камеру, где его, как шавку, будут насиловать «товарищи», – жестокая реальность, данная не в блокноте, а в безымянном кошмаре боли. Что же, пока он один, он мог бы, подобно Сизифу, забыть о тягостном камне. И если вменяем теперь – написать о радости жизни (в преддверии ада). О том, что было – о матери, оставшейся там, в Бирюлево, в длинном бараке, напротив железной дороги, ведь он любил и любит ее (будет любить?). Вечерами, когда солнце садилось там, за товарной станцией, и диспетчерши говорили по радио на всю округу не только о составах, отправленных с сортировки «на первый» или подданных «на второй», но и просто так, ни о чем, скипел ли чайник, придет ли Иван, вечерами мать смеялась иногда, готовя блины, поглядывая в окно на шуршащую в закате листву, прислушиваясь к голосам. Она словно становилась моложе, и он смеялся вместе с ней, он чувствовал вдруг себя еще ближе – ее сыном, смех как повадка, по которой животное узнает свою кровь, текущую в другом теле. Ведь любишь свое. Теперь заточенный в сырые холодные стены с железной дверью вместо окна, он мог бы увидеть на белом листе и то, что любил, и то, что будет любить после… ведь он не умрет, он всего лишь изменится. Кем родится? Он знает теперь (те раскиданные бумажки, эта стопка белых листов), он знает теперь: то, что написано, – есть, и то, что напишет, – будет. Бог или дьявол? Для них, наверное, повод для издевательств. Успеть, пока не придут с полным набором «кухонных принадлежностей». Выплатить долг перед будущей жизнью. Кто-то хотел портрета в парадном мундире. Чтобы повесить на стену. Чтобы портрет следил за ним взглядом: «Я не меняюсь. А ты, смотрящий теперь на меня, можешь позволить себе все, что хочешь». Он выплатит долг. Не защита, не оправдание… Такая цена. Но откуда он знает жизнь того, кто стал его жертвой? Ведь профессор ничего не успел ему рассказать? Эти разрозненные листки… Еще одна попытка достичь поверхности? Воображение как память.
Его мать
Воды отходят. Корчится мать, рождая убитого cына снова профессором, только профессором, ни осой, ни… Он хочет остаться, и, значит, останется. Самым сильным, и самым мощным, и самым богатым. Нет. Он никогда не изменится. Изобретая другую одежду, он останется со своим телом. Ведь он держится за него. Ему досталось выгодное тело. И он гордится своим пупом, и знает все, что знает. Грязь и шлак, которые он несет под панцирем в себе. Сильный себя не казнит, сильный забывает. О-хох! Пусть.
Ноу хау. Есть древний закон. Тайна для избранных. Сделай так. И тогда пустота – ни людей, ни вещей, бесконечное объемное пространство власти. Изобрети прыжок через пропасть, ведь так близок склон с карликовыми деревьями, с живописной дорогой, уходящей к вершине, за которой слышится океанский прибой. Напрягись, эрегируй голос, эрегируй взгляд, оквадрать скулы и сделай плоскими задвижки щек, подними их выше, прикрывая бойницы, зажми нос от вони и скажи этой сумасшедшей старухе, твоей матери, мокнущей в собственной сладковатой моче, скулящей, как сука, от пролежней, скажи, что ты привезешь вечером лекарство, скажи в это блестящее, словно из пластмассы, лицо, в эти светящиеся, ничего не понимающие глаза, в эту полуулыбку с мягким беззубым ртом, скажи, что ты вечером привезешь лекарство. Ведь она повторяет услышанное от врача (проблеск механической памяти). Как заводная кукла, она повторяет его фразу, словно хочет свести с ума и тебя (прочь!). Она даже копирует его интонацию: «Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать. Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать». Оборви магнитофонную ленту. Захлопни дверь. Вечером ты будешь у Бубубова в гостях, последняя возможность попросить о месте профессора на кафедре физической химии. Ноу хау. Сюжет для беллетриста средней руки. Банальная вечность. Крикни ей, что вечером обязательно привезешь лекарство.
«Я привезу тебе вечером лекарство, поняла ты или нет?! Я сказал – привезу!» Приподнимается в постели, крепко вцепляется в твои пальцы, а ты опаздываешь к Бубубову, пытается встать, смотрит в стену мимо тебя, словно знает уже то, чего ты еще не знаешь, дрожит ее рот, измазанный манной кашей. Седые желтые патлы. Осень наступает после зимы. Хочет подняться, идти в туалет. Бубубов не любит, когда опаздывают. Отцепить ее сухие сильные пальцы, повернуть лицом к стене, поднять и опереть ее руки о стену, дальше по коридору она доберется до туалета сама, инстинкт еще не угас. Ты смотришь ей в спину, подтягивая галстук. Как смешно она семенит, касаясь одною рукою стены. Без пятнадцати семь. Тебе не хочется плакать, тебе не хочется и смеяться. Тебе не кажется, что ты выпускаешь из рук маленького ребенка и что это его первые шаги. В половине восьмого ты должен быть уже на Таганке. Она доберется по стенке сама и вернется, никуда не денется, чертова кукла. И неизвестно, сколько ты еще будешь таскать из-по нее простыни, измазанные зеленым старушечьим говном. На метро до Таганки пятьдесят пять минут. Захлопнуть дверь. Она поворачивается. Бессмысленный взгляд. Чревовещание. «Без нитронга ей будет трудно преодолеть ночной кризис, не стану вас обнадеживать».
Пьян. Ерунда какая. Разве мы не самые сильные, самые мощные? Главное – дело сделано. Бубубов позвонил ректору. По-о-озво-о-онил! А теперь надо попасть ключом в этот Сезам. Да нет, я вел себя прилично. Анекдот про корову. Много шутил, изобретал. Бубубов смеялся надо мной, как над ребенком, издевался, конечно, и при всех еще, при женщинах, ну и что, самое главное, что Бубубов позвонил, потому и издевался, что позвонил. Толкнуть плечом. Бубубов. Разве мы не самые сильные? Свет в туалете. Опять забыла. Свет в туалете не тот. Мамаша не померла ли? Открыть… Так и есть. Так и знал. Значит, вот так это и происходит. Бубубов. Настигает вот так, рядом с унитазом. Желтые патлы матери, испачканные ее же говном. Мне надо будет мыть ей голову сегодня ночью. Этот оскал. Какой трезвый жестокий взгляд, она умерла не сумасшедшей. Что видела? Даже для стариков смерть отвратительна. Я профессор. Слава богу, что умерла, наконец, отмучилась, освободила. Когда-нибудь я заплачу за все…
– Черт возьми. Не надевается этот черный пиджак. И надо же было ей завещать, чтобы обязательно хоронили в черном пиджаке. Она его двадцать лет не надевала, как на пенсию пошла.
– Толя, а может, разрежем его сзади, тогда налезет?
– Разрежем, разрежем… Приехала бы ты на три дня раньше, не надо было бы разрезать сейчас.
– Вечно я у тебя во всем виновата, в том, что ты пьешь, в том, что умерла твоя мать.
– О-хох! Хватит петь. Посади-ка ее вот так.
– Зачем ты наклоняешь тело вперед?
– Я знаю зачем. Надевай ей на руки, а я буду тянуть через голову.
– Толя, лучше разрезать.
– Не пой! Кто из нас почти профессор? О-хох! Видишь, как надо тянуть, вот так, вот так.
– Господи, какой ужас, кажется, что она живая, эти страшные лохмы, подожди, они зацепились за воротник. Ты мыл ей волосы?
– Мыл, мыл! Давай, тяни. Вот. Еще. О-хох-хах-хах!
– Анатолий, я не могу, ведь это же дикость. Почему ты так смеешься? Мне дурно сейчас, а ты…
– Да ведь получилось же! Я же говорил, что не надо разрезать. Пускай ее. Теперь красиво, как в черной раме, манишка желтовата, но ничего.
– Господи, завтра похороны.
– К черту! Ее уже нет. Ты думаешь, это вот она? Это теперь просто кукла для завтрашнего спектакля. Завтра все кончится, чинно и благородно, по высшему разряду. Скорбящий сын, восходящая звезда научного мира, почти профессор…
– Ты замолчал.
– Что?
– Я говорю, ты замолчал.
– Прочь!
Его жена
Ее блестящие глаза. Она в первом ряду. Это лекция. Она пытается конспектировать и бросает. Смотрит восторженно. Он – ее бог. Конечно, влюблена. Он догадывается об этом. Через месяц он будет доктором, самым молодым на кафедре. Но она еще не знает об этом… Он говорит: «Время. Никто не знает, как оно устроено. Его стрела может двоиться, троиться, подобно дельте широкой реки. Время может и возвращаться, представьте себе, что стрела загибается. Есть кольца времени – это опасность, так же как существуют старицы, в которых замыкаются и старятся слабые, поедающие сами себя, покрывающиеся илом сомнений. Вы молодые – теките дальше. Решайте задачи. Не получилось – снова решать. Забывайте о плохом. Становитесь умнее. Это эпоха для умных. Ум – добродетель охотника. Ум – это и есть доброта. Ведь вы будете решать задачи не для себя – для пользы дела. Общество отблагодарит вас за ваши изобретения. Общество овеществит ваши открытия. Решайте задачи сейчас, слушайте лекции, и в ваши головы будут приходить идеи. Вы уже не школьники, а студенты, пусть пока первого курса, но вы должны уже знать, что миром правят идеи. Кем бы вы ни были после окончания, решение задач научит вас изобретать. Человечество сделало три великих изобретения… Мм-м, но об этом потом. Сегодня у нас лекция по автокаталитическим процессам. Они тоже протекают во времени. Итак, по определению: продукт реакции является ее катализатором. Представьте себе капитал, который порождает еще капитал. Пожалуй, сама жизнь – это тоже автокаталитический процесс. Удача всасывает в себя удачу, нарастает лавинообразно. И здесь есть один маленький секрет. Рассмотрим его на примере растворов…» Ее ножки в черных колготочках, натянутая сетка, за которой светится плоть. Раздвигае-сдвигает непринужденно колени. Топорщится пикантная юбочка. Прохладная тень, там, под юбочкой, куда его взгляд отчаянно пытается проникнуть и не может, не может… «Рассмотрим растворы А и Б». Ее зовут Алла, а фамилия – Пугачева, она смеется над этим сама. Не поет, но танцует классно. Он видел сам, когда студенты его пригласили на Новый год в общежитие. Тело для любви, и, как ни странно, умна. «Рассмотрим растворы А и Б». Она смотрит на него и словно обыгрывает в каком-то другом пространстве, выходя из плоскости учитель-ученик, изобретая новое измерение. В первом семестре он поставил ей на экзамене «хорошо». Она отвечала на «отлично». Вольность, которую она позволила себе, хотя это можно было расценивать и как комплимент, он покраснел, выдал себя, снизил