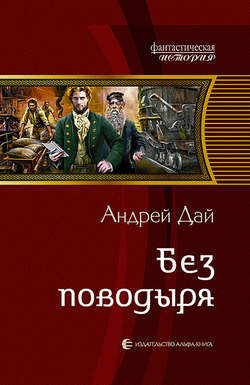Читать книгу Без Поводыря - Андрей Дай - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Чернолесье
ОглавлениеНа следующее утро никто никуда не поехал. Ни я, ни Безсонов, – хотя и рвался обратно в Томск, будучи оставленным за командира полка на время отсутствия подполковника Суходольского. Ни казаки антоновской сотни, отправившиеся в Крещенье с дозором на Сибирский тракт.
Я – понятно почему. Голова так болела, что казалось, я явственно слышу треск лопающихся костей, стоило сделать неосторожно-резкое движение. Естественно, и о письмах покровителям можно было на этот, без сомнения, один из самых ужасных в новой моей жизни дней забыть.
Причем почему-то не помогли и обычно здорово выручающие народные методы. Ни полстакана отвратительной, какой-то мутной, как самогон-первач, водки. Ни полный ковш сцеженного рассола с квашеной капусты. Мне только и оставалось, что лежать на узкой, твердой и неудобной лежанке в белой горнице станции, стараясь не двигаться и не разговаривать, и думать.
И завидовать невероятному здоровью сотника, на которого вчерашняя пьянка словно бы и вовсе никак не повлияла. Но и он, каким бы ни был богатырем, как бы ни храбрился, все-таки не рискнул вывести коня из теплой конюшни и проделать в седле двадцать пять верст по сорокаградусному морозу.
Понятно, что и полусотня казаков, путь которым предстоял еще дальше, ознакомившись, так сказать, с погодными условиями, тоже осталась на станции. Рассудили, что если уж они, сибирские казаки, нос на улицу без нужды высовывать опасаются, то и лиходеи на тракт не полезут.
Зато в ходе неспешного разговора удалось раскрыть всеимперский казачий «заговор». Я-то, грешным делом, решил сперва, что старшины казачьих полков – это вроде выборного неформального лидера и казначея подразделения в одном лице – как-то организованно обмениваются между собой информацией. Думать уже начал, рассуждать, как этакий-то глобальный источник информации использовать можно. А выяснилось, что, как и все остальное в Сибири, осведомленность старейшин основывалась на личных связях. Вот наш Василий Григорьевич Буянов в свое время учился в кадетском корпусе с будущим штаб-ротмистром лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника цесаревича полка Владимиром Николаевичем Карповым. А дальше логический путь длинным не будет. Великий князь Николай Александрович во время своего путешествия по России по случаю сделался наказным атаманом казачьего войска. И так это молодому наследнику понравилось, что с тех пор и охраняли его атаманцы, вместо личного ЕИВ конвоя, – и знали соответственно много.
В том числе и о том, что еще в конце декабря, сразу после Рождества, в Томскую губернию отправлен генерал-майор Иван Григорьевич Сколков. Так-то этот офицер ни должностью великой, ни чинами не блистал. Только в нашей стране это все легко перекрывает личное расположение правителя. А к Сколкову Александр Второй был расположен весьма и весьма. Начиная с 1857 года Иван Григорьевич непременно оказывался в числе сопровождающих царя. И на пароходном фрегате «Гремящий» в Киль, и в поездке в Архангельск, и дальше по стране до Нижнего. Потом, вновь с Александром, уже будучи официально причисленным к свите, в поездке в Одессу и по Крыму. В 1863 году сопровождал государя по Волге и Дону, с кратким заездом на Северный Кавказ. А в прошлом, шестьдесят пятом, был в делегации, сопровождавшей принцессу Дагмару на пути в Россию.
И вот вдруг этого свитского генерала отправляют в мои края! Безсонов, поковырявшись в бездонных карманах, извлек на свет изрядно помятое послание от штабс-ротмистра и зачитал. «Из разных источников поступают сведения о послаблениях, оказываемых начальствующими лицами в Западной Сибири политическим преступникам. А потому для удостоверения справедливости их командирован туда свиты Его Величества генерал-майор Сколков».
Вот и думай что хочешь. По мою это душу господин – или простое совпадение? А может ли быть это реакцией на включенные в мой последний всеподданнейший отчет сведения о готовящемся здесь, у нас, польском восстании, сигналом к которому должно послужить покушение на жизнь царя?
Но почему послали именно его? Не тяжеловата ли фигура – друг и доверенное лицо царя – для обычной инспекции в третьесортный регион? Прав, едрешкин корень! Тысячу раз прав ты, Герман. Если мы с тобой, брат, сможем вычислить, отгадать – почему именно он, то и весь остальной «туман» непонятных, нелогичных событий и решений рассеется сам собой.
И тут Безсонов со своим старшиной Васькой ничем помочь не мог. У них после выпитой на двоих четверти родилась всего лишь одна версия – придворного генерала отправили для организации лишения казачьего сословия станиц Двенадцатого полка. Дескать, стыдно государю кого-нибудь мелкого для такого дела слать. Непростое это дело – обижать верных защитников Отечества! К тому и наказного атамана сменили, и командиров полков отовсюду в Омск вызвали.
По мне, так чушь это полнейшая. В письме атаманца указано – разобраться с послаблениями к преступникам. А где они в Омске? Там даже нормальной пересыльной, этапной тюрьмы для ссыльных и то нет. Только гауптвахта и городской тюремный замок.
Итак, что мне известно? Два, как мы с Герасиком единогласно признали, важнейших факта: в Западную Сибирь за каким-то лядом, с неясными целями едет личный порученец царя, и чиновников Главного Управления из Омска переводят в Томск. Официального распоряжения, указа или приказа еще нет, но, по словам Суходольского, «господа сидят на чемоданах».
Могут эти два события быть связанными? Да, могут. Если принять допущение, что Сколков – простой ревизор, отправленный, чтобы проверить «поступающие сведения» до того, как в столице решатся провести в Сибири административные реформы. Сюда же хорошо укладывается информация, так настораживающая казаков: генерала Хрущева назначают командующим военным округом, но лишают гражданской власти в регионе. Значит, берегут местечко для кого-то более… важного.
Кого? И, едрешкин корень, как это может быть связано с моей деятельностью? Ведь есть же связь, спинным мозгом чую. Иначе зачем управу из Омска в Томск переводили бы? Ну нужна кому-то из весьма приближенных особ запись в личном деле о службе в агрессивно развивающемся, моими, кстати, стараниями, крае. Зачем несколько сотен людей с места на место-то дергать? Дюгамель вон Александр Осипович, и в Омске сидючи, вполне успешно рапортовал…
Мелькнула и тут же была отвергнута, как совсем уж невероятная, мысль, что на место нового наместника Западной Сибири готовят кого-то из членов Семьи. Это, в принципе, единственное объяснение путешествию царского друга. Допустим даже, пусть и несколько эгоистично, что столицу региона решили двинуть ко мне поближе, чтобы этот безымянный пока великий князь мог, если что, воспользоваться уже достигнутыми успехами. Но к чему тогда эта отставка с поста губернатора? А требование немедленно все бросить и бежать в Санкт-Петербург – вовсе ни в какие ворота…
Это конечно же все не более чем теории. Что-то не припоминается мне, чтобы кто-то из царской семьи, кроме возвращающегося из кругосветного путешествия через Владивосток будущего Николашки Кровавого, вообще в Томске бывал. Таблички на губернаторском доме, в мое время Доме ученых, помню. Их там две в моем мире было. Справа: «В этом здании 5–6 июля 1891 года во время кругосветного путешествия останавливался цесаревич Николай Александрович, ставший последним императором России». А метров пять-шесть левее: «В этом здании в 1917 году находились Томский Совет рабочих и солдатских депутатов и редакция большевистской газеты «Знамя революции», а в декабре 1919 года – Военно-революционный комитет».
Это так, к слову. И дом на этом месте теперь другой, и история, надеюсь, другим путем пойдет. Но и в том, и в этом мире что-то толпы царских родственников, желающих непременно побывать в Сибири, я не наблюдал. Цесаревич тогда и то лишь на одну ночь в Томске задержался. И выходит, что все мои рассуждения о целях порученца Сколкова – чушь и похмельный бред.
А вот с абстинентным синдромом нужно было что-то делать. Так-то оно конечно. Мороз за окнами – далеко за сорок. И вряд ли кто-то решится из Томска отправиться ловить беглого экс-губернатора. Тем более что нужно этому кому-то еще отгадать – в какую именно сторону я уехал. Выбор, правда, невелик – юг или восток, и при большом желании можно послать отряды в обе стороны. Но не в это время и не в этих краях. Сейчас все делают размеренно, спокойно. Отпишут все нужные бумаги, посоветуются с покровителями. Потом – проверят мой терем и усадьбы друзей. Цибульский вон у Гинтара в доме чуть не месяц проживал, и ничего! Так что серьезные поиски начнутся не раньше чем дня через три-четыре. И усердствовать, скакать по зиме, нахлестывая лошадей, – тоже не станут. Сибирь. Здесь каждый знает – на востоке мне делать нечего. Я там никого не знаю. На юге – АГО и его начальник Фрезе. Тот и без ордера на арест готов меня придушить в темном переулке. Остается запад. Колывань, там Кирюха Кривцов – мой, можно сказать, компаньон, – или Каинск. В окружном Сибирском Иерусалиме выбор укрытий для беглого Лерхе больше. Ерофеевы или Куперштох меня с радостью спрячут.
Вот вызнает это все майор Катанский – тогда телеграмму каинским и колыванским полицейским и отобьет. Дескать, найти и задержать. Кстати, Гера, ты опять прав. Даже причины моего ареста указать не посмеет. Если уж начать разбираться, так я и вовсе от жандармов не сбегал. Откуда мне вообще знать, что какой-то чин из Омского представительства Третьего отделения страстно желает мо мной пообщаться? Да – собрался да уехал. Так я перед жандармами отчитываться не обязан. Не ссыльный и не поднадзорный. Обычный имперский дворянин немецкого происхождения. Имею право путешествовать, едрешкин корень, по просторам Отечества.
– Счи вам, Герман Густавович, треба похлебать, – с грохотом полковых барабанов поставив простую глиняную тарелку на стол, строго заявил Апанас. – С капусткой. Кисленьких. После уже – хлебной глоток…
Как там того древнего врача звали? Ну чьим именем доктора клятву дают… Один, блин, Пифагор в голове… В общем, мой слуга тому греку сто очков форы может дать. Заговоры знает, что ли? Эти щи – суп повышенной кислотности – в обычном состоянии я бы точно есть не стал. Не люблю. А тут такими вкусными показались. И ведь прямо чудно – с каждой ложкой чувствовал, как по венам кровь быстрее бежит и похмелье с потом через кожу выходит. Как ложка о дно биться стала – я мокрый как корабельная крыса был, но чувствовал себя практически здоровым.
– Вина хлебного! – напомнил белорус, забирая пустую тарелку. – Вот и сальцо солененькое…
Запотевший граненый стаканчик грамм на пятьдесят. Пупырчатые огурчики-корнишоны в блюдце. Розоватые, с прожилками, пластики соленого сала. А жизнь-то – налаживается!
– Прими Господи за лекарство! – опрокидываю ледяной огонь в себя. Безсонов смотрит во все глаза и улыбается. Ему самому похмелье не грозит – здоров как бык, – но болеющих, видно, насмотрелся.
– Вот и слава Богу, – бубнит себе под нос Апанас. – Вот и славно.
Велел принести бумагу с перьями и чернилами. Давно было пора браться за послания в столицу, а тут как раз лучше не придумаешь – и чувствую себя практически нормально, и со станции носа не высунешь.
Тексты давно сложились в голове. Включая некоторые, как я считал, изысканные обороты речи на разных европейских языках. Ирония современной России – писать представителям высшего света на русском было плохим тоном. Не комильфо. Царю или цесаревичу – можно. А вот великим князьям или княгиням – уже нет. Французский, немецкий. В крайнем случае – несколько фраз на латинском или греческом. Только не русский.
Наденьке Якобсон, в расчете на то, что письмо, вполне возможно, попадет в руки Дагмары, – все-таки по-русски. Тончайший, достойный опытного византийского царедворца нюанс. Косвенный намек на то, что датскую принцессу даже в Сибири воспринимают уже за свою.
Отдельно – цесаревичу. Почти год прошел с того изрядно меня удивившего первого письма от него. Это после не слишком ласкового-то ко мне отношения в Санкт-Петербурге получить вполне благожелательное сообщение от наследника! Я даже конверта вскрыть не успел, а весь губернский Томск уже шептался по углам: «Начальник-то наш с самим цесаревичем в сношении! Большим человеком, видно, стал!»
Как-то сам собой сложился и стиль переписки. Сухие, без лишних реверансов строки. Чистая информация. Иногда он задавал вопросы или просил поинтересоваться тем-то и тем-то. Однажды спросил моего мнения по какому-то вопросу. Если правильно помню – что-то о тарифной политике империи.
Всегда старался отвечать максимально быстро. Объяснял причины своих решений или суждений о чем-либо. Понимал, конечно, что хорошо друг к другу относящиеся люди так не делают. Что наша переписка больше напоминает сообщение начальника и подчиненного. Но ведь, едрешкин корень, так оно и было! Мне отчаянно нужно было его, цесаревичево покровительство, и смею надеяться – мои известия были ему полезны.
Впервые я просил его о помощи. Нет, не умолял его избавить от жандармского преследования! Это было бы откровенным признанием собственного бессилия. Да и глупо в моем-то положении. Я пошел другим путем. Вывалил на бумагу все известные на сей момент сведения, добавил слухи о том, что меня с ближайшими соратниками, ярыми помощниками в тяжком труде по преобразованию Сибири, якобы намерены подвергнуть аресту и препроводить в Омск. И попросил совета. Что мне теперь делать? Отступиться? Сдаться? Оставить край в его вековой дремучести на радость ретроградам? Или продолжать, пусть теперь и как частное лицо, барахтаться, сбивая молоко под собой в драгоценный экспортный товар?
Примерно то же самое отписал и великому князю Константину Николаевичу. А младшему брату цесаревича, великому князю Владимиру – уже нечто другое. Он хоть и молод еще – 22 апреля 1847 года родился – восемнадцать лет, – а придворные интриги обожает. Во всех этих кулуарных хитросплетениях – как рыба в воде. И ум у него острый и прихотливый. Добавить сюда еще склонность к по-настоящему мадридскому коварству и абсолютную безжалостность к врагам – и получаем идеального союзника или чудовищного врага.
Благо ко мне молодой человек относился, можно сказать, отлично. Мне кажется, само мое существование, сами мои реформы – наперекор и вопреки – его немало забавляли. Я был ему интересен, и тогда, составляя текст, именно на это старался упирать. Как и другим князьям, описал имеющиеся факты, высказал мнение, что каким-то образом удалось обзавестись могущественными врагами, и привел несколько имен господ, по тем или иным причинам имеющих на меня зуб. Слухи о будто бы отданном приказе об аресте подал в саркастическом ключе. При нынешнем расцвете бюрократии, при невероятно сложной системе взаимодействия министерств и ведомств распоряжение главноуправляющего Вторым отделением Собственной ЕИВ канцелярии, выглядит по меньшей мере странно. Но ведь я ничуть в этом не сомневался, омские жандармы тут же кинутся его, этот чудной приказ, исполнять. И не значит ли это, что графу Панину, стареющему льву и беззубому лидеру русских консерваторов, как-то удалось договориться с господином Мезенцевым?
Расчет был на то, что несколько событий, случившихся в далекой Сибири, не имеющих внятного объяснения, Владимира могут и не заинтересовать. А вот перемены в расстановке сил в столице – непременно.
На минуту задумался и в том же, что и князю Владимиру, ключе составил послание великой княгине Елене Павловне. Добавил только мнение о том, что близкое сотрудничество начальника Третьего отделения и лидеров консерваторов может совсем неблагоприятно сказаться на безопасности царской Семьи. Сведения же о смычке польских бандитов и русских революционеров они, похоже, проигнорировали…
Николаю Владимировичу Мезенцеву тоже написал. Минимум информации и один, зато главный, вопрос: не запамятовал ли он о готовящемся на государя покушении? Мимоходом пожаловался на тупость Катанского и на то, что моего Кретковского практически сослали в черту на рога.
Наибольшие затруднения вышли с текстом письма отцу. Нужно же было как-то поставить его в известность о переменах в моем статусе. Причем сделать это так, чтобы не перепугать родителя сверх меры. Не заставить бросить все дела в Европе и рвануть в Санкт-Петербург спасать непутевого младшего сына. Ничего не писать – тоже не выход. Незабвенная Наденька Якобсон непременно поделится новостями с отцом, Иваном Давидовичем, а тот не преминет черкнуть пару строк с выражениями своего участия старому генералу Лерхе. В итоге получится только хуже, если Густав Васильевич узнает о проблемах отпрыска от чужих людей.
Написал правду. Добавил, что не намерен опускать руки и отдаваться на волю течения. Уверил, что высокопоставленные друзья и покровители не бросят в беде. Упомянул о суммах, уже вложенных богатейшими людьми столицы в мой прожект железной дороги в Сибири, и что ни Гинцбург, ни Штиглиц, ни московское купечество не оставят без внимания мою травлю.
Написал, потому что сам в это верил. Была, конечно, мысль, что теперь, когда организационные вопросы большей частью уже решены, я, как идейный вдохновитель, уже вроде и не нужен. Понятно, что высочайшего дозволения на начало строительства еще не получено, но даже авторитета одного Штиглица довольно будет для нужного автографа на документах. Причем если это случится не в этом году, и даже не в следующем, а, скажем, лет через пять – только на руку банкирам. Гарантированную прибыль из государственной казны, как акционеры, они станут получать несмотря ни на что. Глупая, расточительная система, рассчитанная на энергичность энтузиастов. Но что оставалось делать? У государства на создание железнодорожной сети и вовсе средств не было.
Кокорину написал, чтобы не волновался. Мое непосредственное участие сейчас уже и не требуется. Средства на «заводскую» дорогу большей частью собраны, трассы определены. Рельсы и шпалы активно готовят. Фон Дервиз будущей же весной может приступать к работам. Полезным было бы, конечно, его, Кокорина, участие в проталкивании прожекта лабиринтами министерств, ибо господа Гинцбург со Штиглицем уж точно не заинтересованы в ускорении процесса, а москвичи больше надеялись на выгодные подряды, чем на выплаты из казны.
Изрядная стопка конвертов получилась. Бумажные посланцы – моя надежда на благополучное разрешение проблем.
Едва отодвинул от себя канцелярские принадлежности, как у стола образовался Апанас. Прибрал бумагу с чернилами и сразу стал сервировать к ужину. Я и не заметил, как стемнело и тусклый свет из маленького окошка заменило нервное пламя свечей.
– Астафий Степанович-то где? – поинтересовался у слуги. Опасался, что, занимаясь почтой, пропустил отъезд казаков.
– Тута я, Герман Густавович, – крякнул сотник, поднимаясь с широкой лавки. – Прикорнул. Что? Уже вечерять пора?
Мой белорус не слишком любезно что-то себе под нос пробурчал, но приборы перед Безсоновым все-таки положил.
– Скажи, Степаныч, – отвлек я казака от важного дела – втирания кулаков в глаза. – Казачки, что с тобой. Среди них найдется парочка хорошо знающих эти места?
– Чегой тут знать-то, ваше превосходительство, – хмыкнул сотник. – Тут Томь, там Обь. Посеред – тракт.
– Не уверен, что мне стоит и дальше продолжать путешествовать трактом, – улыбнулся я. – А вот если бы я решил свернуть в сторону? Найдутся знающие?
Безсонов задумался. Видимо, перебирал людей из антоновской сотни. Уверен, что большую часть полка сотник точно знает. И по именам, и по способностям. А если чуточку копнуть, то наверняка выяснится, что с третью казаков Степаныч в родстве, с половиной в соседях, а остальные – родня друзей.
– Вот ежели бы… Да коли бы… Так и есть такие, – не слишком внятно бормотал сотник. – Но чтоб прямо вот тутошние увалы – это к калтайскому хорунжему, Идриске Галямову нужно обратиться. Его-то людишки здесь каждую сосенку знают.
– Как? – вырвалось у меня. – Как ты сказал? Идрис Галямов?
– Ну да, – кивнул Безсонов. – Калтайская-то навроде нашей казачьей станицы, только татарская. Здеся служивые инородцы живут. Ну и наши, кому местечко понравилось. А главным тут – хорунжий Томско-татарского станичного войска, Идрис Галямов.
Калтай и господин Галямов! Ирония судьбы! И как мне это прежде-то в голову не приходило. Деревенька да деревенька. Калтайская. Двадцать пять верст до Томска. И только вот теперь дошло, что это село Калтай из того, бывшего моего мира, где главой администрации – опять-таки господин Галямов. А еще – в шести километрах, в корабельном бору, который сейчас казаки пуще глаза берегут, знаменитая на всю Сибирь двадцать первого века деревня Коррупционерка.
Реликтовые сосны рубить, тянуть коммуникации и строить коттеджный поселок, слава Богу, начали еще до меня. При другом губернаторе. Но крови он мне попил – вампиры обзавидуются. Всего-то полтора десятка приличных домиков, а вони от правозащитников было – как от целого незаконно построенного города. И что с того, что обитали там все сплошь чиновники, до томского мэра включительно? Они же тоже люди, и им тоже нужно где-то жить! Не оформили все правильно – это да, плохо. Опрометчиво, я бы даже сказал. А земля там какому-то то ли санаторию, то ли дому отдыха принадлежала. И давал разрешение на строительство личных домов – именно господин Галямов.
И самое для меня печальное в существовании этой Коррупционерки было то, что нужные люди там жили. Важные. Никак нельзя мне было вставать на сторону, так сказать, народа. Мне закрепиться в кресле нужно было, а не с администрацией столицы области свару затевать. Пришлось прикрывать «художества» с этим клочком земли. Навсегда запомнил, а потом, после смерти уже, еще миллион раз память помогли освежить. Пусть строил не я, но излишне инициативных правдолюбов – именно мне пришлось… вразумлять.
Едрешкин корень! Вот стоило вспомнить – уже уши от стыда покраснели. Как тогда-то мог совершенно равнодушно к этому относиться?
– Герман Густавович? Так чего, спрашиваю? К хорунжему-то посылать?
Посылать, конечно, как же иначе! Зря я, что ли, целых полчаса в Томске еще потерял, карты разглядывая и планы побега составляя? И ведь какие планы! Всего-то пятьдесят верст по льду замерзших речек – сначала по неприметной, ничем не примечательной, Тугояковке, потом, перевалив через невысокий водораздел, по Китату. А там, где Китат резко поворачивает на север, пяток верст до Судженки останется. Неужто меня в новом поселении углекопов никто на ночевку не пустит? Есть же там вроде управляющий шахтами. А я – совсем не простой прохожий. Эти сами угольные копи частично и мне принадлежат. И очень мне любопытно на них взглянуть.
Дальше, как я уже знал, по вполне наезженной просеке к Троицкой деревеньке. Пока церковь не достроили – деревеньке. Там Пятов Василий Степанович современные технологии металлургии внедряет. По отчетам судя, весной уже и первое железо должно пойти, прямо в промышленных размерах. А не сотнями пудов в месяц, как в Тундальской у Чайковского. У меня теперь благодаря столичным «благодетелям» свободное время образовалось. Так почему бы не потратить месяц на удовлетворение любопытства?
В той, прошлой жизни я на заводе в Новокузнецке бывал. Даже в горячем цеху. Яркие впечатления. Жар, шум, дым – едрешкин корень. И чумазые работяги, мигом побросавшие все дела, стоило в цех явиться группе хорошо одетых товарищей в белых касках. Я тогда здорово рад был, что не мне их претензии нужно было выслушивать, а кемеровскому губернатору. А еще стал сомневаться, что флотские боцманы все же удержат «пальму первенства» по нецензурной брани. Там сталевары такие коленца заворачивали, что пару сунувшихся было с нами секретуток вымело из цеха как по волшебству.
В похожем на амбар-переросток пустом цехе Томского железоделательного завода – тоже довелось побывать. Махровое средневековье! Даже не ожидал встретить чего-то подобного на, так сказать, одном из флагманов сибирской индустрии еще двадцать лет назад. Теперь вот решил взглянуть на то, что удалось создать генералу Чайковскому. На пустом месте и всего за год.
У моего плана была и еще одна цель. Я прекрасно себе представлял – что такое практически не обжитые, поросшие диким смешанным лесом холмы к югу от Иркутского тракта. И был абсолютно уверен, что даже зимой, по замерзшим рекам, моя карета там не пройдет. А вот верхом на выносливой коняшке, да с надежным проводником, – вполне вероятно пробраться. Но не бросать же надежный и привычный дормез в Калтайской! Вот и придумалось мне – отправить Апанаса с другими слугами дальше по тракту, в Колывань. Заодно, если вдруг кому в голову придет в погоню за беглым экс-губернатором кинуться, и следы мои запутает. Дальше-то, южнее Проскокова, деревенька на деревеньке сидит и хуторком погоняет. Там от главной Сибирской магистрали столько свертков – сам черт ногу сломит. Иди ищи ветра в поле.
У Калтайской Томь превращается в настоящий лабиринт нешироких проток меж нескольких десятков островков. Есть, конечно, и большие. Один – так и вовсе Большой. Так и тот в разлив в несколько маленьких превращается.
В протоках да старицах, заросших тальником и камышами, – раздолье для уток. Туземные инородцы на них, как мне рассказывали, даже порох не тратят – сетями, словно рыбу, ловят. Говорят, осенью по улицам селения, будто снег в метель, утячий пух летает. Что-то наверняка и собирают, на подушки да перины. На рынках в Томске этого добра хватает. На соломе даже последние бедняки не спят.
По другой стороне, чуть выше Большого острова – Батуринский хутор. А еще выше – Вершинино. И точно между ними, если имеешь хорошее зрение и точно знаешь, что именно искать, под плакучими ивами, прячется устье Тугояковки. Станичные татары Рашит и Ильяс говорят, дальше по речушке, на одном из ручьев, на Гриве, есть хуторок. Они его Ерым называют. Это вроде Овражного по-русски. Только туда мы заезжать не станем. Проводники не советуют. Суровые там люди живут и нелюдимые. Попросишь воды попить – дадут, не откажут, но берестяной туесок потом в очаге сожгут.
Снега на льду – в пол-аршина. Он еще не успел слежаться, затвердеть, и свободно гуляющий вдоль речных просторов ветер играет поземкой. Тело отвыкло от седла. Как позапрошлой осенью с Принцессы в Барнауле слез, так надолго никуда верхом и не ездил.
Знаю уже, опыт имеется, что труднее всего во второй день будет. Когда натруженные мышцы будут ныть и требовать покоя. Будут дрожать колени, и трудно ловить ритм шага лошадки. И седло превратится из удобного насеста, в котором можно даже бумаги читать, не отвлекаясь на дорогу, в инструмент изощренной пытки.
А потом организм перестроится, вспомнятся навыки. Тревожно косящаяся кобылка успокоится, а я перестану нервно поддергивать поводья при каждом ее неудачном шаге. И вот тогда я наконец-то смогу любоваться окрестностями или вести неспешные беседы с инородцами, считающимися казаками.
Ну и первый день тоже хорош. Усталости еще нет. Душа радуется воле. Легкий морозец пощипывает щеки и покрывает изморозью лохматые бока несуразного моего транспортного средства – маленькой крепконогой толстопузой коняшки.
Лошадей дал Галямов. Конечно, не просто так, а за деньги. Но и за деньги бы не дал, если бы не посредничество Безсонова. Это когда я начальником был, калтайский староста обязан был мои распоряжения выполнять. А теперь – я ему никто и звать меня никак. Он конечно же обо мне слышал от томских казаков, и надеюсь – только хорошее, но его-то со мной вообще ничто не связывает.
Вспомнил бы раньше о существовании такого чуда расчудесного – татарской казачьей станицы – так, быть может, и в поход в Чуйскую степь позвал бы, и к разъездам по тракту приспособил. Но нет. Не вспомнил. Так что справедливо он ко мне отнесся. Заслужил, чего уж там. Ладно, хоть желающим подзаработать разрешил меня сопровождать. Ну и лошадок дал.
Тут ведь дорог нет. Здесь длинноногие кавалерийские скакуны только обузой станут. А такие вот – смешные то ли лошадки, то ли пони – самое то! Шаг за шагом, верста за верстой ложатся под широкие, не знавшие подков копыта.
В пять уже сумерки. Выехали с рассветом, проделали не больше десяти верст, но с зимой не шутят – пора разбивать лагерь. Сил еще полно. Ноги слегка устали, но все равно под пристальными взглядами татар-станичников и двоих пожилых казаков из антоновской сотни достаю топорик. Иду рубить лапник и сухостой на дрова.
Может быть, и зря. Может, и нужно было сесть на сброшенное седло и с надменным видом ожидать, когда для меня все приготовят. И не уверен, что, будь я все еще губернатором, именно так бы и не поступил. Невместно, едрешкин корень, для начальника…
Ну теперь-то чего уж. Не начальник, не инвалид. Невелик труд махнуть десяток-другой раз остро отточенной железкой. Благо и ходить далеко, утопая по пояс в снегу, не нужно. И мохнатые черно-зеленые ели и рыжие, на корню засохшие елочки прямо на берегу.
Рашит уже управился с лошадьми. Животные умные – местную фауну отлично знают, а потому далеко от людей не отходят. Жуют свой ужин из надетых на морды торб. Иногда, прочищая ноздри от пыли и шелухи, забавно пофыркивают.
Мох, железная палочка с насечкой – вроде простенького напильника – и камешек кремня. Загадочный, совершенно недоступный моему пониманию набор. И каждый раз, наблюдая за тем, как ловко казаки умудряются разводить этим приспособлением костры, удивляюсь. Я и спичками-то не с первого раза, если без бересты или заранее приготовленной бумаги.
Уже когда спальные места были готовы и костер горел, догадался – мы далеко не первые выбрали это местечко для привала. Слишком уж удачно лежали бревна вокруг кострища, а на окрестных деревьях встречались следы топора.
– Промысловики тут чуть не все лето стоят, – достаточно чисто, на русском, подтвердил мою догадку Рашит. – Грибы, ягоды. Если вода высокая – лес рубят.
– А что же инспекторы? – удивился я. По простоте душевной считал, будто все лесные богатства здесь давно учтены и вырубка без «билета» невозможна.
– Черный лес, – пожал плечами татарин. И добавил с усмешкой еще что-то на родном языке: – Бу урманда пицен ери.
– Леший злой тут живет, – вроде как перевел один из казаков и тоже рассмеялся. – Мешает деревья считать.
Это означало, как я понял, что по доброй воле лесные инспекторы сюда и не суются. Глупо погибнуть «в медвежьих лапах» из-за десятка бревен. Да и нет здесь так называемого делового леса. Березы, ели. Вдоль рек и ручьев – тальник или ива. По сырым оврагам – осина. Кедровые боры – большая редкость, да и не трогают их туземцы. Лиственницы – тоже мало, а сосен и не сыскать вовсе. Это там, к северу, или к западу, вдоль Томи и Оби – огромные пока еще, совсем чуточку обкусанные по опушкам величественные боры. На километры тянущиеся вдоль главных транспортных артерий. Исправно снабжающие местных жителей древесиной и на постройки, и на корабли с баржами, и дровами, конечно.
Ружья-спенсерки у казаков и какое-то дульнозарядное недоразумение у татар – в пределах вытянутой руки. Поужинали традиционной кашей с кусочками солонины и стали устраиваться спать. И о ночных дежурствах никто даже не заговаривал. Зачем, если есть две широкогрудые собаки? Мелочь лесная и сама к людям не полезет, а что-то серьезное псы встретят. Сами не справятся – не дай бог шатун, – тогда только людей будить станут.
Вновь вспомнил об обещанном царю подарке, тем более что и спать-то не хотелось. Рано еще было. Только-только звезды на небе разгорелись. Я обычно в это время еще за столом сидел. Дел было много, дня не хватало. А теперь вот и устать как следует не успел, и трапеза обильная в сон не потянула. Хотел было с проводниками о собаках поговорить, да пока спальное место себе оборудовал, они уже и засопели. Так и лежал еще часа полтора – смотрел на огонь, слушал, как поскрипывают елки и фыркают лошадки…
Тугояковку нужно было назвать Змеиной речкой. Ох как она, паразитка, извивалась да петляла! Силился по карте вымерять, сколько же мы за второй день пройти успели, – не сумел. Если все изгибы прямой чертой проткнуть, выходило тринадцать верст. А по ощущениям – точно все тридцать.
Часа в четыре проехали устье Гривы – широкого ручья, на котором где-то там, за холмом, спряталась не указанная ни на одной карте деревушка. Собаки гавкнули на что-то невидимое за сугробами и после окрика Ильяса заторопились догонять маленький, всего-то дюжина лошадей, караван. Потом уже, за очередным поворотом, седые казаки поспорили – двое за нами наблюдали или все-таки трое.
– И много в здешних местах таких селений? – поинтересовался я у бородачей.
– А хто их знаит, вашство, – блеснул глазами тот, что постарше да покоренастей. – Одно время много было. Рассейские, как волю дали, будто клопы голодные из-за камня полезли. Ждали их тут, ага…
– Это ведь, ваше превосходительство, только мнится, будто землицы у нас на всех хватит, – поддержал товарища второй антоновец. – А как оглянесся, да присмотрисся, так и все почитай и занято. Энти-то, рассейские, в батраки к добрым хозейвам идти брезгуют. Свободы им надоть. Сами-то людишки хилые…
– Вороватые, – продолжил старший. – И смердит от них… А туды жо… Волю им.
– Вот и лезут куда ни попадя, – и ведь явно не сговаривались. А один за другим, как дикторы с центрального телевидения.
– Уходят в такие вот чернолесья. Полянку найдут или тайгу поджечь пытаются… Баб в соху впрягут, покорябают немного землицу – и рады. Хозя-а-аева!
– А того, дурни, не ведают, что пшеничку у нас не каждому вырастить удается. И не везде. Там, у Чаусского острога, или дальше к югу – всегда пожалуйста. А в здешних местах и сроки надобно знать, и Господа молить.
– Или рожь в землю кидать, а то и ячмень.
– Голодают? – догадался я.
– А и голодают. Лебеда-то их любимая в тайге не водится. Трав с ягодами не знают. На зверя охотиться не умеют…
– Да и справы не имеют. Ни ружей, ни рогатины. А туда же – в Сибирь!
– Так и дать им – чего толку-то? Евойного мужичка соплей перешибить. Куда ему рогатину?
– И чего? Так и мрут в лесах?
– Что поглупее – и мрут, – легко согласился старший. – Другие, как детишков схоронят, к людям выходят. Ежели бумага есть, так к землемерам идут. А нет – так или в выкупные рекруты, или в батраки.
– Мужик в рекруты, а бабы куда?
– Вестимо куда. В услуженье. Или в люди. Или колечко в рот…
Да помню я, Герочка, что по законам империи проституткам запрещено приставать к прохожим с предложениями своих услуг. И что вместо этого девки держат во рту колечко, которое и показывают на языке заинтересованным личностям.
– И что, много ли таких из России приходит? Тех, кто по лесам все еще сидят?
– Нынче-то поменьше, – кивнули друг другу казаки. – Теперя-то их еще в Голопупове чиновник встречает – да в острог пересыльный, к дохтуру… Потом, сказывают, рассейским даже землю нарезают. Только я сам не видал, врать не стану.
– А иные от чиновника все одно бегают да по тайге сидят, – хмыкнул младший. – И дохтура пуще черта с рогами боятся. Будто бы тот их оспой заразит, чтобы землю не давать. А ежели кто и выживет, так начальники так оброками обложат, что взвоешь! Уже и попам в церкви не верят, коли тот их увещевать начнет.
– Иные же, те, кто старой веры, и сами знают куда идти, – подвел итог старший. – Эти, чай, не пропадут.
– И куда же они идут?
– Во многие места, господин хороший, – оскалился казак и рванул коняшку с места, легко обогнав колонну.
Снега все еще было мало. Татары пугали настоящими завалами там, дальше, на водоразделе. Где на запад течет Тугояковка, на юго-запад – Крутая, а на восток – Китат с Кататом.
– Лопаты-то в поклаже есть? – хохотали инородцы. – Дорогу копать будете?
– Гы-гы, – передразнивали их казаки. – Басурмане – оне и есть нехристи!
– А ты сам, Ильяс, что же? Поверх сугроба побежишь? – коварно поинтересовался я.
– Мой род здесь столько зим живет, сколько звезд на небе, – подбоченился татарин. – Я в здешних местах каждое дерево знаю. Так пройду – веточка не шевельнется, лист не вздрогнет, птица на ветке не проснется. Снег сам меня пропустит! Это вы, урусы, чтобы арбе проехать – деревья рубите. По тайге идете – шум, будто камни с неба падают.
– Я еще из ружжа счас пальну, – обрадовался старший из казаков, словно проводник комплимент сказал. – Вообще в штаны со страху навалишь!
В общем, дружбой народов и толерантностью в моем отряде и не пахло. Однако об этом сразу забыли, когда русло реки сжалось, а поросшие лесом склоны – наоборот, выросли. Все больше принцесс-елей, все меньше лиственных деревьев. И что самое печальное – толще снежная шуба. Приходилось постоянно сменять едущего первым. Лошади быстро уставали расталкивать рыхлую преграду, так что за день успели еще и на заводных, они же вьючные, седла переложить. И тут уж никаких препирательств не было. И казаки, и татары без споров занимали свое место в голове каравана.
Прежде чем разбивать лагерь, татары увели наш отряд вправо от Тугояковки, по какому-то ручью.
– Там, – Рашит махнул рукой куда-то назад и влево. – На той речке глупый урус зимовье поставил. Охотник!
Ильяс презрительно фыркнул.
– Бревна в ручей вбил, чтобы рыбу ловить, – невозмутимо продолжил татарин. – Рыбак, однако!
Ильяс громко засмеялся, словно его товарищ сказал что-то невероятно смешное.
– Все его знают, – не унимался Рашит. – Суранов. В село приходит – важный человек! Вот так идет.
Растопырил локти, словно несет под мышкой бочонок. Задрал подбородок, презрительно выпятил нижнюю губу. Поневоле представишь себе этого важного человека.
– Другие глупые урусы вот так его встречают, – ссутулился, опустил голову, подобострастно поклонился. – Суранов мех вот так купцу кидает. Порох берет, капкан железный берет. Муку еще. Бабы смотрят – глаза блестят. Важный господин. В лесу хозяин. Лесного старца – не боится.
Ильяс одним движением ноги высвободил сапог из стремени и, выбрав прежде самый пушистый сугроб, вывалился с седла. Должно быть – от смеха.
– Там деревья не растут, и склон из камня, – вздохнув и закатив глаза, стал объяснять причину веселья Рашит. – Ветер дует, холод несет. Зверь это место не любит, и рыба не любит. Даже бурундук умнее Суранова. Даже бурундук знает о жилы урын.
– Теплое место, – вновь перевел один из казаков.
– Сопка с этой стороны – ветер не дует. Пихта растет – много дров. В ручье рыба жирная – руками ловить можно. Суранов – важный такой… – локти в стороны. – Но дурень.
Теперь засмеялись и бородатые казаки. Да и я, когда дошел комизм ситуации. Между лысой прогалиной на склоне сопки, выбранной для зимовья «важным» Сурановым, и уютным распадком, где мы остановились на ночлег, – версты две. Но, судя по рассказу туземца, микроклимат этих двух мест отличается кардинально.
– Завтра река кончится. Перевал будет. – Татары, убедившись, что я веду себя «как все» и не корчу из себя начальника, полностью отбросили чинопочитание. – Потом вниз пойдем. Скоро и на дорогу выедем. Черные камни как начали из земли выкапывать – просеку рубили. Дальше сами ехайте. Я от дыма горючего камня чихаю.
Я не спрашивал, намерены ли были Ильяс с Рашитом вернуться тем же путем. Не просил и не наказывал держать язык за зубами о том, куда именно я решил дальше двинуть. Это было оговорено еще до отправления из Калтайской. И единственное, о чем раздумывал, глядя на сидящих напротив, через костер, инородцев, – так это о том, что вновь, с каждым новым маршрутом по необъятному своему краю открываю что-то новое. Прежде неизвестное. Какой-то чудесный, скрытый и не донесенный в рассказах предков аспект жизни сибиряков.
Конечно, я и раньше знал, что казаки и прочие сибирские старожилы недолюбливают переселенцев. И не считал это чем-то странным. По-моему, так это и вовсе нормально, когда, привыкшие к устоявшимся взаимоотношениям и традициям люди относятся с недоверием к чему-то новому. Даже если это новое – давно забытое старое, как в случае с «рассейскими» семьями, рискнувшими преодолеть тысячи километров в погоне за волей. Разве сами эти старожилы, сами казаки когда-то давно сделали не то же самое? Разве сумели бы они завоевать, раздвинуть границы племен, зубами выгрызть жизненное пространство, если бы не несли в сердце мечту?
Логично, что и большая часть туземцев не в восторге от грубого вмешательства пришлых. Отсюда и эти насмешки над неуклюжими попытками русских покорить дикие холмы северных отрогов Салаира.
Тем не менее татары легко ужились с казаками. По большому счету и в одежде, и в снаряжении, и в технологиях обустройства ночлега инородцы мало чем отличались от антоновских бородачей. Вот это уже было новым для меня. Вот это поражало больше всего. И я даже укорял себя за то, что прежде никакого внимания не обращал на жизнь и нужды коренного населения края. Пара строк в отчете, в графе «инородцы», на деле обернулись целым народом, пытающимся найти свое место в изменившемся мире.
Перед сном развернул изрядно уже потрепанную карту. Жаль, нет ламинатора – скоро придется добывать новую копию генеральной карты губернии и переносить свои отметки.
В свете костра рисованное карандашом видно плохо. Кое-как рассмотрел тонкую серую ниточку – будущую трассу моей железной дороги от Томска до Судженки. Именно об этой дороге говорил проводник, именно по этой просеке сейчас пока возили в Томск уголь и кокс в коробах. Значит, еще два дневных перехода – и пропавший на Московском тракте беглый экс-губернатор вновь появится на людях.
Ничуть не боялся оказаться узнанным. Одет и вооружен я был совершенно однотипно с казаками. Мой несколько более высокий статус выдавал только редкий и дорогой английский револьвер, да и то – нужно хорошо разбираться в оружии, чтобы это понять. Правда, мои провожатые носили бороды, а я только в татарской станице перестал бриться. За три дня выросло что-то, еще не борода, но уже и не щетина. Тем не менее я надеялся, что оставшегося до выхода в обитаемые места времени будет довольно, чтобы заросли на подбородке все-таки пришли в соответствие с представлениями местных о внешнем виде казаков.
В крайнем случае, как мне казалось, всегда можно было замотать лицо башлыком. А там – оно все-таки все равно отрастет. Если верить моим картам, от того места, где мы должны были выйти на просеку, до Судженских угольных копей – по меньшей мере пятьдесят верст. Путь не на один день.
Тугояковка исчезла под обледенелыми камнями, и вместе с ручьем, руслом которого пользовались вместо дороги, завершился самый протяженный этап моего броска через тайгу.
К истоку вышли сразу после обеда. Но с ходу штурмовать заросший диким лесом и заваленный снегом перевал не стали. Проводники предпочитали все делать размеренно, без рывков и героизма. И я с ними не спорил. Во-первых, мы не на войне, где от скорости этого рейда могли бы зависеть чьи-то жизни. А во-вторых, я никуда не торопился. Письма отправлены, и раньше чем через месяц ответа ждать глупо. Пара лишних дней в пути ничего в моей жизни изменить не могли.
А быть может, я просто, не заметив как, вжился уже в этот мир. Смирился с его неторопливостью и философским отношением к событиям вокруг.
– Хотел посоветоваться с тобой о собаках, – усаживаясь рядом с Рашитом, начал я, когда лагерь был разбит и над костром повис котелок. – Обещал одному… важному человеку несколько щенков. Он заядлый охотник, но наших лаек не знает.
– Тогда зачем ему щенки? – удивился татарин. – Разве он сумеет их правильно натаскать?
– Ему служат люди, разбирающиеся в охотничьих псах.
– Ха. Тогда почему у него еще нет хороших собак? – разулыбался проводник. – Или этот твой господин такой же, как тот Суранов?
Опять нос кверху, локти в стороны – поза надменного, но глупого человека.
– Он, этот господин, живет так далеко, что там и не знали прежде о наших лайках, – попытался оправдать я царя и его егерей.
– Так далеко?
– Четыре тысячи верст, – кивнул я. – Я чуть не месяц ехал.
– Глухомань, – согласился со мной татарин. – В таких местах без собак совсем тяжело. У Бурангула Ганиева сука принесла щенков… Добрые охотники будут…
Проводники обменялись несколькими фразами на своем языке и, видимо, друг с другом согласились. Старший из казаков, который понимал татарский, тоже заинтересовался.
– Он дорого их продает, – хитро сощурился Рашит. – Рубль за каждого просит…
– Ох, – выдохнул младший казак. – А ты, Рашитка, врать-то горазд! Чай, не крокодила заморская, а лайка!
– Но за три рубля отдаст, однако, – игнорировал комментарий русского проводник. – Если кто-то опытный станет торг вести.
Я хмыкнул. Для царских псарен собак за золото в Англии покупали. Своры гончих на поместья меняли. А тут спор о двух рублях!
– Скажи, Рашит. А ты мог бы купить этих щенков, отвезти моему… этому важному господину и помочь их натаскать на лося?
– Месяц пути? – после нескольких минут раздумья решил уточнить инородец.
– Да, – кивнул я. – Может быть, даже немного больше.
– И жить там, хотя бы год?
– Пожалуй, что так.
– Дорого тебе твой подарок встанет, – покачал головой Рашит. – Я ведь могу и сто рублей попросить!
– Сто рублей и деньги на дорогу, – легко согласился я. – А тот важный господин наверняка и еще добавит. Только нужно обязательно всех живыми довезти.
– А куда ехать? – недоверчиво, пораженный моей покладистостью, поинтересовался татарин.
– В столицу. В Санкт-Петербург. Я тебе письмо с собой дам. И предупрежу, что ты приедешь. Тебя встретят и к тому господину проводят.
Уговорил вроде бы. Но все равно – страшно было его одного отправлять. Легко мог себе представить культурный шок привыкшего к лесам и небольшим поселениям человека. Сто против одного, что татарин и в Томске-то не слишком уверенно себя чувствовал, а тут ему придется три здоровенных города посетить – трехсоттысячный Нижний Новгород, миллионную Москву и полумиллионную столицу империи. И еще паровозы! И жандармы, с их глупыми вопросами в Первопрестольной! Испугается, растеряется, забьется куда-нибудь в угол – и собак потеряет, и сам пропадет.
По-хорошему, нужно было бы ему какого-нибудь сведущего попутчика. Только где бы я его взял, сидя на спальном мешке под пушистой пихтовой лапой, в самом сердце сибирской глухомани? А вот в Троицком или в Тундальской, у Ильи Петровича Чайковского, уже можно было что-то сделать. Может, и сам старый металлург что подскажет. Ведь может же нужда какая-нибудь появиться, чтобы он своих младших помощников в Россию отправил.
Ну и, конечно, письмо. Тут и думать нечего. Конечно – второму сыну Александра Второго, великому князю Александру Александровичу. У меня с ним и отношения просто великолепные, и охотой он куда больше Никсы интересуется. Пожалуй, что и не менее фанатично, чем отец. И о сибирских четвероногих охотниках – лайках – я ему тоже рассказывал, и он непременно моему посыльному поможет. Знать бы еще, где именно сейчас обретаются царские дети. Они ведь люди подневольные – куда родители посылают, туда и едут. То по Европам путешествуют, то по России, то на маневрах армии присутствуют. А то и в каком-нибудь загородном дворце, вдали от светской суеты, науки постигают. Так что, пожалуй, нужно еще и телеграмму отбить. Так, мол, и так. Отправил по тракту щенков лаек в сопровождении такого-то инородца – специалиста по породе. Прошу посодействовать в благополучном прибытии. Подробности в письме.
Так что, видно, судьба у калтайского станичного казака Рашитки Хабибулина сопровождать меня и дальше, до железоделательных заводов. А чтобы хозяин суки, у которой щенки родились, мой подарок царю другому кому-нибудь не продал, Ильяс на следующий же день домой отправится, с тремя рублями в кисете.
Проводники не обманули – оставшиеся четыре версты до просеки показались сущим адом. Сначала – крутые, осыпающиеся снегом и песком, заросшие кустарником склоны. Потом, когда все-таки вылезли на водораздел, сугробы почти по седло моей лохматой коняшки. И уже в самом конце, когда даже просвет среди деревьев стал виден, – целые горы неряшливо сваленных сучьев. Ну, допустим, лопаты нам и не пригодились бы, а вот топоры – точно не скучали. Оказалось проще прорубить себе дорогу, чем вытащить из-под сугроба и раскидать в стороны смерзшиеся, еще липкие от смолы ветки.
Ильяс, забрав деньги – и за собак, и за знание пути, – отправился на север, в сторону Томска. Сказал, что хоть дорога и длиннее в три раза, чем наш пройденный уже путь по руслу Тугояковки, а все равно быстрее так до родной Калтайской доберется. А мы, перекусив сухарями с солониной, повернули морды лошадок в другую сторону.
Просеку с наезженной колеей нельзя и сравнивать с оживленной, вытоптанной и наезженной тысячами путешественников главной дорогой региона. Тем не менее и здесь оказалось достаточно оживленно. До вечера, когда нашли приготовленное для обозников место ночевки, встретили два каравана по дюжине саней, груженных плетеными коробами с углем, и один – поменьше, с коксом в дощатых ящиках. И на полянке с родником и здоровенным, метра два в диаметре, кострищем располагалась еще одна извозная артель, везущая к шахтам пустые корзины.
Мужички встретили нас более чем радушно. Даже водку было достали – так сказать, за встречу. Казаки глянули на меня угрюмо и отказались. Отговорились, что, мол, пакет в каторжный острог везут. А ну как что случится, а они под хмелем. Так и из полка выгнать могут! Викентий Станиславович – мужик строгий!
Разгадка такого неожиданно доброго к нам отношения лежала на поверхности. Черные ели и пихты, голые березы и сумрачные осины, выстроившиеся вдоль только-только отвоеванной у тайги тоненькой нитки новой дороги, напоминали извозным, что здесь все-таки дикий край. Полный не слишком дружелюбного зверья. А волчья стая, голов этак в десять-двадцать, плевать хотела на топоры и палки сгрудившихся у костра мужичков. Сожрут – и фамилии не спросят! Серые в здешних местах – не чета тем облезлым собачкам, что в клетках зоопарков двадцать первого века сидят. Матерые, здоровенные твари! А у нас четыре ружья, да еще револьверы в придачу. С таким аргументом и зверь лесной спорить не посмеет.
За ужином и новости из губернской столицы узнали. Отговорились, правда, что уже неделю как Томск покинули, все послания по острогам да заставам развозили. Оказалось, что в городе уже голову сломали в попытке отгадать – куда же это бывший губернатор делся. О том, что нас с Герочкой жандармы арестовать желают, никто и не ведает. Всех интересует другой вопрос – как «наш немчик» с новым, только-только назначенным губернатором, действительным статским советником Николаем Васильевичем Родзянко уживутся?
И вот тут, как выяснилось, народная фантазия развернулась не на шутку. Мигом стало известно, что сам новый губернатор из помещиков. До манифеста чуть ли не пятьсот душ имел и пять тысяч десятин пахотной земли. Отец его из военных. До полковника дослужился, а сам Николай Васильевич все больше по чиновничьему делу. Последние восемь лет вице-губернатором служил. Сначала в Петрозаводске, а в 1859 году во Пскове. «Мы пскопские!», едрешкин корень! Купчины нашенские, сибирские, по телеграфу со знакомцами своими связались и выяснили, что будто бы Родзянко этот сильно мздоимцев да казнокрадов не любит.
– Немчик-то наш, – совершенно серьезно разъяснял улыбающимся в густые бороды казакам один из обозных мужичков. – Сам-то мзды не брал, но и другим не мешал. Этот его литвин носатый даже и приплачивал с генеральского кошта писарчукам простым. При ём в городе чтобы не при деле мужик – так и нетути таких! Всем работу нашел. На стройке али в порту, в Черемошниках. Видать, кому-то поперек горла встало, что люд дышать стал, деньга в мошне завелася.
– Как Лерхова нашенского погнали, – тут же поддакнул другой, – в присутствие без пятиалтынного и входить боязно. Чернильные души как с цепи посрывались. Забоялися, что при новом-то начальнике и подношения брать не дадут, и литвин больше приплачивать не станет. К хорошему-то быстро попривыкли. Теперича только опасаются.
– Акулов-то, старший который. Ну тот, что по морде от немчика на пожаре получил, а опосля у него же в обчестве приказчиком стал. Так вот! Акулов давеча в магистрате опять шумел. Кричал, что, дескать, надобно немца нашего пропавшего в почетные горожане приимать. А Тецков ему – мол, странно это, что важный такой господин и вдруг исчез. Его, мол, и жандармы сыскать не могут. Можа, он уже и неживой, не дай Господь, в сугробе где ни то лежит, а мы иво в почетные.
– А тот чего? Ни в жисть не поверю, что Акулов да слово в карман спрятал!
– Дык и не спрятал. Прохоровский мальчонка… Ну того, что варежки из лосячьей кожи шьет… Ну с Болота! Во-о-от! Пацан-то евойный в посыльных у Лерхова нашего служил, а там и гимназю закончил. Его писарем в магистрат приняли, парнишка-то с головой и буквы складывать мастер. Вот он батяне и пересказал, как Акулов-то с Тецковым ор на весь Обруб подняли.
– Дык а чего шумели-то?
– Так Акулов все напирал. Вернется, дескать, бывший губернатор, куда он от усадьбы своей богатой денется?! Люди со всех краев на чудо такое посмотреть приходят…
– А Тецков чего?
– А, кричит – ну и вернется, нам-то чего? А Акулов – глотка-то у иво что труба Иерихонская – мол, а ну как новый начальник немчика нашего из Томска выгонять станет? А бывший-то и тебе, и мне, и, почитай, всему городу столько добра принес, что и сравнить не с кем. Как же можно-то его выгонять?
– А этот, новый начальник, – решился поинтересоваться я, прикрыв на всякий случай нижнюю часть лица башлыком. – Уж не родня ли нашему Родзянко, Николаю Павловичу? Тому, что советником при губернском правлении?
– Ага! – обрадовался мужичок. – Вот и обчество попервой так решило. Ан нет! Фамилия одинаковая, а род, видно, разный! Нашему Родзянке-то теперича точно жизни не станет. Их ведь путать будут, а какому начальнику это по сердцу?
– Отчего же? – удивился я. – Одна фамилия – это же не повод…
– Ты, твое благородие, видно, за старшего у вас? – прищурился политически подкованный извозчик.
– Вроде того.
– Поди, и чин имеешь? Хорунжий али сотник?
– И что?
– А то, твое благородие! Ты вот годами молод еще, высоко взлететь еще можешь, коли Бог не выдаст. Вот в высокие чины выйдешь, тоды и припомни, что скажу! Никак не может быть двух начальников! У их ведь, у высокородных, как? Скажет кто, к примеру – Лерхов, – и людишки уже знают – ага, генерал. Важная птица! С цесаревичем дружбу водит. К царю на охоты ездил. Сам Асташев с ним первый здоровкается. А ежели скажут теперь – Родзянко? И начнет народишко болтать – кто да какой, мол? Тот, что Павлович али Васильевич? А иные кто так и перепутать могут… Бумаги опять же…
– Бумаги?
– Ну да. Начертит начальник-то новый имечко свое на бумаге, а люди и ну давай затылки чесать. Кто из них написал? Тот, что старый, по правлению чиновник, или новый – который наиглавнейший начальник? Вот и выходит, твое благородие, что надобно нашему-то Родзянке, пока новый не прибыл, выписываться куда ни то… Иначе могут так заслать, что жизни не рад будешь.
– Так а куда же немчик делся? – вдруг заинтересовался Рашит и оскалился, не забыв мне подмигнуть.
– А кто иво знат, – развел руками говорливый дядька. – Может, сызнова на Алтай убег, а может, и в Рассею, к государю на тезоименитство. А или еще, как бабы на сенном рынке болтают… Ведомо же тебе, твое благородие, поди-ткась, что у Лерхова нашего рука легкая? К чему ни прикоснется, все деньгу приносить начинает. Нашенскому вон хозяину, Евграфке Кухтерину, двух коней подарил, так тот – гляди-ткась как плечи расправил. Таких караванов вроде нашего у него, считай, уже с полдюжины! Нестеровский, старый судья, сиднем бы сидел в своем Каинске, коли немчик его на копи каменные не подбил. Теперя как сыр в масле катается! И иные, кто с бывшим начальником что затеять успели, – поди, не жалуются. Вот бабы и болтают – будто руду золотую наш немчик нашел. Сказывают, Господь его силой такой наделил – ткнет пальцем в землю и командует: ройте, мол. Роют – и точно! То железо, то уголь, то еще чего доброго отыщут. Ныне вот, значится, за золото принялся. То-то Асташев, как Лерхов-то пропал, с лица совсем спал. Волнуется, значит.
– Значит, точно ничего не известно?
– А нам кто доложит? – загоготали мужики. – Чай, пес-то Лерховский, Карбышев который, и важным господам ничего не говорит. А нам и подавно.
– Почему пес? – удивился я.
– Рычит и хозяйскую избу сторожит. Кто же он еще? Пес и есть… Давайте на боковую уже. Завтрева с рассветом двинем. Путь далек…