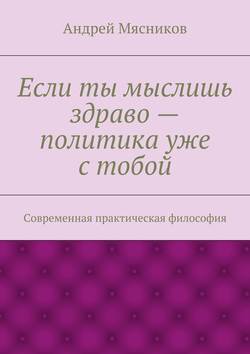Читать книгу Если ты мыслишь здраво – политика уже с тобой. Современная практическая философия - Андрей Геннадьевич Мясников, Андрей Геннадьевич Минак - Страница 6
Глава 1. Русская классическая литература как нравственно-политическая философия
§1.3. О нравственно-политическом завещании М. Ю. Лермонтова. Современная философская реконструкция стихотворения «Родина»
ОглавлениеНаследие великих классиков помогает заново открывать утерянные смыслы и забытые горизонты понимания, что особенно важно в переходные, запутанные периоды жизни общества, когда требуется взглянуть на происходящее со стороны, как бы не своими глазами, и увидеть просвет в будущее.
Наследие великого поэта – это особый дар будущим поколениям, который принадлежит каждому читателю.
Хотел было логично перейти к общей характеристике поэтического наследия М.Ю.Лермонтова, но решил остановиться… Требуется учесть очень много конкретики о всей его поэзии, которой я не владею. Поэтому не буду вводить в заблуждение ни себя, ни других, да и не хорошо «отбирать хлеб» у коллег-филологов и историков литературы.
Как философ, остановлю свой взгляд на одном из последних стихотворений, в котором, по моему мнению, поэт высказал своё нравственно-политическое завещание. Я предлагаю такую гипотезу, за которой будет стоять новая философская расшифровка лермонтовской «Родины».
Воспользуюсь своим правом на дар великого поэта, и с точки зрения философии предложу свою реконструкцию известного стихотворения «Родина». Чтобы «раскрыть» этот подарок поэта, предлагаю обратить внимание на ключевой вопрос: почему Лермонтов поменял его название с «Отчизны» на «Родину»? В лермонтоведении достоверно известно, что эта перемена произошла в феврале-марте 1841 года, перед опубликованием в 4 номере журнала «Отечественные записки»7. Так, уже 13 марта 1841 года В. Белинский писал В. П. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его „Родина“ – то, аллах керим, что за вещь – пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских»8. Значит, Белинский одним из первых узнал новое название этой «вещи», хотя во всех рукописях, и даже в беловом автографе, стихотворение называется «Отчизна».
Неужели замена названия «Отчизна» на синонимическую «Родину» настолько принципиальна, что на неё нужно обращать внимание? По моему мнению, да. Это был результат существенной перемены в умонастроении поэта. Как отмечают исследователи его творчества, Лермонтов уезжал в начале апреля 1841 года из Петербурга на Кавказ с «дурным предчувствием». По сути, он был выдворен из столицы по предписанию царя в 48 часов, и, как отмечают многие исследователи, его поэтическим ответом императору Николаю I стало смысловое продолжение «Родины»:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Именно так отчётливо он стал видеть «отчизну» – страшную, беспощадную систему насилия, обмана и холопства – государство российское николаевской эпохи, – систему, в которой он оказался слишком злой, кусачей, опасной «собакой». Но чтобы остаться честным человеком, не стать лжецом и подлецом, нужно с большой осторожностью говорить о любви к такой «отчизне».
Итак, что же произошло в феврале – марте 1841 года с Лермонтовым в Петербурге во время его краткосрочного военного отпуска? Попробую обобщить имеющиеся факты:
1. Несмотря на настойчивые ходатайства военного руководства, император Николай I отказал поручику Лермонтову в награде за храбрость, проявленную на кавказской войне.
2. Лермонтов очень хотел уйти в отставку с воинской службы, но могущественная бабушка Е. А. Арсеньева не захотела ему помочь.
3. В очень плохом состоянии здоровья поручик Лермонтов был вынужден по приказу вернуться на кавказскую войну с предчувствием скорой смерти.
Именно в это время поэт продумывал своё стихотворение, поэтому можно предположить, что перед публикацией стихотворения, Лермонтов глубже вдумался в понятие «Отчизны», и обнаружил в нём один из исконных корней – «отчим», т.е. неродной отец. На этот корень указывает Владимир Даль в своём толковом словаре9. Таким «неродным отцом» – средоточием российской властной вертикали – для гениального поэта оказался царь Николай I.
Говоря об «отчизне», Лермонтов отчётливо сознаёт неродной ему характер российской власти, той казарменной николаевской системы, которую он начал бесстрашно обличать в своём «Предсказании» (1830), а затем, после смерти Пушкина, в «Смерти поэта» (1837). Только жестокая «отчизна» могла отозваться о смерти гениального наследника Пушкина: «Собаке – собачья смерть». Но если для казарменной деспотической России великий поэт стал «собакой», то и казарменная отчизна перестала быть для него «родной» (Родиной), стала той «отчизной», которую судят трезво и неумолимо, без лишних эмоций.
Пожалуй, что уже после убийства А. Пушкина у М. Лермонтова начались открытые борения с «отчизной», а после первой и в ходе второй ссылки на Кавказ, они только усиливались, и дошли до апогея в «Родине» и «Прощай, немытая Россия!».
Как отмечают исследователи творчества поэта (например, У. Фохт, В. Мануйлов, Э. Найдич и др.), стихотворение «Родина» было ответом на «ура-патриотический» поэтический панегирик русского славянофила Алексея Хомякова под названием «России»10. Восторгаясь детской наивностью и смиренностью русского народа, Хомяков заканчивает своё стихотворение высокопарным слогом о России:
«И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный —
Прозрачный вышнего покров!» (1839).
Для лермонтовского холодного рассудка такая высокопарность была пустым мечтательством, наивной верой в светлое будущее. Трезвый и аналитичный рассудок поэта не мог не видеть жестокой и бесчеловечной реальности, а тем более, когда он испытал её на себе, когда «родная отеческая» власть по своей прихоти распорядилась его жизнью. Конечно, Лермонтов не мог смириться с таким «отеческим» отношением, и вступил в интеллектуальное и моральное борение с казарменной системой.
Теперь мы можем ясно увидеть это борение поэта с «отчизной» и её слугами в первых строках его «Родины»:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья…
Обычно исследователи заостряют внимание на «странной любви» поэта к своей отчизне, и в качестве пояснения этой странности приводят вторую строку: «Не победит ее рассудок мой». Эта строка привычно понимается в том смысле, что «мой рассудок» (лермонтовский) не может победить «ее» (любовь к отчизне). И из этого следует, что, несмотря на рассудочное нежелание любить и ценить свою отчизну, поэт всё же не в силах подавить в себе глубинное чувство привязанности и симпатии к ней.
Мало кто обращает внимание на то, что вторая часть стихотворения начинается с противопоставления «Но я люблю…», которое предполагает рассудочное суждение – «хотя и должен ненавидеть». Это противопоставление будет более понятным и логичным, если мы вернёмся ко второй строке стихотворения, и попробуем увидеть в ней иной смысл: «Не победит её рассудок мой» – (выделено и курсив А.М.).
О чьей победе идёт речь? Кого над кем?
1. Лермонтовского рассудка над любовью к отчизне?
2. Или «её рассудка» («отчизны») над «моим», т.е. лермонтовским? Мы вполне можем допустить правильность и первого, и второго толкования. При этом второй вариант позволяет глубже увидеть лермонтовское различение «Отчизны» и «Родины». Это различение будет характерным для образованных и самостоятельно мыслящих людей в России, т.е. для той самой «интеллигенции», у которой часто складывается «странная» любовь к отчизне. Это действительно «странная любовь»: вовсе не слепое чувство привязанности к родному месту, и не бессознательное (неразборчивое) влечение ко всему русскому, российскому, как это бывает. Но об этом чуть позже.
Итак, мы вправе допустить, что во второй строке стихотворения Лермонтов говорит о борьбе «рассудков»: его собственного («мой») и какого-то другого («её рассудок»), внешнего, общего или «отеческого рассудка», который обычно побеждает индивидуальный рассудок.
Вышестоящий, властный «отеческий рассудок» требует к себе верноподданной любви Лермонтова, т.е. добровольного признания превосходства или «победы», и при этом не представляет весомых, убедительных аргументов о том, почему я должен признать это превосходство, а тем более «победу» над собой? Почему я должен признать свою зависимость от «внешнего рассудка», т.е. от чужого ума?
Скрытый в первой части стихотворения вопрос «почему?» является самым опасным средством в такого рода интеллектуально-моральном противоборстве. Гордый поэт вовсе не хочет отказываться от своего «рассудка» и его доводов, т.е. от своей личной позиции, потому что он видит слабость аргументов «свыше»:
«Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья».
Итак, «слава, купленная кровью» тысяч и миллионов простых людей не впечатляет поэта. Почему? Великие, громкие победы прошлого, в том числе и недавняя для Лермонтова победа над Наполеоном, – блекнут на фоне унизительного, рабского положения «народа-победителя». Этой славой пользуются лишь немногие избранные, прикрывая своё особое превосходство над послушным большинством. Рассудок поэта не приемлет такого унизительного положения и позёрства.
К тому же «полный гордого доверия покой», вековая детская боязнь «раскачивать лодку» и что-то менять в государстве, по существу, просто смешна, тем более, когда она лживо прикрывается отеческой заботой обо всём народе, благополучии всех подданных. Желанный «отеческий покой» неизбежно ведёт к умерщвлению всего «беспокойного», оригинального, творческого и самостоятельного, что собственно и происходило в николаевской России. Высказать правду в такой системе – значит, «бунтовать». А как же честному человеку, смелому офицеру и поэту-публицисту не писать, не говорить того, что он думает, чувствует, что понимает в этой жизни? Для слабых людей выбор не велик: или смиренно молчать, или обманывать себя и других. В обоих случаях личность будет унижена, подавлена, а достоинство потеряно. Для Лермонтова – это было не приемлемо.
И даже «старины заветные преданья», которые были близки поэту, – не порождают у него радостного восхищения, не дают отрады пытливому рассудку. Почему? По моему мнению, на фоне мрачного исторического прошлого России поэт хотел бы видеть более светлое настоящее, которое бы приближалось к идеалу («мечтаниям»), а не отдалялось бы от него. Гордиться прошлым хорошо и уместно тогда, когда оно стало основанием для лучшей жизни. Когда же в настоящем сплошная имитация, типа у нас – «тишь, гладь, да божья благодать», то высокие мечты испаряются как утренний туман, воля парализуется, рассудок деревенеет до состояния «ать, два, три» и постепенно сливается с общим казённым «отеческим порядком».
Теперь нам очевидно, что «отеческий рассудок» выражает именно деспотическую вертикаль власти, которая нацелена на принуждение конкретного лица к рабскому подчинению своим требованиям («порядку»). Лермонтов художественно точно показал, что когда личный рассудок человека выходит из-под такой «отеческой» опеки и начинает мыслить самостоятельно, по-своему оценивать действительность, то его отношение к окружающему миру становится внутренне противоречивым, так как личность начинает раздваиваться между эмоциональной любовью к «Родине» и рассудочной нелюбовью к «Отчизне».
Это усложнённое понимание российской общественной жизни начинается среди интеллектуалов ещё в конце XVIII – начале XIX века. Например, Николай Карамзин в своей статье «О любви к отечеству и народной гордости» (1802 г.) говорит о трёх видах любви к отечеству: физической, моральной и политической11. С моей точки зрения, первая и вторая из них являются именно «любовью к родине», т.е. естественной привязанностью к родной природе, близким людям, родному языку, обычаям и нравам. А третья – политическая любовь – будет представлять собой не что иное, как уважение к государственному порядку, «отчизне» -отечеству. Карамзин обосновывает необходимость политической любви к отчизне с помощью рационально-прагматического аргумента: «Мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывно связана наша собственная» польза, «любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству» [4, с. 282.]. Таким образом, у Карамзина мы находим уже не патерналистскую позицию слепого подчинения государственной власти и безрассудного патриотизма, а сознательное, добровольное признание полезности такого государства («отечества»), которое уважает и поддерживает личное благо и личное счастье своих граждан. Именно о таком добровольном и рассудочном патриотизме мечтал и Лермонтов, но реально испытывал лишь естественную любовь-привязанность к своей родине.
Поэт, лишённый иллюзий верноподданической любви, судит свою «отчизну» разборчиво, придирчиво, не давая себя ввести в заблуждение, и не желая оказаться «в дураках». Как живой человек, он хочет любить, но как мыслящая личность, он не может любить всё подряд. Его рассудочная избирательность требует самому судить обо всём: о былом, о настоящем и желанном будущем. А для этого нужно много знать и уметь сравнивать «свои» достижения, удачи, поражения и слабости с историями других людей и народов.
7
Андроников И. Л. Примечания // Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4 т. Т.1. Стихотворения. 1828—1841. – М.: Художественная литература, 1975. С. 543.
8
Белинский В. Г. Письма / Редакция и примечания Е. А. Ляцкого. – СПб., 1914. – Т. 2. – С. 227.
9
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля / Под ред. А. И. Бодуэна Куртене. – СПб.-М.: Товарищество М. О. Вольфа, 1905. – Т. II. – С. 997.
10
Мануйлов В. А. Родина // Лермонтовская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 470.
11
Карамзин Н. О любви к отечеству и народной гордости // Избранные сочинения в двух томах. – М.-Л.: Художественная литература, 1964. – Т.2. – С. 280—287. [Электронный ресурс]. URL: [битая ссылка] http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/01text/vol2/03publicity/70.htm (дата обращения: 20.09.2014.).