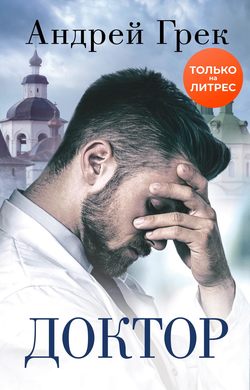Читать книгу Доктор - Андрей Грек - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеВ больнице я любил всё. Мне нравилось, как, например, валит пар из распахнутой форточки пищеблока, и как несколько прикормившихся возле больницы собак, скулящих и перебирающих от нетерпения лапами, ждут повариху Наталью – весёлую, толстую бабу, – которая скоро вынесет миску с объедками.
Или мне нравилось наблюдать, как, наподобие белого флага, треплется сетчатый лёгкий мешок, что надет на трубу вентиляции прачечной, чтобы в него набивалась летящая вата и нитки. Этот бьющийся белый мешок напоминал корабельный вымпел; и сходство больницы с ковчегом, спасающим множество самых различных людей – это сходство опять приходило на ум.
Мне даже нравилось, как гудят лифты, как хлопают двери и как мелкой дробью стучат в коридорах колеса каталок: все эти звуки говорили о том, что больница живёт и работает, дышит – и я, вместе с ней, тоже двигаюсь, тоже дышу.
В дежурные ночи, когда я лежал на диване в своём кабинете и слышал сквозь дрёму все звуки бессонной больницы – тогда я испытывал странное чувство: как будто громада больницы находится где-то внутри меня самого. С урчаньем гудели водопроводные трубы – казалось, гудящее это урчанье я слышу внутри своего живота. Скрипят где-то двери или половицы, а мне мерещится, что хрустят мои собственные суставы. По коридору стучат, приближаясь, колеса каталки: как будто во мне, всё сильнее и громче, стучит моё сердце…
Можно было подумать, больница была мной самим, а я, в полудрёме лежащий внутри ее чрева, был целой огромной больницей, был чем-то таким, что вмещало в себя и больных, и палаты, вмещало пожарные лестницы и коридоры, гулкие залы реанимации и оперблока – то, что вмещало весь этот родной и любимый мной мир.
Но больше всего я любил оперировать. Уже в раздевалке, где мы облачались в просторные, тёплые – только-только из автоклава – штаны и рубахи, я начинал себя чувствовать лет на десять моложе. Вот странно: при всей любви к чистой, добротной одежде – я и в других терпеть не мог затрапеза и неаккуратности – затрёпанное белье оперблока мне всегда нравилось. И пусть мы, хирурги, потешно выглядели в этих штопаных, драных, линялых портах и рубахах – ни дать, ни взять, оборванцы в исподнем – но мне было приятно напяливать эти лохмотья. Неужели тогда, в мои самые благополучные годы, я уже как бы предчувствовал, что меня ожидает судьба оборванца-бродяги?
Переодевшись, шёл мыть руки. Шипела тугая струя, обмылок мелькал в потиравших друг друга ладонях, и серая пена вспухала меж пальцев. Казалось, я мою сейчас не одни только руки – но очищаю и душу. Все суетно-мелкое, лишнее – будто смывалось струей воды. Пожалуй, нигде, кроме как в оперблоке, я не бывал так спокоен и собран, никогда так отчётливо не сознавал, что я в мире есть, и я миру – нужен. И круглое зеркало, что висело над раковиной, подтверждало моё ощущение: в нём отражался спокойный, уверенный взгляд человека, которому ясно, зачем он живёт.
Подняв руки – с локтей капало, и на подоле рубахи расплывались мокрые пятна – я быстро входил в операционную залу.
– Добрый день! – бросал я в ее гулко-кафельное пространство.
Мне вразнобой отвечали врачи, санитарки и сестры – и только больной, что лежал на столе обнажённый, с дыхательной трубкой во рту, не мог ничего сказать. Несмотря на обилие здесь и людей, и приборов, и самых разнообразных предметов, от пластмассовых вёдер до ярко сияющих ламп, пространство, в котором мы все находились, казалось огромным и гулким – как в храме. Здесь каждый звук, каждый жест становился как будто весомей себя самого.
Меня и облачали, как будто священника в храме. Подавали халат – я вставлял руки в его тёплые рукава – завязывали на затылке тесёмки марлевой маски и надевали на руки перчатки. Нужный размер попадался нечасто – пальцы мои были слишком длинны – и я, как на что-то чужое, секунду-другую смотрел на тугие, резиной облитые, кисти.
В эти секунды всегда становилось немного не по себе. Казалось: вдруг я не смогу сделать то, чего от меня все ждут – вдруг пошатнётся моя репутация блестящего, как выражались больные, хирурга?
Но тревога всегда проходила, стоило взять в руку скальпель и сделать разрез. Трудно поверить, но в эти минуты в душу приходит покой, именно ради которого, может быть, хирурги так любят операционную. Странное, вроде бы, дело: откуда присходит этот покой к тем, кто делает самую беспокойную в мире работу? Но, по мере того, как все глубже ты погружаешься в рану – электрокоагулятор пищит, струйки сизого дыма взвиваются от обугленных тканей – ты так облегченно поводишь плечами, так шумно вздыхаешь, как будто с тебя сняли ношу, убрали тот груз, что лежал на плечах – и теперь ты спокоен и счастлив. Ты уж не ты, не тот прежний и часто тяжёлый себе самому человек, одинокий, стареющий, грузный – но ты вдруг становишься частью чего-то живого, огромного, частью того, что сейчас подхватило тебя и несёт в бесконечном и сложном потоке работы. Тебе сейчас нужно одно: не противиться этой таинственной силе, а с ней совпадать – тогда вся операция будет идти так, как нужно, как будто сама по себе. Ты увидишь, что руки твои надсекают, пальпируют, вяжут и шьют уже словно сами собой – а ты лишь удивляешься, глядя на них, до чего же сноровисто, ловко все получается. Вот это и есть настоящее счастье хирурга: когда, кажется, можно совсем отойти от стола – а набравшая ход операция все равно будет длиться. Словно ты уж давно растворился, исчез в этом кафельном гулком пространстве, в сиянии ламп – но продолжают скрипеть лигатуры и звякать зажимы, ножницы туго хрустят, надсекая рубцы, и вот уже видно, как в ране, такой измочаленно-страшной сначала, ткани словно срастаются, все мало-помалу приходит в порядок, и уже недалёк тот момент, когда операция – словно сама по себе – завершится…