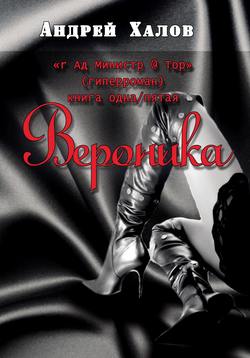Читать книгу Вероника - Андрей Халов - Страница 5
Глава 2
ОглавлениеВеронику раздели догола.
Всю одежду и нижнее бельё, которые на ней были, порвали прямо на теле, и, оставив ей высокие сапоги, вывели из кабинета администраторши, а потом долго прогуливались с нею по коридорам гостиницы.
Впереди шла «мама». В руке она держала поводок, который был пристёгнут к ошейнику на шее девушки.
Веронике было нестерпимо стыдно. Она никогда не чувствовала себя униженной настолько, как сейчас. Она просто сгорала от стыда и, хотя навстречу попадались случайные, совершенно незнакомые люди, по большей части иностранцы, низко опускала голову, чтобы её лица не было видно.
Хотя был уже первый час ночи, в коридорах то и дело кто-нибудь встречался. Люди, не ожидавшие такое увидеть, испуганно шарахались в стороны от дамочки, медленно, будто бы победно, словно на каком-то феерическом шоу-параде, вышагивавшей по самому центру прохода.
Это была фантасмагорическая картина.
Впереди странной кавалькады шла, гордо выпятив грудь и подняв подбородок, – вся из себя расфуфыренная, – помпезная дама лет более чем средних, в красном платье с глубоким до неприличия декольте. На ногах у неё были ярко-красные чулки в очень крупную сетку с большими, словно руками вязаными узлами, белые полусапожки на высоком каблуке с золотистыми цоколями над подковками.
В руке у дамы был поводок, на котором та будто какую-то собачку вела за собой следом ослепительной красоты совершенно голую девушку, стыдливо прикрывающую своё лоно руками. Поводок был пристёгнут к широкому ошейнику с шестью конусообразными металлическими шипами, навинченным на него по периметру, который кожаным обручем опоясывал красивую шейку юной прелестницы.
Та низко опускала голову, отчего её лица почти не было видно. Только на щеках рдели пятна густого пунцового румянца стыда. Локоны шелковистых, переливающихся оттенками русого волос играющими в свете галогеновых светильников волнами ниспадали на её хрупкие, обворожительнее плечики, а с них стекали на спину и вперёд, на грудь.
Красивые, изящные, сочные и в то же время упругие, девических форм и размеров, груди слегка колыхались при ходьбе девушки. Их линии, плавно изгибаясь от вертикального пике с её хрупких плечиков к двум пересекающимся гиперболам, заканчивающимся сосцами, очерчивали собой притягательные, невиданной, роскошной, чрезвычайной, красоты, круглые, налитые книзу формы, образующие две увесистые, словно наполненные гроздьями спелого винограда, чаши, упруго пружинящие на своей подвеске при каждом шаге. Каждая из них, цвета слоновой кости, маняще сияла большим ярко-розовым, как красная медаль, соском, ослепляя и завораживая своей неправдоподобной красотой, великолепием и неожиданностью встречи там, где этого по разумению любого добропорядочного бюргера или постояльца другой цивилизованной породы вроде англичанина, француза или американца, – всех случайных мужчин, видевших это чудо, – и быть не могло.
Позади процессии следовало несколько мужчин кавказской наружности с суровыми лицами, одетых в строгие костюмы и белые рубашки-косоворотки, внимательно озирающих, обшаривающих колкими взглядами чёрных глаз перепуганных, заворожённых и озадаченных очевидцев происходящего.
А те и понять не могли, что такое они видят. Быть может, это было чудачество администрации гостиницы, которая таким образом в эти нелёгкие посткоммунистические времена привлекала на постой клиентов, наслушавшихся от своих уже посещавших Россию знакомых о творящихся в этой гостинице невероятных, экзотических и даже экзальтированных ночных чудесах, вроде этой прогулки вызывающе одетой, в возрасте, дамы с совершенно голой, завораживающей красоты девушкой на поводке вместо собачки.
У иных наблюдавших эту сцену бюргеров, случайно оказавшихся в эту минуту на пути процессии, были с собой фотоаппараты. Иностранцам вообще теперь было свойственно находиться здесь, куда бы они ни направились, с аппаратурой, поскольку в посткоммунистической России можно было внезапно наскочить на такой сенсационный, апокалипсический материал, который за весьма приличные деньги, сразу не только окупавшие с лихвой все расходы на поездку в эту дикую и странную страну, но и позволявшие моментально сделать состояние, с удовольствием приобрёл бы дома, в благополучной Европе или Америке, любой журнал или газета, специализирующиеся на освещении событий на постсоветском пространстве.
Но картина была настолько потрясающей, что многие из очевидцев, у которых были при себе фотоаппараты, от неожиданности и удивления не могли вовремя опомниться и сообразить, что нужно хвататься за камеру и снимать, пока процессия проходит мимо. Правда некоторые, наиболее шустрые и предприимчивые, – те, кто приехал сюда специально в поисках сенсаций, – всё-таки находились и вскидывали свою технику. Но сопровождавшие процессию «абреки», заметив это, тут же быстро подскакивали к таким, закрывая ладонями объективы, и, отрицательно мотая головой, что-то произносили на непонятном бюргерам языке, пресекая все попытки заснять кавалькаду. По интонации и выражению их лиц иностранцы понимали: снимать нельзя.
Некоторые пытались присоединиться к процессии и идти следом, но чеченцы, заметив хвост, отсекали его на ближайшем повороте.
Одному из свидетелей сцены всё-таки удалось сделать снимок.
Вспышка озарила Веронику. Всю дорогу она шла, не поднимая глаз, глядя в пол. И потому ей стали видны синеватые отсветы, озарившие её груди, живот и бёдра.
К иностранцу тут же подскочил чеченец. Что-то гыркнув, он с силой выхватил у того из рук фотокамеру. И хотя хозяин потянулся к своему аппарату с криками «No! None…», «абрек», стремительно открыв крышку, длинным рывком выпустил из него, как кишки из убитого животного, всю плёнку на пол, а потом, вернув фотоаппарат владельцу, невозмутимо и хладнокровно вновь присоединился к ушедшей вперёд процессии.
Помпезная дама, возглавлявшая кавалькаду, совершенно не обращала внимания на удивлённых и даже напуганных такой экзотикой постояльцев. Она словно бы прогуливалась не по знаменитой и популярной у иностранцев гостинице, а по своему личному зимнему саду где-нибудь в глуши, далеко за городом.
Иногда оборачиваясь, она поддёргивала поводок, к которому был прицеплен ошейник на прелестной шейке девушки, так, чтобы он больно и сильно хлестал ту по низко опущенному лицу. При этом дама в красном что-то говорила девушке. Иностранцы не знали русского, но в отличие от них Вероника хорошо понимала её слова:
– Подними харечку, симпатяшка! А не то в кровь расхлещу – нечего прятать будет! Проститутка не должна прятать своё лицо! Это её товар!..
Проститутка!!!..
Вероника не собиралась быть проституткой! Она согласна была делать всё, что угодно, даже мыть туалеты, чтобы отработать долг, но… быть проституткой?!!
Женщине, особенно красивой от природы, свойственна стыдливость. Редко какая особа, не натренированная практикой публичного «аля, в чём мать родила» дебюта, сможет спокойно, как ни в чём не бывало, переносить своё присутствие в обнажённом виде при многочисленных одетых зрителях. И теперь у Вероники эту стыдливость выжигали из души пламенем стыда, от которого щёки горели как факела.
Веронике было и жарко, и холодно.
В коридорах гостиницы было довольно прохладно. Ветер гулял по переходам. В другой обстановке на таком холоде и сквозняке она уже давно озябла бы и даже простыла. Но сейчас она шла отрешённая от ощущения холода. Стыд, горевший внутри её тела жарким пламенем, не давал ей почувствовать его, а вся нереальность происходящего с ней до того ошеломила её, что она вообще уже ни на что вокруг не реагировала.
Единственное, что она понимала, это то, что её тело, её любимое, красивое, самое прекрасное в мире тело, изысканный храм её души, было раздето и выставлено теперь на постыдное обозрение.
Вероника потеряла счёт времени. Её всё водили и водили по коридорам гостиничного комплекса, спускаясь и поднимаясь по лестницам, проезжая на больших роскошных лифтах с этажа на этаж, пересекая залы и переходы между частями огромного здания. Ей казалось, что это длиться бесконечно.
Но вот процессия подошла к каким-то дверям, где наготове стоял швейцар.
При подходе «мамочки» он поприветствовал её унизительным, лизоблюдским даже, поклоном и, протянув руку, услужливо распахнул перед ней двери.
«Мама» вошла в них как королева в тронный зал, так и не сбавив скорости. Следом за ней в просторной зале роскошного номера с четырьмя огромными красными бархатными диванами в виде ракушек, занимавшими едва ли не половину всего внутреннего пространства, в сопровождении чеченцев влекомая поводком оказалась Вероника.
Пол номера от одной стены до другой был покрыт длинноворсовым белым ковром. Огромное окно на всю стену было зашторено тяжёлыми зелёными занавесами, богато отблёскивающими серебром в свете приглушённого освещения от бра в виде свечей на золотых подсвечниках-рожках, рядами висящих вдоль оранжевых стен комнаты по соседству с дорогими, эпического размера, картинами в больших золочёных рамах.
– Дайте ей водки!.. Разотрите! – приказала дамочка, усевшись на диван-ракушку.
Разуваясь, она задрала ногу так, что Веронике стало хорошо видно, что под платьем у неё ничего, кроме чулок, нет.
Зашедший следом за процессией и закрывший входные двери швейцар подошёл к серебристому сервировочному столику на золочёных колёсиках, стоявшему недалеко от входа в номер, на котором были расставлены закуски и спиртное, и, налив из графина водки, протянул Веронике стограммовую стопку.
– Пей! – приказала «мама», глядя на неё снизу.
Она сказала это спокойно, но так, что Вероника даже не подумала ей перечить и тут же осушила рюмку, запрокинув её в горло.
Водка была резкая, противная, с запахом – отвратительная! На Украине такой не было. Вероника закашляла, поперхнувшись застрявшим в горле от непривычности вкуса и ощущений спиртным, обжёгшим ей пищевод.
– Чего это ты?! – обиженно возмутилась «мамочка». – Хорошая водка, между прочим! «Распутин»! Сама такую пью!
Веронике не дали, как следует прокашляться, а тут же положили ничком на ребристую поверхность бархатной красной ракушки. Кто-то принялся растирать ей спину, плечи, ноги и ягодицы той же водкой.
Сначала кожу обожгло прохладой жидкости, но потом она стала всё сильнее греть. Тело стало быстро приходить в себя от озноба, согреваемое крепкими руками и спиртным, впитывающимся в кожу. Вероника даже почувствовала какое-то странное лёгкое блаженство, словно наступила недолгая передышка во время казни.
Её спину массировала пара рук, потом к ней присоединилась вторая, и вдруг кто-то сел на неё сверху. Вероника почувствовала грузность чужого тела у себя на бёдрах, с боков её обняли чьи-то голые тёплые бёдра. Крестец и ложбинку между ягодицами защекотал чей-то лобковый волос.
Её всё ещё продолжали массировать, но вскоре на спине осталась только одна пара рук. Это были руки того, кто сидел на ней сверху. Вероника ощущала, что это женские руки, потому что они были мягкие, нежные и маленькие. Она догадалась, что это руки «мамочки», поскольку больше женщин в комнате не было. Руки эти некоторое время разглаживали её спину, потом вдруг нырнули ей под мышки, схватили и стали мять её груди, с ловким умением сдавливая всё сильнее чаши сочных гроздей молочных желёз. Пальцы этих рук нащупали сосцы и, защипнув их, стали покручивать и пощипывать их, сжимая всё больше и больше, отчего у Вероники из глаз вдруг брызнули слёзы боли и неописуемого блаженства.
Она лежала ни жива ни мертва.
«Началось!» – почему-то думала она, хотя и не желала, чтобы её тело гладили по спине, чтобы кто-то ласкал её груди, тем более что это была женщина. Она не хотела, чтобы к ней прикасались и доставляли удовольствие и боль. Она этого не просила.
Но её об этом и не спрашивали. Её ласкали потому, что кому-то это было приятно делать, ласкали для собственного удовольствия, а не для того, чтобы доставить это удовольствие ей. Для этого же ей причиняли и боль.
– Ах ты, киска! – восхищалась «мамочка», трогая её, приникая к её спине своими мощными, жаркими грудями и водя ими по её коже так, что у Вероники по телу бегали от этого тысячи искрящихся электричеством мурашек, приятно покалывающих и взрывающихся словно маленькие пузырьки с газировкой. – Возможно, некоторое время ты будешь моею!..
Она продолжала одной рукой мять её грудь и щипать за сосок, отчего Веронике вопреки её желанию становилось всё приятнее. Она пыталась понять, удивиться, как может быть так: сразу же мерзко, противно и приятно, но волны блаженства накатывали всё сильнее, заливая мысли пожаром сладострастия.
Вторую руку «мамочка» запустила позади себя, между ягодиц Вероники, властно прорезав и разведя их своей ладонью словно ножом, потом нырнула пальцами в её вульву, нащупала клитор и стала его удивительно нежно массировать.
Кто-то взял Веронику за локоны её волос, со всех сторон окутавшие её лицо, собрал их, намотав на кулак, и, приподняв за них с дивана её голову, привлёк её к себе, завернув набок.
Вероника почувствовала, что изнемогает от желания. Ей было приятно и противно.
«Если изнасилование неизбежно – расслабься и наслаждайся!» – вспомнила она шутливый совет из школьных времён, хотела было ухмыльнуться ему с иронией, но не смогла: волна наслаждения штормом захлестнула мысли.
В губы ей что-то уткнулось, и она учуяла характерный запах. Кто-то разгребал пальцами её волосы, скрывавшие лицо, и старался пихнуть ей в рот свой член. Вероника сжала зубы и зажмурила глаза. Рука над головой собрала её волосы в копну, удерживая их в кулаке.
– Давай, давай! – закричал знакомый голос. – Гарик рассказывал, что ты хорошо сосёшь!..
Вероника сопротивлялась как могла. Она попыталась отвернуть голову. Но её с силой держали за волосы, с болью сжимая их пучок в кулаке.
– Давай, давай, сучка, отрабатывай! – кто-то нажал ей с силой на щёки пальцами, надавив так больно, что она невольно развела челюсти.
В рот что-то проникло. Вероника хотела вытолкнуть это языком, но это проникало всё быстрее и ещё дальше, внутрь неё, заполнив горло. Рука, державшая её волосы, стала таскать голову Вероники взад-вперёд, нанизывая её на член. В мышцах гортани начались рвотные спазмы, доставляя кому-то дикое удовольствие.
«Мамочка» тем временем общалась с её подружкой, раззадоривая её всё сильнее.
Две мужские руки взяли ноги Вероники за икры и развели в стороны. Затем её подняли за них так, что она едва не переломилась в том месте, где на ней сидела грузная женщина, но та от этого толчка повалилась вперёд на её спину, однако, продолжая при этом ласкать её грудь.
Веронике сзади под живот подложили большую холодную подушку, и её бёдра оказались задранными высоко вверх. «Мама» скатилась с неё в сторону, а потом, встав сбоку, стала пропихивать ей в анус то ли сразу несколько пальцев, то ли какую-то прибамбасину для сексуальных утех, может, фаллоимитатор.
Веронике стало нестерпимо больно, из глаз с большей силой брызнули, словно из сжатого лимона, слёзы, но закричать она не могла.
Вскоре кто-то пристроился к ней сзади, воткнув ей во влагалище свой член.
Вероника просто сходила с ума. Ей было нестерпимо больно, и также нестерпимо приятно. Душе же её было нестерпимо стыдно. И она металась внутри, не зная, в какой укромный уголок теперь спрятаться, – в отличие от тела, которое тайком от неё, уже испытало несколько оргазмов, ей было жутко и мерзко.
Но Веронику и не думали оставлять в покое. Её продолжали пользовать! И вскоре душа её затаилась где-то так глубоко, что ей показалось, будто она теперь просто живая кукла: плоть, нанизанная на кости, которой всё равно, что с ней делают. Душа её будто спряталась, свернулась где-то в клубок, как ёжик, ощетинившись отрешённостью, и перестала реагировать на все внешние раздражители.
Теперь Вероника в самом деле превратилась в огромную живую куклу для утех и удовольствий, которую имели со всеми возможными фантазиями «мамочка» и её приспешники. Она уже не реагировала ни на что сопротивлением, подчиняясь механически и бесстрастно, принимая всё, что в неё шло, и делая всё, что ей велели. Она уже даже не воспринимала реальность, словно находясь, хотя и в сознании, но в каком-то обмороке.
В голове её больше не было никаких мыслей, никаких ощущений – ничего.