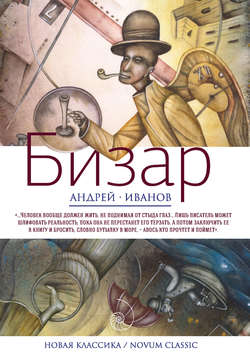Читать книгу Бизар - Андрей Иванов - Страница 4
Часть первая
3
ОглавлениеДом Потаповых – неказистый и мрачный – был последним у дороги, дальше было море. Болота, холмы, пруд. Лес. Зеленые знаки с птичками. «Was für ein Arschloch!»[17] – только и сказал Хануман.
Мы – я, Ханни и Иван – поселились на втором этаже, в маленькой комнатушке, в которой, как сказал Михаил, не далее как три недели тому преставился больной сербский старик (его кончины, собственно, и ждали в Директорате). Казалось, еще чувствовался запах мертвого тела; впрочем, он чувствовался там все время, сколько бы мы ни проветривали (может, то были лекарства). Мы находили ватки, напитанные гнойной кровью. Они были под войлоком, в щелях, под столом, на книжной полке, даже в бумажном шарообразном японском фонаре, в котором помимо миллиона дохлых мух, комаров, мотыльков мы нашли ватку со следами крови… а потом через день еще… сколько бы ни трясли… и еще через неделю из нее вывалилось… больше не заглядывали… все равно где-нибудь да находили.
Фантом старика, который продолжал искать свои лекарства после смерти, преследовал воображение. Он представлялся мне маленьким, сухоньким, похожим на горца, с кривым носом и серебряной щетиной. С клюкой, как дедушка Абдулла. В телогрейке-безрукавке и с ехидной улыбочкой. Руки у него должны были быть коричневые, узловатые, со вспученными венами. Таких я уже насмотрелся. Никакого другого я не мог себе вообразить. Никаким другим он и не мог быть! Таким он мне и снился. «Полторы сотни за грамм, говоришь? – кряхтел старик. – А если сразу на тысячу взять?.. Что, без скидки, говоришь?.. Косой скидки не делает? А Йене? Не делает?» Я просыпался. Шел в туалет и будил Адама. Адам начинал орать, просыпались все. Маша меня журила. Михаил крыл матами всех. Воздух вспыхивал от его брани. Хотелось бежать вон – в болота, в поля, пешком по морю в Германию!
Мы спали на двух матрасах. Иван спал на одном, и мы с Ханни – на другом. Я постоянно съезжал или скатывался, оставался лежать на полу, завернувшись в одеяло. В соседней комнате спала Лиза. Она почему-то вскрикивала во сне. Маша приходила к ней перед сном, укладывала, говорила с ней. Это было обязательной процедурой. Иначе девочка не засыпала. Все равно она часто просыпалась, слишком часто… Проснувшись, она начинала плакать, а через некоторое время уже просто ревела, уткнувшись в подушку. У нее были какие-то истерики. Плакала она голосом взрослой женщины… Но Хануман утверждал, что так ревут обезьяны в джунглях, – «в брачный период», дополнял он. Иван спускался вниз и скребся в дверь к Потаповым, говорил, что Лиза опять ревет. Маша ползла наверх и долго говорила с Лизой, и тогда она опять засыпала. Иногда Лиза ходила по коридору во сне. Половицы дико скрипели; казалось, что они скрипели еще больше, чем от моих шагов; они даже не скрипели, а выстреливали, после чего начинали хрустеть, как трескающийся лед. Адам начинал ворчать, а потом – орать. Просыпался злой Михаил, шел к нам наверх и наказывал Лизу – за сомнамбулизм! Он бил ее сдержанно, приговаривая сквозь зубы: «Спи-и-и! Я тебе говорю: спи-и-и! Тварь такая!» И бил, а она скулила. Каждый шлепок, выбивал из нее взвизг, а если он замахивался, она начинала судорожно выть. Еще до удара. Это его заводило. Видимо, она еще и елозила, пыталась увильнуть. И он злился. Скулила она в точности, как служебные собаки, которых бил мой отец, и пыталась увильнуть наверняка, как и они, приседая и перебирая вокруг него (отец держал их на поводке и примерялся, чтоб всыпать как следует, а те вертелись и – скулили, скулили так, что резало слух).
Отец часто брал меня с собой в питомник, особенно летом. Он говорил: «Ну что, сходим на карьер, искупаемся?.. С собаками!.. А?..» И мы шли. Сначала он упражнялся, заставлял их выполнять какие-то трюки, учил командам и, если они не подчинялись или не соображали, бил, а потом он брал самую смышленую овчарку, мы с ней шли купаться. Для него это было развлечением; к тому же он считал, что для меня такие походы – тоже развлечение и оздоровительная практика; он был уверен, что его работу со всеми экзекуциями и дрессурой, питомник с вонючими клетками и горбатой уборщицей, купание с другими ментами и собаками я воспринимаю как праздник, как нечто невиданное, приобщение к крутой взрослой жизни. Он думал, что воспитывает меня, развивает во мне что-то. Кажется, я даже где-то подслушал им оброненные слова: воспитание… дрессировка… наука… пример… закалка… что-то такое кому-то он говорил, и мать – самое интересное! – моя мать тоже так считала – она радовалась, когда отец брал меня с собой. Она верила, что для моего развития это важно: когда я просил ее, чтоб она меня как-то избавила от этих походов, она сказала мне: «Нет, иди, сходи с ним! Это важно… для твоего развития…» Она даже представить не могла, как меня тошнило от всего этого; все мое нутро сжималось от ярости, когда я видел, как его рука с палкой взлетает в воздух, лицо наливается кровью, морщины образуют маску жестокости, он резко бьет наотмашь и – собака взвизгивает, а затем скулит. Я закрывал глаза и слушал…
Да, думал я, прислушиваясь к плачу девочки, собаки скулили точно, как она.
Комната Лизы была практически в два раза больше нашей, но Михаил сказал, что девочка должна жить в просторной комнате, настоял, чтоб мы пожили в комнате поменьше, которая выглядела как большая картонная коробка. Мы там находились просто в суицидальной тесноте!
Ветер с моря приносил только комаров, которые летели с резервуара, полного криков птиц; плодилось комарье в камышах и просачивалось сквозь невидимые трещины в стенах. Мы били их денно и нощно, а Михаил разыгрывал одни и те же сцены из-за любой ерунды. Он только и искал повод, чтоб зайтись бешенством. Не успели проснуться, а он уже тянет за ухо Лизу, ругает Машу за яйца, которые стухли в его трусах, выговаривает Ивану за блуждание в нижнем белье…
Мы с Хануманом пили чай, брали бутерброды и уходили. В лесу Ханни со вздохом доставал металлическую коробку, скреб гаш, мял табак, скручивал небольшой джоинт. К морю мы выплывали как два легких облачка. Шли, обмениваясь бессмысленными фразами. Он мог говорить об Омаре Хайяме… Салмане Рушди… Арундати Рой… Авраме Чомски… анархо-синдикализме… О чем угодно!
Я даже представить себе не мог, когда он успевал набраться всего этого; казалось, вся эта словесная дурь сама возникала в его голове. Он говорил, что давно мечтает присоединиться к какой-то ультралевой политической организации, его останавливало только то, что они давали обет безбрачия и, кажется, были скопцами, – надругательство над собой в его планы не входило.
Он говорил, говорил… Я шел и слушал. Останавливались, курили сигарету на двоих и шли дальше, по гальке, в направлении старого маяка.
Наткнулись на лодку. Разбитая, она лежала вверх дном. Изнутри сквозь дыры торчали сеть, леска, сломанное весло. Сели.
– Вот так и человек, – сказал Ханни, скреб по дну банки и говорил: – Человек тоже как эта лодка. Бывает, смотришь, с виду вроде ничего, а на воду поставишь, он и на дно пойдет.
Вечерами ходили в порт. Мимо апокалиптической выставки кранов, которую охранял старик с граблями, мимо лошадей, лужи с утками, доходили до старинного баронства, мочились там во дворе, возле музейной конюшни, курили, сидя на скамейке, шли дальше, в магазин, брали немного пива, шли обратно, распивали пиво во дворе баронства, выкуривали сигарету и плелись к морю. Глазели на ненормально медленные машины с немецкими номерами, на рыбаков в резиновых штанах, на холмы…
В порту курили трубку. Она свистела и еле тянулась. Отдавала горечью на языке. Хануман не стал ее чистить, выбросил в море.
– Everything is falling apart,[18] – сказал он.
Я спросил его, почему бы не скрутить хорошенький джоинт, вместо того чтобы курить гарь, добавить побольше свежего гашиша? На это он ответил, что гашиша не так уж и много, надо экономить.
– Сам видишь, в какой дыре оказались. Где тут взять халявный гашиш?
Я предложил съездить в Хускего. Он скривился, но согласился скрутить один крепкий джоинт… покурить и подумать: ехать – не ехать? Укрылись в конюшнях музейного баронства, он скреб ногтем гашиш (комочек был еще весьма приличный, могло надолго хватить); я сушил табак; он скреб и бормотал себе под нос:
– Кажется, мы влипли с этим идиотом. Мне почему-то кажется, что он не поставил «кадет» на продажу.
– Я просто уверен в этом! – выпалил я. – Он и не думал его ставить на продажу! Это же денег стоит. Там аренда, процент от продажи… Да и кто возьмет такую рухлядь?
– Вот-вот, – кивал Хануман, зловеще ухмыляясь. – Он и не думал его выставлять на продажу. Он его уже продал! Суши табак тщательней! Втихаря продал на какой-нибудь свалке на запчасти или в каком-нибудь лагере… каким-нибудь грузинам! За штуку… А сколько еще дадут за такой раздолбанный «кадет»? Штуку крон, не больше! Продал и молчит. Чтоб не возвращать.
– Так, может, прижать его?
– Прижать… Хэх, Юдж, ты кто? Ну кто ты такой в этой стране? В Дании прижать могут только Ангелы Ада или Бандидос![19] Не смеши меня. Прижмешь ты его, он в ментовку позвонит или стаффам скажет. Они приедут в очередной раз бабло ему выдавать, он им шепнет, ты и не услышишь! И куда ты побежишь? Без денег. В Хускего?.. Проще сразу ехать.
– Так едем!
– Нет, я так не сдамся. Надо что-то придумать, вытянуть из него все до последнего, и еще – надо ехать в ближайший город. Что там было у нас? – Его черты исказились, он стал похож на помешанного. – Свенборг? Как думаешь, Юдж, может быть гашиш в Свенборге?
– Он может быть где угодно, – сказал я.
– Да, ты прав, и все же…
Я хотел его спросить: «При чем тут гашиш?», но он так сосредоточенно мельчил его, с таким страданием в морщинах и отупением в глазах, что я замолк, просто ждал, когда он скрутит.
Закурили… Чувствовалось, что Хануман все равно поскупился.
Через несколько дней Хануман нашел задрипанный цветочный магазин, купил сухой мак, сварил головы, мы потихоньку тянули варево, думали, изредка взвешивая, куда ехать: в Свенборг или сразу в Оденсе… или Нюборг? А, Юдж? Может, сразу в Нюборг? – спрашивал Ханни, я пожимал плечами, а его и не интересовал мой ответ, он говорил сам с собой, отмачивал в опиумном вареве табак, крутил самокрутки. Они еле тянулись. Голова наливалась густым гулом – скорей от усердия, чем от опия.
Было бабье лето, которое ничуть не вдохновляло Ханумана. Он застегивался на все пуговицы, заматывался в шарф, натягивал рукава свитера на руки. Он готовился. Холод должен был навалиться не сегодня-завтра.
– Просто ветер подует чуть сильнее, море почернеет, небо помрачнеет, и все, прояснения не последует, – бубнил Ханни, не вынимая сигареты изо рта. – И это может произойти в любой момент, мэн! И что мы будем делать? Понимаешь, о чем я говорю? Мы снова застряли!
Так и было: в природе чувствовались скудость и безразличие. Свинья-копилка опустела, раз в неделю солнце медяк тебе кинет в обед, и снова черный хлеб да вода. Зима подгребала, как безногая потаскуха, расправив подол. Мы в нее проваливались, как покойники в могилу.
Более того, Хануман считал, что мы уже сидели в яме по самое горло и выбираться из нее не было смысла. Несмотря на мягкий бриз и солнышко, Ханни считал, что зима уже началась; по его меркам, зима уже полновластно правила. Поэтому он носил плащ, шарф и перчатки, серую шляпу с полями. Он был похож на детектива (ему нравилось, когда я ему это говорил).
Дорога вилась, и везде была вода.
– Смрадная медуза! – бурчал Хануман. – Все, кто хоть раз воспел море, океан или вообще какой угодно водоем, ничтожества! Каким же идиотом нужно быть, чтобы тратить время на подобную чушь! Уж лучше воспевать шлюх, вот как ты, Юдж, честное слово! – кривил он рот. – Или свой член, как Моррисон! Но не море! Не эту величайшую свалку! Это же самая грандиозная свалка! Море! Посмотри на него! Это же омерзительно! Отвратительная безличная масса воды, вот и всё! Ничего больше!
В ответ море угодливо ластилось к нашим ногам, облизывая гальку, иногда срыгивая тину, иногда брызгаясь.
– Мерзкая тварь! Знаешь, что меня бесит больше всего? – хрипел он, дергая меня за рукав. – Что морю насрать, если ты в него плюнешь. Ему даже по кайфу будет умножиться на каплю. Ты не можешь его пнуть ногой или дать тычка. Ничего не можешь ему сделать! Понятно, что камню, о который ты споткнулся, нет дела, он и не почувствует боли, если ты его пнешь в отместку. Но море ты даже ударить не можешь! Проклятая лужа! Оно не только не чувствует, но и не имеет плоти! Какая подлая стихия! Вся наша природа устроена так, что ты вечно остаешься в дураках. Человеком быть труднее всего, Юдж, согласись!
Я соглашался.
Глядя в воду остановившимся взглядом, Хануман продолжал:
– А теперь, когда человек так расплодился, стало совсем трудно. Особенно мне, философу. И знаешь, что я думаю, Юдж, что у меня на роду написано – жить в нищете и знать все о людях и мире вообще и не иметь ни малейшего шанса извлечь толк из этого знания! Какая-то безысходность, как проклятие! Вот и с морем тоже… Перед тобой сотни, тысячи километров проклятого моря, и ничего не поделать! Оно будет издеваться, кривить тебе рожи, смеяться в лицо, а ты ничего не можешь ему сделать, ничего! Вот поэтому наши предки и придумали богов и прочие легенды. Они хотя б в мифах отыгрывались. Но как убого это у них выходило! Как убого!
По его ботинкам бегали солнечные зайчики, прыгали ему на лицо, и казалось, будто Хануман гримасничал.
– Наши деньги подходят к концу, Юдж. Зиму на них не протянем. Надо решать, куда ехать на последнее… В Фарсетруп или Копен… или куда…
– Хускего, – сказал я твердо, – надо ехать в Хускего! Близко и надежно.
– Это хороший вариант, – согласился Ханни и тут же скис: – Но не уйдем же мы с пустыми руками? Юдж, неужели не вернем свои бабки?
– Мне на это наплевать, – искренне ответил я.
– Мэн, я тебя не понимаю, – вздохнул Ханни. – В нас так много общего, и все равно иногда я тебя не понимаю совсем. Ты как лунатик!
Надолго зарядили дожди. Пили чай с грибками, часами играли в шахматы. Хануман думал, как обобрать Михаила, пока тот думал, как запустить свои лапы в его карман. Не знаю, насколько отчетливо это понимал Хануман. Он шмыгал носом, открывал атлас, закрывал, морщился. Однажды он встал и, не говоря ни слова, ушел наверх, бросив партию в самом развитии интриги. Я сидел и ждал его… целый час! Солнце то проступало, то пряталось. Фигуры на доске то наливались объемом, то делались плоскими. Камыш шептал. Листва шелестела. Черно-белая кристаллическая изнанка проступала сквозь вещи, стены, стекло. Хануман так и не вернулся.
Это была последняя наша партия.
* * *
Михаил бывал в порту, впадал там в идиотическую задумчивость, пил пиво, глядя вдаль, чесал грудину; тяжелое мрачное море вздыхало, поднималось и опускалось. Стихия манила Михаила. Так он решил купить лодку. По-другому и быть не могло: ему нужно было переехать сюда, в захолустье, чтобы найти еще один способ, как потратить чужие деньги. Он спать не мог, зная, что там, наверху, в карманах Ханумана и Ваньки есть какие-то деньги. Он дергался на любое шуршание! Даже если я просто листал журнал, ему казалось, что кто-то шуршит купюрами, пересчитывает деньги. Одного этого было достаточно, чтобы его тут же бросило в пот! Даже если мы с Иваном и Машей играли в дурака. Карты с шелестом разлетались по столику, и это тревожило его воображение. Он недоброжелательно поглядывал в нашу сторону. Поглядывал так, будто пытался уличить нас, поймать на том, что мы все-таки не карты раздавали, а купюры. Он не одобрял почему-то игру в карты. Причем если играли мы с Иваном, то он находил повод нас за чем-нибудь заслать, придумывал какое-нибудь дело, в котором ему требовалась наша помощь, но особенно ему не нравилось, когда с нами играла Мария. Тут он прямо изводился. Начинал стрелять глазищами. А вечером устраивал ей выволочку. Он с болью смотрел, как Хануман достает деньги из кармана, дает мне, чтобы я чего-нибудь купил, – Михаил ерзал, дергался, расплывался в нервной улыбочке, предлагал подкинуть на мопеде, говорил, что сам сгоняет, лишь бы заполучить деньги себе, пощупать хотя бы… В чьих-то карманах лежат деньги, и ничего с этим не поделать. Рано или поздно эти деньги потратят – не он и не для него. Эти мысли не давали покоя Потапову. Мучился, потел и, наконец, объявил, что ему пришла в голову гениальная, как он сказал, идея: купить лодку, сделать кабину, повесить мотор и продать как катер! Он считал, что можно будет насобирать материала, который валялся там и тут, только надо было походить, наскрести с миру по нитке, щепка к щепке, гвоздик к гвоздику, покрасить, поставить скоростной мотор, который тоже можно было где-нибудь раздобыть, и продать такую лодку потом штук за двадцать пять или даже тридцать!
Это был немыслимый идиотизм, но Хануман, когда услышал это, призадумался, несколько дней он бродил по лесу в одиночестве (я видел, как он сидел на перевернутой лодке, глядя в сторону маяка, и мне это не понравилось), и одним поганым сопливым утром Хануман уступил Потапову, просто Михаил опять начал наседать на него, Хануман опустил глаза и сказал «okay then», пообещал, что, если дойдет до покупки, даст ему свою долю, в расчете получить обратно в процентном соотношении. Он пятнадцать минут потратил на то, чтобы объяснить Михаилу, что, вкладывая тридцать процентов в лодку, он рассчитывает получить после продажи пятьдесят процентов от суммы, за которую лодка будет продана, даже если палец о палец при этом не ударит. «Не забывай, – говорил Ханни, – ты нам должен!» Михаил только кивал, он был согласен на всё. Надо было видеть его физиономию. Его душило жаркое счастье наживы. Он был так ошарашен этой внезапной капитуляцией индуса, что даже ушам не верил. Он ерзал. Подпрыгивал на стуле от счастья. Пытался обнять Ханумана. Всплескивал руками, что-то показывая, – лодка!., пятнадцать футов!., всего пять тысяч!., сделать кабину – продать за двадцать!.. – его пальцы шевелились, словно он уже перебирал невидимые купюры.
Как только Ханни сказал «okay then», я аж обмер. В животе у меня свернулось сразу несколько тысяч змей, готовых вырваться и изжалить Ханумана до смерти.
– А как же Германия?! – шипел я на него после. – Хускего?..
– Успокойся, Юдж, все будет нормально, – говорил Хануман, кивая своим индюшачьим носом. – Это не необдуманный шаг. Я все тщательно взвесил. Видишь эти круги под глазами? Хех!.. Это мои бессонные ночи… Я думал, понимаешь, подсчитывал, взвешивал… Ты, возможно, и не спал тоже… Я слышу, какое у тебя неровное дыхание… Мы с тобой так давно вместе, я могу сказать, когда ты спишь, а когда нет… Но ты просто валялся и индульгировал, а я работал, я думал, я смотрел в будущее… Так вот, я все тщательно рассчитал… Иначе нам не вернуть наших денег. Осталось совсем мало. Без денег не зацепиться… Кому ты нужен без гроша в Германии? Надо последние вложить в дело… Михаил умеет же что-то делать руками… Он же handyman[20]…
И так далее, и так далее… Меня охватила слабость, и закружилась голова, как бывает на следующий день после высокой температуры.
Ханни продолжал причмокивать, кивал да приговаривал. Михаил то, Михаил это… Ханни был уверен в проекте. Он считал, что мы сделаем на этой лодке не десять, так хотя бы пять тысяч. Я смотрел на него как на пришельца. Он совсем сдвинулся. Он проглотил эту байку с кабиной. Он верил, что Михаил умеет что-то делать руками. Это было невыносимо!
Еще противней было то, что с момента заключения так называемого договора (который вспрыснули бутылкой виски и ящиком пива) они все время проводили вместе. Они сутками сидели на софе и рассматривали газеты и журналы с яхтами, лодками, прицепами, моторами и подобной непозволительной в нашем положении роскошью. Они с головой ушли в изучение всяких рекламных листков и буклетов. Они завалили себя всей той парашей, которую Михаил, как навозный жук, возил и собирал по всему Лангеланду. Вся эта дрянь просто горой громоздилась на журнальном столике перед ними. Михаил не поленился, он даже на Фюн сгонял на своем мопеде за этой макулатурой, из Рудкьобинга привез, из библиотеки, из Свенборга. Такое ответственное дело – покупать лодку! Не коляску! Тут надо все изучить. Они листали газеты и журналы целыми днями. Потапов шуршал как сумасшедший, он этим шелестом бумаги словно вытягивал из Ханумана деньги. Они разглядывали фотографии с гримасами экспертов. Оба причмокивали так, словно действительно знали в этом деле толк, будто только тем и занимались, что продавали лодки. Между ними наладилось отвратительное взаимопонимание. Михаил мог причавкнуть и показать на какую-нибудь деталь лодки на фотографии, и Хануман в согласии с ним мог тоже застонать, замурлыкать, а потом они вдруг быстро переглядывались, тут-то и мелькала в их глазах искра взаимопонимания, от которой у меня по коже бежал холодок омерзения.
По вечерам Хануман, с лицом восточного купца и тупостью обычного смертного, подсчитывал процент прибыли от продажи лодки, покупка которой еще не состоялась. Он пил чай и в задумчивой неге фантазировал. Однажды он, видимо, так далеко зашел в своих мечтах, что сказал мне, что я могу планировать маршрут.
– Куда? – ядовито спросил я его. – На тот свет? Или в ментовку?
– Ну, не знаю, не знаю, Юдж, – говорил сыто Хануман. – Ты, кажется, собирался в Голландию или Германию…
Я сказал, что, пока не увижу денег, даже бровью не шевельну. Хануман дернул плечиком и сказал: «Как знаешь…»
На следующий день они с Михаилом вновь дули чай, разглядывая объявления и картинки. Цены, лошадиные силы, вес, футы и т. д., и т. п.
– Надо знать, почем нынче лодки, на местном-то рынке, – приговаривал Михаил, прихлебывая. – Надо присмотреться, прежде чем бросаться в омут с головой!
– Несомненно, – говорил Хануман, наливая себе сливки в чай.
Через неделю я поехал с кретинами в Рудкьобинг покупать лодку. Хануман попросил, чтобы я проследил. Но как я мог проследить? Что я мог сделать?! Михаил прыгнул в лодчонку девятнадцати футов и стал ходить по ней, нахваливая:
– Ох, какая лодка! Просто красавица! Какое дерево-то! Не труха, а настоящее дерево! А тут пластик и свежая краска! Ухоженная лодка-то! Тут есть где развернуться, – замахивался воображаемым спиннингом. – Тут просто на всю семью! Мы сделаем семейную лодку! Тут поднимем борта, вырежем в них иллюминаторы! Тут угловой диван, тут столик, тут шкафчик, штурвал будет здесь, снаружи! А этот мотор мы выкинем, на фиг он нам нужен! Что за мотор, хозяин?
Хозяин провел ручищей по усам и сурово сказал, что мотор от газонокосилки.
– На таком далеко не уедешь, – сказал Михаил, – но мы поставим «Ямаху» или еще что-нибудь такое, двадцать пять или даже пятьдесят лошадок. Так понесет, что на все сорок штук потянет!
Он отдал пять тысяч, спросил хозяина приблизительный курс на Багенкоп и ничтоже сумняшеся завел старый мотор! Чадя, как паровоз, мы вышли из порта. Нас провожали странными взглядами практически все, кто был в рудкьобингском порту, они смотрели нам вслед так, словно знали какой-то ужасный прогноз погоды на эту ночь; бывший хозяин тоже, словно обескураженный чем-то, смотрел стеклянными глазами нам вслед. Я тогда подумал, что он смотрел так, будто знал о какой-то роковой неполадке мотора.
Не пройдя и нескольких километров, Михаил полез в свой волшебный рюкзачок, достал бутылку самого дешевого на свете шампанского. Важно выбив из бутылки пробку, окропив при этом пузырящейся струей и лодку, и нас, он произнес тост: «За лодку! Чтоб летала как ласточка!»
Пригубив шампанское, я понял, что мне будет плохо, если я выпью этой кислятины. Но плохо мне стало так или иначе. Нас здорово качало. По совету Михаила я лег на дно лодки и смотрел на появлявшиеся в небе звезды. Небо было ясное, чистое, но вдоль берега уже ползли сумерки; ночь наступала, а мы шли очень медленно. Мотор давал отвратительную вибрацию, мои зубы стучали, меня трясло, как у дантиста в кресле. Порывы ветра разрывали облачко вонючего дыма, бросали его мне в лицо, ветер запихивал этот дым мне в пасть, как кляп. Потапов обещал, что если ровно лежать на спине, то не будет укачивать: «Тебе скоро полегчает», – обещал он, но мне становилось хуже и хуже. В то время как сам главный мореход наслаждался чистым морским воздухом, он сидел сзади и правил с таким важным видом, будто пересекал океан на ледоколе! Курил и перекрикивал грохот газонокосилки – говорил что-то о погоде, о прогнозе на завтра.
– Все будет хорошо! – орал он. – Обещали ясность! Ветер пять, юго-западный!
И что-то еще. Его было плохо слышно, несмотря на громовой голосище. Перед тем как отплыть, он глянул в карту в порту на стенде. Выходило, что идти нам было не больше двадцати часов на этой косилке. То есть всю ночь и все утро!!!
– Обедать будем дома! – пообещал он. – Иван, доставай! Что сидишь?
Из волшебного рюкзачка Михаила показались бутыль шнапса, хлеб, сыр, колбаса, шмель…
– Иди сюда! Держи курс на те огоньки! Видишь?! – орал мне мореход. – Это фарватер! Понял?! Давай!
Сам зажег шмеля, поставил котелок с супом, который вывалил из консервной банки жуткого вида. Я глянул на этикетку на банке: корейский суп. Где-то в области пупка возникло неприятное предчувствие. Михаил причмокнул, стоя на корточках перед шмелем с котелком, и закричал:
– Ммм, этот суп приправлен перцами! Фаршированными перцами! Это лучше, чем лечо! Даже лучше чили! Это не Индия тебе! Это Корея! Понимаешь?! Корея! А там народ знает море! Морской народ – морская еда! Настоящая пища для моряка!
Он еще раз многообещающе чмокнул губами. Суп стал быстро нагреваться, разваливаясь и пузырясь; в нем заиграли подозрительно синие оттенки, чадил он пуще, чем мотор; вонял каким-то гнилым шашлыком, тлевшим третьи сутки… Я даже ложку не взял – сказал, что лучше буду править на огоньки. Но Михаил бросил якорь.
– Есть будем в тишине, – в поэтической эйфории пробормотал он, облизывая ложку. – Постоим, послушаем плеск волны о борт нашей, нашей собственной лодки. Это даже вам не машина, это лодка! У тебя, Жень, была лодка в Ялте? – стал приставать ко мне Михаил. – Нет? Почему? Ты что! Лодка это не что-нибудь, а выход в море! Машина что? Сел да поехал. Без стереосистемы машина ничто. А тут и удочку кинуть можно, рыбину поймать. А рыба – это деньги! Я ходил в магазин. Я приценился. Килограмм трески… килограмм трески стоит сто крон, сто! Это же деликатес! А мы наловим и по пятьдесят продавать будем! Тем же беженцам! Да они с руками оторвут! Особенно арабы в Рамадан! Им же ничего, кроме рыбы, жрать нельзя! А китайцы! Тут, кстати, их много. Они же рыбу уважают. Пойдет – только в путь! Будем ловить каждый день по восемь – десять часов! Как на работу в море выходить будем, ни дня простоя! Морозилка у нас есть, и себя прокормим, и продадим. Сколько денег! И все откладывать будем! На машину, чтобы развозить рыбу! Мы ж в какой жопе живем, пешком, что ли, ходить? Купим наконец нормальную машину, с техосмотром, с номерами, не развалюху какую-то, а машину! Уже через месяц сможем позволить. Я уже ходил тут, приценился – за десять штук «жига» стоит, красавица! Глаз не отвести! Только после ремонта, все как надо. Будем ездить – никто не поймает. Новая машина, новые номера, новая жизнь! Никто не просечет!
Я так и не притронулся к супу, довольствовался бутербродами, которые Михаил выдал мне неохотно, сказав, что я посягнул на неприкосновенный запас. Иван замычал про шнапс.
– Шнапс само собой, – успокоил его Михаил. – Шнапс – это святое! Сам Бог велел! Подставляй стакан, братишка, давай остограммимся и – вперед навстречу ветру! Эх, а представьте, парус поставить и колонки! Врубить «Металлику» и – в открытое море! Это ж будет вообще…
Мы завелись. Поползли. Снова трясло, качало, летели брызги. Мы вышли из-за мыска, и вдруг ветер ударил, волна поднялась. Сквозь темноту недалеко от нас шел огромной глыбой паром. У меня сердце сжалось в орех. Нас чуть не опрокинуло. Я глянул на шкипера.
– Это на Киль он идет, на Киль! – кричал осведомленный Михаил, едва справляясь с собой.
В полной темноте. Буи. Огоньки на берегу… Михаил отклонился от фарватера, не пошел по буям.
– Так срежем, – сказал он, – я карту помню. Она у меня как перед глазами стоит, закрою глаза и вижу: там проход между островом и мысом Лиделсе, видите! Нам незачем идти по буям! Это даже опасно! Вот такой вот корабль пройдется по нам, и все! Амба! Даже не заметит, и кричать бессмысленно! А скорости у нас увернуться не хватит, так что срежем аккуратно…
Через полчаса после этих слов мы сели на мель; это было уже в полной темноте. Мы встали, Михаил вырубил мотор, посветили за корму в воду – там был песок.
– Вот те на, – сказал Михаил. – Гдей-то мы, а? Откуда мель-то?
Посветили вперед: метрах в пятнадцати – двадцати был берег, мне даже показалось, что я различил стаю птиц, сидящих на берегу; мне даже померещилось, что там были пеликаны, но наверняка это были видения. Противно хлюпало у бортов. Потихоньку шипел и хрюкал остывавший мотор.
Михаил сказал, что сразу рыпаться бессмысленно, завтра, мол, разберемся, утро вечера мудренее. «Разбили палатку в лодке, в которой сидели, пили шнапс и травили морские анекдоты» – так потом рассказывал о нашем приключении Михаил жене и Лизе. На самом деле было немножко иначе: пили шнапс и говорили жуткие пошлости о бабах, которых можно будет катать на лодке.
– Вот только кабину построим, – говорил Михаил, – и вперед, все бабы наши! Я уже объявление видел: ту фракке квине… эй, Жень, «фракке» – это что такое?
Я сказал, что это вроде как «разбитные».
– О, вишь, какие разбитные ищут познакомиться, две такие: тебе и мне.
– А тебе зачем? – вдруг спросил Иван. – У тебя жена есть.
– Ну, жена – это хлеб насущный, а иногда и пирожного хочется!
Я спать не мог всю ночь; было так холодно, что я стучал зубами сильнее, чем когда работал мотор; я не спал ни секунды… это была самая настоящая мука! А утро… О, что это было за утро! Туман стоял стеной, просто непроницаемой стеной. Я вообще ничего не видел. Только слышал звуки, искаженные туманом, как сквозь стены с подушками, как в той музыкальной шкатулке, в которой продержали Бекаса несколько недель. Можно было биться о них головой, можно было идти вслепую сквозь них, можно было сидеть на мели, можно было ползти, можно – сушить весла, плеваться, скрежетать зубами, дрочить, скоблить якорь, плести удавку из макарон, делать что хочешь, туман поглотил бы все – как негодование, так и бессилие, все было едино в этом тумане, и все бессмысленно…
Мы стояли на мели; берег, который мы видели ночью с фонарем, утром испарился; было не ясно, куда он делся, а еще меньше было понятно, куда плыть. Я посмотрел на Михаила: он же помнил карту наизусть! Он должен был все знать! Эй, шкипер! Он, видимо, ощутил едкость моего взгляда, но постарался вывернуться и не потерять лица, стал говорить, что, видимо, нас отнесло. Мне хотелось утопить его прямо там же или хотя бы просто воткнуть лицом в котелок с остатками корейского супа, чтоб заткнулся!
Они достали весла и стали толкать. Кое-как снялись. Пошли вдоль предполагаемого берега. Михаилом, конечно, предполагаемого. Он сказал, что мы все-таки вовремя бросили якорь.
– Если б мы продолжали идти в темноте, могли о камни разбиться, – рассуждал Михаил, – слава богу, меня интуиция не подвела!
Туман плыл вместе с нами, он ткался прямо на глазах, поднимался от волн, крался вдоль бортов, прикасался к пальцам, окутал и держал нас в мягких объятиях. Ощущения продвижения не было, было блуждание вокруг да около. Казалось, что лодка просто кружила. Михаил пытался припомнить карту, в которой больше не было надобности, – везде был туман. Но он продолжал усиленно припоминать.
Туман уплотнялся. Мы тыкались в берег, отталкивались от камней. Разворачивались и вновь утыкались в берег. Это было просто как во сне, из которого хочешь вырваться, хочешь проснуться, но вновь оказываешься в нем. Вновь открываешь глаза, вновь видишь туман. Все оставалось на месте: серое мглистое небо, белый мохнатый туман, песок, чавканье волн.
Вскоре мы снова застряли на мели, да так плотно, что не могли сняться на веслах; сколько ни толкали, все было без толку. Михаил сказал, что надо толкнуть лодку, как машину, надо лезть в воду, кому-то придется, у кого ноги длинные…
– Ну уж этого я делать не буду! – твердо сказал я. – У меня ноги не только не длинные, но и больные. Такие больные, что…
– Ну и кто ж?.. Кто ж тогда?.. – взвыл Михаил с перекошенной мордой. – Я, что ли, полезу?
И вдруг затараторил, понизив голос до какого-то молитвенного бубнежа, как дьякон какой-то, который неумело обращается к заблудшим.
– Ведь я же такой маленький! Я если прыгну в воду, так сразу по грудь! А ты с Иваном…
– А чё сразу с Иваном? – всполошился Иван. – Чё Иван-то? Чуть что сразу Иван! Зачем ваще двум в воду лезть?
– Да потому что кто-то один не толкнет, а двое наверняка! – объяснял Михаил. – А один править должен!
– И это ты, конечно, – сказал я едко.
– Ну не ты же! – огрызнулся он и пошел в атаку. – Ты же, блин, не можешь править нормально! Ты один раз правил. Мы из-за тебя отклонились и сбились затем с курса!
– Из-за… меня? – обомлел я. – Из-за меня?!
– А из-за кого ж еще, как не из-за тебя?! Ты же суп есть отказался, и, пока мы ели, ты все рулил и рулил, на камни…
– Какие камни?! Какие камни?! На огоньки!
– А теперь выяснилось, что на камни! И скажи спасибо, что нет пробоины! А то все были бы по уши в воде и черпали бы…
Я махнул рукой – спорить с ним было бессмысленно. Прыгнул в воду, за мной Иван, толкнули в два приема, влезли обратно. Мои ноги горели, я растер их, укутал в тряпки, но все было бесполезно: уже свело икру! Я застонал.
Медленно шли от мели до мели, ползли, как по минному полю. Михаил разглядывал дно с носа, командовал, куда нам поворачивать. Отталкивались веслами, дно было вязким, весла легко уходили в муть; иногда скребло по днищу, так отвратительно, как тряпка во рту, и вскоре мы снова засели, снова плотно; пришлось прыгать в воду опять; толкнули, пошли дальше… Продвижения не было никакого. Снова и снова мы с Иванушкой прыгали в воду и толкали лодку, снова и снова уходили веслами в вязкое дно, до которого было не так просто добраться… мокрые руки мерзли…
– Это хороший знак! – кричал Михаил. – Становится глубже!
Мы с трудом выдергивали весла, вытягивая то ошметки сети, то пучки водорослей, снова застревали, прыгали с опаской в темную воду уже по очереди: то Ванька, то я прыгал, влезал, натирал грязные ноги, расцарапав до крови ломаной ракушкой. Вскоре я ног уже и не чувствовал, они были совсем как деревянные протезы… И боль в икрах утихла, ноги скрючились, мышцы ног под кожей сворачивались и подергивались, как издыхающие животные. Сел на дно лодки, попросил Ивана дать мне пунш, перехватил его робкий взгляд в направлении Михаила и чуть не взбесился.
– Дай мне пунш! – сказал я твердо.
– Иван, дай ему пунш! – позволил Михаил.
Я растер ноги пуншем. Забрался в палатку. Замотал ноги в тряпки. Лег и провалился в сон.
Сон не был тревожным, – наоборот, он был сладким и глубоким, крепким как смерть, какую сыскать можно только в какой-нибудь проруби.
Проснулся я, когда загрохотал мотор, а лодку затрясло; выглянул, увидел, что туман расступился; рассмотрел маленький островок, за ним другой, там же буи… Мы шли по буям, что и следовало делать с самого начала, а не срезать. Но ничего не сказал – меня наполняли досада, бесполезность самоотверженности, вызванной действиями идиота, и полное бессилие что-либо доказать или изменить. Михаил брезгливо поглядывал в мою сторону и снова устремлял свой взгляд в направлении стихии. Сколько презрения было в его взгляде! Он вел лодку! Настоящий мужик! Герой! Да, такой не теряет самообладания даже в тумане. Его ноги не сводит судорогой, когда он прыгает в ледяную воду поздним октябрем в Дании. Настоящие мужчины не идут ко дну кормить крабов своими татуировками. Настоящие мужчины заставляют прыгать в воду других! Они сбиваются с курса и создают видимость, что это другие стали причиной трагедии! Настоящие мужчины выжили, а тюфяки пошли на дно!
Михаил курил и правил, ему было что рассказать дома: он побывал в переделке, но вышел сухим из воды, в которую даже не прыгал. На следующий день я слег с высокой температурой, которую ничем, кроме детского аспирина, было не сбить, Михаил начал было и тут гундеть, но ему вдруг стало не до меня: лодка потекла, обнаружилась течь, и – началась новая эпопея…
Лодка текла, «как шлюха» (по словам Ивана); черпали каждый день, даже два раза в день, утром и вечером, потому что нехило набегало. Дом от порта был в пяти километрах, мопед снова сломался, велосипед был только один. Да еще и дохлый, старый, ржавый, наверное, семидесятых годов. Михаил не мог справиться с этим велосипедом, он засылал на нем вычерпывать воду Ивана. Тот черпал, приезжал в мыле. От велосипеда он уставал больше, чем от чертыханий с плошками и ведрами. Михаил великодушно наливал ему пунш, Иван докладывал, Мишка слушал, насупившись, гулко говорил: угу… угу… А Иван все к велосипеду сворачивал, жаловался, что на таком велосипеде, мол, ехать тяжко, может, он лучше пешком будет ходить?.. Михаил тогда орал на него, матерился, мол, зачем тогда велосипед с Юлланда тянули за собой?.. Он старый и такую нам службу служит – столько бутылок на нем уже по третьему кругу пустили! Иван умолкал – на это ему было нечего сказать…
Шли дожди, погода резко ухудшилась. Михаил бился над проблемой, он пытался определить, в каком месте лодка давала течь. Мне это было совершенно очевидно – конечно, в том месте, где мы сели на камни. Но Михаил-то не желал согласиться с тем, что течь образовалась по его вине; он говорил, что я бредил, что это был жар; он говорил:
– Мы только царапнулись о камень! – И пальцами показывал щепотку. – Совсем ничего. От такого касания не могло повреждение произойти. Течь наверняка, наверняка идет через винт. Да, именно через винт, – говорил он, – через сами пазы, через пазы! Винт, понимаешь, с годами разболтало, лодка не ходила несколько лет, а тут мы такой забег дали, вот оно и потекло. Там солидола мало!
Он разорился на тюбик солидола, вогнал его в винтовое устройство, но течь не была устранена. Некоторое время Михаил утверждал, что течет гораздо меньше, и добавлял:
– Еще неизвестно, течет ли или это дождевая вода…
Иван утверждал, что воды, как и прежде, много. Он ее измерял пластмассовыми мерками, количеством черпаков. Он состряпал такой черпак из полуторалитровой бутыли. Он тихонько говорил Михаилу, что ситуация не изменилась. Но Михаил не хотел верить, что выкинул деньги на солидол напрасно. Он говорил, что нужно подождать, почерпать…
– Вот дожди кончатся, и картина прояснится, – деловито говорил он.
Дожди кончились, на несколько дней прояснилось, и стало совсем очевидно, что вода поступает с угрожающим постоянством. Пришлось изучать днище лодки. Для этого вытащили лодку на берег, на верфь, при помощи какого-то специального тягача. Я всего этого не видел, я валялся на матрасе в спальном мешке, Хануман меня накачивал чаем с грибами и медом, потом приходил Иван и рассказывал, меня начинало трясти от его историй…
Как только вытянули лодку на верфь, зарядили дожди с неслыханной силой. Михаил с Иваном вышли на улицу – сразу до нитки промокли. Вернулись, Мишка заставил жену сшить целлофановые бушлаты, явились к капитану как призраки; капитан взял с них пятьсот крон за сутки на верфи, за тягач – двести, и за место в порту он потребовал немедленно уплатить и оформить документы. Михаил побледнел, пошел к Хануману. Тот, стиснув зубы, выдал триста крон.
– Это всё, – сказал он сердито. – Всё, ты понял?
Михаил ушел очень недовольный. Ходил по дому и матерился. Они долго искали, где бы еще занять, потом опять ползали по порту, по лодке, гадали – где повреждение? И в конце концов капитан сам пришел и, бросив взгляд, сказал, что течь идет как раз через то место, где мы и потерлись о камень.
– Надо смолить, – вынес вердикт капитан. Пришлось покупать специальный клей и еще некое волокно, которое тоже стоило немало. Школьным автобусом услали Ваньку в Свенборг к какому-то одесситу клянчить сто крон; тот все время посмеивался и повторял: «Ого! Сто крон! Это что, самый смешной анекдот в Дании?», но дал.
Погода ухудшилась до небольшого шторма. Ветер свистел. Воды в море прибавилось, и вода почернела от злости. Задиристо толкала лодки, корабли. Михаил с Иваном нервно переглядывались и заделывали рану.
Чтобы не простаивать с лодкой на верфи, Михаил решил ускорить процесс затвердевания клея. Для этого он принес свой электрический комнатный обогреватель, подтянул к лодке удлинитель, чтобы направить струю теплого воздуха на залеченное клеем место. Ветер и дождь усиливались. Они стояли у лодки, мокли, и сушили, сушили лодку! Рыбаки хохотали до колик; сбегали быстренько за пивком, встали в распахнутой мастерской напротив, пили пиво, курили и вышучивали их. Дошло до капитана. Он сперва не понял, что происходит. Долго смотрел… Видно, глазам не верил. Затем подошел и тактично сказал, что это не играет никакой роли, греешь ты или нет, скорей, наоборот, если греешь, то хуже, потому что… и тут капитан загнул нечто такое, чего Михаил с Иваном уже никак не могли понять.
– Но главное, – сказал капитан, – за использование электричества в таком количестве вы тоже должны заплатить по меньшей мере крон сорок за час при таком расходе!
Они тут же выключили обогреватель. Утром – в ливень – они поставили лодку на воду; течь не возобновилась. Даже я вздохнул с облегчением (и стал поправляться). Погода установилась хорошая, и они пошли в море. Когда они вернулись с первой рыбой, то устроили праздник. Они наготовили котлет из трески, пожарили филе, сварили суп, заморозили пару штук.
– Ну что, – гордо сказал Михаил, выпучивая брюхо, набитое рыбой, – лодка-то начала окупаться!
* * *
Теперь нас кормили рыбой каждый день. Три раза в день. Ничего, кроме рыбы. Хлеб и чай еще, а так: рыба, рыба, рыба. В любом виде. Эти люди знали, как можно извернуться, чтоб рыба перестала походить на рыбу. Они ее вываливали в сухарях и суповых кубиках, да-да, куриных бульонных кубиках, говяжьих бульонных кубиках, и думали, что так рыба станет по вкусу похожей на курятину или говядину!
– В нашем положении, – разводил руками Михаил, – ничего не остается… Нам не приходится выбирать…
Они ходили в море всю неделю, наловили полный морозильник рыбы. Сходили в ближайший кэмп, продали там что-то. На это у них ушел весь день, покупателей искали долго, осипли от торгов, в конце концов уступили по очень низкой цене, такой смешной, что даже сутки на верфи недельным уловом не были окуплены.
Мы снова ели рыбу, а Михаил и Иван ловили и ловили, уходили как на работу – на весь день; когда возвращались, от них слышался запашок…
– Я уверен, – говорил Хануман, – что этот проклятый идиот больше пьет, чем ловит. Даже если и ловит, то пропивает больше, чем выручает! Он никогда не вернет нам денег! Ты должен ходить с ними в море и контролировать их!
Я отказался. Я сказал, что мне наплевать, пусть пьют, сколько хотят, пусть «мы не вернем наших денег», мне вообще плевать на деньги, – в море с ними я никогда не пойду. Однозначно.
Хануман впал в задумчивость. Он не хотел сдаваться. Его обобрали, а он все еще на что-то надеялся. Он начал было сверлить Михаила, но тот придумывал все новые и новые объяснения, у него была тысяча самых разнообразных причин, по которым он пока что не мог начать возвращать деньги, ведь они уже начали строить лодку, они уже протягивают всякие тросики к штурвалу, который он начал вытачивать по вечерам на кухне.
– Отдавать деньги сейчас, – качал он головой, – это препятствовать процессу! Это глупо! Мы продадим лодку в три раза дороже, Хануман! Деньги сейчас, как никогда, нужны, чтобы строить кабину! Мы собираем строительный материал и покупаем инструменты!
У него были всяческие отговорки, он приводил доводы, сказал, что мопед не починить, велосипедов нормальных нет, не на чем возить материал. Щелкнув по коробку, загнал его за сахарницу и сказал, что теперь он откладывает на машину:
– Нужна машина! Чтобы строить лодку и ездить в порт! Чтобы собирать строительный материал и посещать свалки! Ведь все основные детали на свалке! Если всё покупать, лодка так и выйдет в сорок тысяч! А если пособирать по свалкам… Всё ж дешевле! Машина просто необходима!
И снова аргументы, целый список: Маша опять беременна; ездить в магазин; опять свалки и мастерские, контейнеры и магазины; мы тут засохнем, надо выбираться; в Свенборг, Оденсе, Нюборг… Нужно возить продавать рыбу; расширять круг знакомых; строить лодку; свалки, свалки; нужен мотор, и, чтобы везти мотор, нужна машина, не на себе же… Свалки, свалки; стройматериал, магазин; Маша, Маша, дети, дети, лодка… А-а-а! Конца и края этому не было!