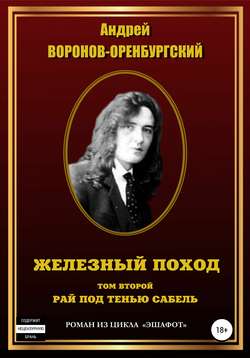Читать книгу Железный поход. Том второй. Рай под тенью сабель - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 2
Часть 2 Рай под тенью сабель
Глава 1
Оглавление– Уо-о-о-ех-ех! Ла илаха илля ллаху ва Мухаммадун расулу-л-лаху!1
– Аллах акбар!2 Аллах акбар! Уо-о-о-ех-ех!
Лошади ярились в скаче, разметав свистящие на ветру гривы, храпели, отрывисто ржали, слыша гулкую трескотню выстрелов, чуя беспрерывно нарастающий позади топот.
Дзахо не скрывал своей радости, хохотал, гикал; сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за колючую гриву коня побратима Занди:
– Аллах ми-лос-ти-ив! Грязным гяурам3 нас не догнать!
Черноглазый Занди огненно сверкнул очами из-под косматой папахи, смело и весело оскалился, показывая белый и острый, как у волка, ряд зубов, крутнулся в кумыцком седле назад. Там, у Терека, со стороны Амир-Аджиюрта зло грохотали ружья русских, но дело было сделано. Табун артиллерийских и подъемных лошадей был угнан и мчался теперь на юг, к реке Сунже, под защиту Качкалыкского хребта, куда не мог в одноразье дотянуться неприятельский штык.
– Дэлль мостугай!4 Клянусь Аллахом, всех будем резать, как свиней! – Занди выстрелил наугад из крымского ружья в сторону русских – больше для острастки и лихости, и, узрев на усталом, но счастливом лице летевшего рядом в седле Дзахо влажный живой оскал, огласил каменистые холмы боевым кличем: – Аллах акба-а-ар!
– Аллах акба-а-ар!! – грозно и воинственно вырвалось из двух сотен глоток ходивших вместе с Дзахо и Занди в набег горцев. И, точно услышав раскатистый призыв своих сыновей к Небесам, на разные голоса зарокотали стократным эхом ущелья и горы.
* * *
На Кавказе говорят: «Лучше иметь трех кунаков в горах, чем сотню золотых за пазухой». Верные и, как демоны, вездесущие мюриды давно предупредили своего правоверного, почитаемого имама5 о крупном скоплении в станице Червленной русских войск, которые готовились к переправе за Терек для усиления Грозной и карательного похода вглубь Дагестана и Чечни. Знал Шамиль и о том, что на правом берегу пограничной реки у Амир-Аджиюрта уже находятся русские силы, состоящие из навагинцев, тенгинцев, замосцев и любинцев, при конных, горных орудиях, и нескольких сотен казаков.
И действительно, все эти войска, ожидавшие приказа генерал-адъютанта Нейгардта, состояли под временным начальством генерала Полтинина, который во время командования Навагинским полком обратил на себя внимание как своими оригинальными выходками, так храбростью и ранами. «О нем хаживало немало историй вроде таких, что кто-то из великих мира сего спросил, сколько раз он был ранен? Генерал, не замевшкав, отрапортовал: Семь раз ранен и контужен, но ни разу не сконфужен»6. Однако ныне ему пришлось сконфузиться перед молодечеством и удалью джигитов Шамиля.
Как известно, войска объявились на Тереке с апреля месяца для приготовления сухарей и фуража. Будучи расположены лагерем в одну линию тылом к реке, русские имели на правом фланге прилегавший к Умаханъюрту лес с непроходимой чащобой Качкалыкского хребта и Сунжи.
Чеченцы, беспрепятственно следившие из этих зарослей (опрометчиво оставленных без дозору с нашей стороны) за действиями солдат, внезапно напали на табун артиллерийских лошадей в то время, когда лагерь готовился к инспекторскому смотру – чистил оружие и амуницию. Набег был столь молниеносен, что когда генерал Полтинин отправил погоню, то на месте пастьбы остались только несколько изрубленных шашками ездовых. Лишь отдаленный, движущийся по направлению к синим хребтам желто-бурый столб пыли указывал на горцев, быстро гнавших табун, запуганный беспрестанной пальбой и бешеным гиканьем.
* * *
Ночь мистической тишины окутала горы. Казалось, что даже сварливый, гремучий Терек, и тот стал нем, повинуясь магии тьмы. Только алмазное свечение звезд вокруг жемчужного полумесяца в черном небе, да на дальнем склоне ущелья, до которого полдня пути, в аулах, как сиротливые искры костра, светились окна…
Дзахо Бехоев перевел дыхание, скрепляя губы и сердце священной молитвой, косо скользнул взглядом по широкой росистой поляне. Двести воинов, давших обет верности газавату, стояли на коленях в безграничном смирении, прижав лоб к земле, совершая намаз7 Замер в молитвенном созерцании и он – Дзахо Бехоев из Аргуни – сын осетинки и чеченца, чей брачный союз был крепче булата. Замер и не смел поднять наголо выбритой головы, упав ниц перед Аллахом, признавая духом и плотью лишь его беспредельную власть над собой и всем сущим. Истинным правоверным предписано совершать молитву пять раз в день: между рассветом и восходом, в полдень, незадолго до заката, после заката и поздно вечером.
Особо благочестивые совершают еще и дополнительную молитву ночью. Дзахо едва ли не с колыбели знал: намаз можно совершать в любом месте, лишь бы прежде было сделано должное ритуальное омовение. Предпочтение отдается молитве в мечети, поскольку там ею руководит мулла8, но воинам Шамиля не до мечети, не до минаретов, с башен которых звучит призыв к молитве – азан… Вместо намазлыка9 с изображением ниши, острие свода которой обращают при молитве в сторону Мекки, у джигита верная бурка, вместо фонтана для омовений – вода из горного родника, что прозрачней самого хрусталя; вместо священной книги – Корана, в которой вьется непрерывный зеленый стебель, давая побеги и почки, словно оплетая мир бескрайней порослью человеческих дел и поступков, у горца – в сердце молитвы Аллаху, а в руках брат-кинжал, в ножнах сестра-шашка.
После того, как последняя рáката10 прозвучала во славу Создателя, мужчины поднялись с колен, кутаясь в бурки, натянули на черные брови папахи, развели костры. Русские остались у реки, в родных горах нечего бояться горцу, а если и есть риск… что ж, лучше прожить один день волком, чем десять лет овцой. «Жизнь и смерть ходят рядом, но ничего не знают друг о друге», – говорят мудрые аксакалы; и еще: «Сильные идут дальше… сильные доходят до цели». Так говорили старики, и с ними соглашался Дзахо, машинально сжимая пальцы на чеканной рукояти кинжала.
– Волла-ги, билла-ги, талла-ги11, хороший был день. Слава Аллаху, все живы. Только Эслан ранен в грудь… Что скажешь? – подошедший Занди, заросший дремучей бородой до самых глаз, покачал головой. – Смерть ходит не по горам, а по людям. Но мы отомстили русским собакам за нашу кровь… У них пушки, у нас – газават. Садись, брат, на самый мягкий камень. – Занди из Шали усмехнулся своей шутке, присаживаясь вместе с Дзахо у костра. Кто-то молча почтительно подал им пару сырных лепешек. Бехоев увидел только освещенную огнем руку. Принял подношение и с удовольствием оторвал поджаристый кусок. Все, собравшиеся у костров плотными кольцами, ели в молчании, и на фоне подсвеченного огнем неба графично виднелись бараньи папахи, прямой угол плеча бурок, вороные стволы ружей.
Дзахо стряхнул с мягких юношеских усов хлебные крошки, запил из кожаной фляжки родниковой водой и посмотрел в сторону угнанных лошадей. Те были сбиты в гурт, настороженно прядали ушами и испуганно храпели при виде крутившихся вокруг них верхами сторожей-погонщиков. Юноша улыбнулся своим мыслям; в глазах табуна отражались рубиновые углы прогоравших костров, их малиновый сочный блеск скользил и играл в черном гривье, как играют звездные блики на речной глади.
– Дождя не будет, светлячков много, – глухо обронил Занди, оглаживая широкой жесткой ладонью подстриженную, окрашенную в красный цвет бороду.
– Что будешь делать дальше, брат? С нами пойдешь к Шамилю? Имам теперь в Салатавии12 стоит, на слиянии Ах-су и Татлы-су, а может, на Хубарских высотах, там много пастбищ и ключевой воды. Надо передать сведения о русских.
Дзахо посмотрел в немигающие черные до стального отлива глаза Занди и уклончиво сказал:
– Плохих лошадей отбили… многие ли дойдут до места?
Узкие губы старшего друга-наставника скривила ухмылка презрения. Бугристая с синеватой дымкой гололобая голова склонилась на грудь.
– Какая разница… Угоним еще… Лучше шашлык без шампура, чем шампур без мяса. Тех, что падут, бросим шакалам.
Занди закурил маленькую, с костяным мундштуком на серебряной цепочке, абхазскую трубочку и, уперев левую руку в колено, затянутое в кожаную ноговицу, молвил:
– Война – это не только храбрость, кунак. Война, как и жизнь, это еще терпение. У тебя его нет, Дзахо, а ты терпи.
– Орла обещаниями не кормят, а нас перекармливают! Когда мы дадим гяурам настоящий бой? Когда погоним неверных собак с наших гор, из наших садов, по тем дорогам, которые они построили сами?
Шалинский мюрид со скрытым удовольствием всмотрелся в молодое, смуглое, с точеной переносицей лицо своего послушника, по которому, как темные струи Сунжи, скользили конвульсии ненависти. Посмотрел и после густой паузы тепло потрепал того по плечу.
– Уо! Молодец Дзахо – джигит! Пленные русские собаки еще построят мечеть в твоем ауле. Воллай лазун, ты храбрый абрек! Если бы не был таков, не переплывал бы со мною Терек, не резал бы казаков, не поил бы землю их кровью.
– У них в жилах свинячья кровь! Убей иудея и крестоносца, так учит Коран, так говорит и наш Учитель Шамиль.
– Ты хорошо помнишь заветы пророка и посланника Аллаха Мухаммеда13… Волла-ги, билла-ги, Дзахо. Это очень хорошо. Кто твой отец был? – Занди, как старый лис с седой остью на шкуре, хитро прикрыл один глаз, будто уснул, но другой глаз, наполовину открытый, следил за послушником, который жадно внимал ему, ожидая наставления, вопроса или приказа.
– Мой отец? Чеченец из Аргунских гор.
– А твоя мать?
– Осетинка из Даргавского ущелья. В честь ее деда мать дала мне имя Дзахо.
Занди вновь замолчал, вытянул руки к огню, будто вспоминал былое.
* * *
Лет двадцать назад он с братом Арби действительно был в тех местах. В Даргавское ущелье им пришлось, чтоб не узнали кровники, входить через верховья, под покровом ночи, обвязав тряпьем копыта лошадей, а лица укутать по-разбойничьи башлыками. Над суровыми графитовыми скалами круто нависала иссеченная древними рубцами и трещинами снежная стена Заррчухóха. Перед ледовым ликом ее особенно сирыми казались аулы осетин, лепившиеся друг к дружке, что ласточкины гнезда. Готовясь к походу, они с братом Арби весь день отливали свинцовые пули для длинноствольных кремневых ружей – крымских, с которыми с младых ногтей хаживали в свои ичкерийские леса на зверя и за границу этих лесов… на людей. Братья Аджиевы искали славы…
Но, видно, не только в Шали умели метко стрелять и отливать грозные пули… Слава как смерть: отнимает человека у близких. В родное селение Занди вернулся с трупом брата лишь три недели спустя – иссохший до костей, в коростах крови, с чернильной тьмой мести в зрачках… Осетинская пуля, пройдя меж глаз Арби, навеки забрала душу старшего брата. Занди было так больно на душе, что казалось, нет сил ненавидеть. Но это только казалось. Вскоре на кладбище, близ селения Шали, среди других островерхих пик, что возвышались, будто копья древних воинов, устремилось в небо еще одно. По чеченским законам такие шесты зеленого цвета устанавливают над могилами воинов-гази или муджахидов14 , погибших в бою с неверными. Наверху – зеленая лента со звездой и полумесяцем, она висит до тех пор, покуда погибший не будет отомщен.
Те, кто убил Арби, были гяурами.
Мифология осетин туманна и запутанна – от язычества к христианству, от Вациллы к Христу – туманна и сложна, как и сама история народа. Тысячи лет бродили осетины по степям от Кавказа и до Дуная. Тысячи лет зверели их сердца в битвах с готами, татарами, славянами. Сотни лет давили, душили и гнули их многопудовые горы. Осетины – горцы, дети Кавказа, а значит, братья по духу: аварцам, черкесам, лезгинам и прочим магометанским племенам… Но разве это могло охладить кипящую кровь чеченской родни, за которой тоже стояли: Века войн, Века кочевий, Века голода крови?
Кавказ всегда жил правдой: око за око, зуб за зуб, и гибель родственника от пули или кинжала соседа не такая уж новость для горцев. Народы суровых племен, возросших для войны, крайне редко могли пролитую кровь закончить миром – уплатой маслаата за оскорбление, восстанавливающей доброе имя потерпевших. В гудящей сакле Аджиевых чувство поруганной чести перевалило за высокие гребни шалинских гор. Оно залило все долины и ущелья в округе.
«Разве мы не чеченцы? Разве обычаи забыли? Или жалкие осетины думают, что Аджиевы примут позор… и дальше будут смиренно пасти скот? Канлы! Канлы!! Канлы!!!15»
Минуло не более месяца, как родственники Занди сняли с шеста зловещий значок мести. Это значило: кровники из тейпа, к которому принадлежали Аджиевы, уже успели расплатиться жизнями осетин за смерть своего соплеменника.
В народе говорят: «Боль может пройти, память никогда». Хотя… и память с годами тоже имеет способность притупиться, особенно если общий враг оскверняет твои родники, раздувает самовар снятым в порыве непосредственности сапогом на могилах твоих предков и строит крепости, что белыми язвами выгнаиваются на яркой зелени родных равнин.
Все это разом, единым скоком вспыхнуло и пронеслось в памяти Занди.
* * *
– Где теперь твои отец и мать? – Мюрид пристально посмотрел на стиснутые в молчании губы юноши, на его высокие, кажущиеся хрупкими скулы, покрытые синим туманцем щетины, а сам подумал: «Кто знает, быть может, из сакли родственников этого зубастого щенка и прилетела пуля, убившая моего брата?..»
– Отец погиб под снежной лавиной… грузинским купцам тропу торил через перевал…
– Мать? – Занди убрал от огня руки, снова мягко, едва касаясь, огладил горячими ладонями свою густую и красную, как лисий хвост, бороду.
– Она умерла от чахотки два года назад… – Дзахо мучительно погасил скорбное пламя в глазах, опустив дрожавшие веки.
– Всё во власти Аллаха, брат… Хвали ближнего, как самого себя, и он отплатит тебе тем же… А боль своего сердца смой кровью нечистых гяуров. Впереди наши племена ждут великие битвы с солдатами Белого царя. Помни до последнего вздоха: здесь, – Занди с чувством топнул ногой о землю, обвел взором расцвеченную бледным жемчугом звезд синюю тьму, в которой таились громадные заставы ичкерийских гор, обросших тенистой чинарой, сосной и кизилом, – здесь – истинный центр Мира. Аллах сотворил Кавказ, как крышу Мира, как единый дом… у очага которого живут праведные народы!
Занди воздел длинные руки к небу и хотел еще что-то сказать, как из-за оранжевой чадры16 костра бесшумно, по-волчьи вынырнула коренастая фигура Салима – старшего из шести сыновей старой вдовы Ведык, что коротала свой век в Шали по соседству с Аджиевыми.
– Уо, брат Занди, беда! – Белки глаз Салима сыристо блеснули в ночи. Застыв в почтении пред вожаком, он сипло, словно колючие слова правды кровянили ему горло, сказал:
– Эслан умер.
– Врешь, шайтан!
– Клянусь Кораном! – Салим отшатнулся, как от огня, от вскочившего на ноги Занди, заросшие скулы того корежила судорога душевной боли.
Глава 2
Горцы, закутанные в бурки, плечом к плечу, в три кольца, стояли вокруг бездыханного тела товарища. Ближе к покойному, в первом кольце, Салим и Хасан Шалинские, Аслан Шамаюртовский, Саид-Хамзат и Бейсултан из Итум-Кале, Хызыр и Абу-Мовсар из Рошничу – те, которые ближе других дружили с Эсланом, те, кто лучше иных знал его семью и многочисленных родственников.
В центре молчаливого круга, на белой бурке лежал умерший: бледный лоб его прикрывала папаха из черной каракульчи, которую опоясывала изумрудного цвета перевязь с арабскими письменами. Носки стертых о камни и стремена кожаных чувяков были раздвинуты врозь, безжизненные руки – заботливо уложены на серебрёную рукоять кинжала.
Мужчины расступились перед Аджиевым, мюрид прошел по живому коридору, остановился в изголовьи скончавшегося. В ладонях Занди не было Корана, на голове отсутствовала белая чалма – уходя в набег, горец берет лишь минимум.
Заслышалась погребальная сура17. Занди тянул заученно наизусть молитву на арабском, неповторимую для большинства горцев, не знающих чужого языка, но понимаемую сердцем и душой, сотни раз слышимую с колыбели.
Дзахо стоял среди других, глядя в последний раз на лицо Эслана, к которому уже прикипела бесстрастная маска смерти. Смотрел и запоминал этот горбатый, по-орлиному выгнутый нос, на котором мерцали алые блики костра, этот выпуклый и затвердевший, словно отлитый из бронзы барельеф скул и надбровных дуг, этот глубокий провал глазниц, из которых миндалевидно выступали сомкнутые навеки глаза.
Гортанный голос Занди продолжал набирать силу, возглашая хвалу Всемилостивому и Милосердному Аллаху, пробуждая зеленые массивы Качкалыкского хребта, увенчанного прогнившими зубьями разрушенных каменных башен и скал, оплакивая и провожая душу храброго сына Ичкерии в последний путь, напоминая всему сущему о бренности жизни, о добре и зле, о вечности, что стоит за порогом последней черты, о людской гордыне и немощи, о земных грехах, о Судном карающем дне, о праведниках, нашедших себе утешение и покой в вечном блаженстве эдемских садов джáнны18, о всемогуществе Создателя, чье знание необъятно, а замыслы мастерства не имеют границ.
Слушая погребальное песнопение, Дзахо Бехоев вспомнил свою мать Нинó – нежную и теплую, как вечерний луч закатного солнца, стройную и гибкую, что горный ручей. Вспомнил и отца Илияса, сильным рукам которого было подвластно все: и воспитание детей, и конь, и оружие, и глина, и женщина… В благородном агате его глаз было что-то от дагестанского булата – сизоватая, тронутая просинью острота, надежность и ясность. Думая об ушедших из жизни родных, Дзахо, будто сквозь черную сетку чачвана,19 сотканного из небесного конского волоса, увидел свой аул. Увидел и едва подавил стон волнения, сердце забилось в тревоге о родной стороне, о родительских стенах сакли… Время между его уходом в тавлинские горы к коинам Шамиля и прежней жизнью было подобно бездонной пропасти. И пропасть эта была для Дзахо сродни границе между любимой Ичкерией и всем остальным миром. «Когда я ушел в Дагестан, мне не было девятнадцати… – прошептал внутренний голос. – Теперь мне двадцать… минул лишь год, а будто канула вечность…»
Занди завершил печальную ноту погребальной суры, точно закрыл священную книгу. Преклонил колено; обнял окаменевшие плечи послушника, прощально прижимаясь щекой к щеке. Поднялся, привычно огладил ладонью медную бороду и, продолжая смотреть на суровый и жесткий профиль умершего, тихо сказал:
– Он уже в раю. Аллах акбар!
– Аллах акбар! – отозвалось глухое, налитое ядом мщения эхо в горах.
– Мужайтесь, правоверные… – Занди, сверкнув фиолетовым отливом глаз, поднял правую руку – голоса горцев стихли, воздух набух тишиной, в которой слышалось напряженное дыхание людей и треск прогораемого валежника. – Помните, братья, рок ненастья не может вечно преследовать тропы, проложенные еще нашими прадедами. Горы отдают себя газавату ради победы. И пусть это будет нам стоить любой жертвы! Подумаем лучше и попросим Всевышнего принять наших воинов в раю. Знайте, кто отдал жизнь за Аллаха – получил победу от Него. Каждого из нас рожала в муках мать, но ни одна мать не посмела поставить свои чувства выше священного газавата! Потому что они дочери Кавказа и жаждут своим сыновьям самого лучшего! Аллах с нами – это мое последнее слово.
Как только смолкла речь наставника, несколько мюридов во главе с Салимом принялись было кинжалами рыть могилу, но, наполняя старую папаху землей, увидев едва заметный кивок Занди, опустили мерцающие клинки и поднялись с колен.
– Салим, возьмешь Аюба и Лече… отвезите тело родственникам. Пусть его похоронят достойно, как воина Аллаха.
Занди осыпал ноги покойника горстью серебряных монет царского чекана и, распахнув висевший на плече хурджин20, вытащил из него за слипшиеся от крови волосы голову казака. Та закачалась маятником в державшей ее руке – жуткая на черно-красном пне шеи, с померкшим взором, в котором застыл неизлетевший крик боли. Скривив в презрении узкие губы, чеченец усмехнулся разрубленному рту казака, в бордовых деснах которого лепились, как зерна в гранате, раскрошенные сталью зубы.
– То, что сделано хорошо, не бывает плохо. Пусть голова этой русопятой собаки уменьшит скорбь в сердце матери. Так будет с каждым гяуром, посмевшим вступить на священную землю.
Земляки одобрительно зацокали языками и принялись стягивать ремнями завернутое в бурку тело.
* * *
Сочные звезды стали бледнеть в ожидании близкого рассвета. Минует еще час, и небосклон вспыхнет пламенем восхода, подожжет студеные от хрустальной росы горы и леса, лощины и склоны, аулы и дороги, на которых загрохочут копыта волов, заскрипят растрескавшиеся колеса арб, наполняя немые хребты монотонным голосом жизни.
Давно уже во тьме истаяли силуэты верховых: Салима, Аюба и Лече, увозивших в далекий родной аул тело Эслана. Давно перестала шипеть вода в прокопченных котлах и улетучился запах замечательной «веты»21. Отряд Занди, сбившись теснее у алых углей костров, дремал в ожидании зари, не расседлывая скакунов, не снимая оружия. Дзахо, оставшийся стеречь угнанный табун, посмотрел на своих товарищей – укрытые лохматыми бурками, недвижимые, они напоминали стаю спящих волков, устроившихся на ночлег.
Все вокруг дышало предрассветным покоем, который волей-неволей передался и лошадям, но только не Дзахо. Ночь кутала землю призрачными крыльями, сотканными из лучей игольчатых звезд, и в аспидный саван ее бился зоркий взгляд юноши. Мало-помалу мирная тишина наполнила созерцательным покоем и его душу. На каждом клочке земли, вырванном у тьмы зеленым светом звезд, были разбросаны для Дзахо листы истории его родного народа, его личных впечатлений своей короткой, но яркой жизни. Сидя на замшелом стволе ясеня, некогда поваленного ураганом, он вспомнил, как наставник Занди швырнул к ногам Эслана голову казака, как та покатилась чумазым кочаном вдоль ноговицы и уткнулась кровавыми ноздрями в локоть покойного. Вспомнил это Дзахо и жарко блеснул глазами: в его седельной сумке тоже лежало отрезанное ухо гребенца… Лишь крики и выстрелы спешивших на выручку русских не дали кинжалу отсечь голову убитому им казаку. «Сколько было ему? – задал себе вопрос Дзахо. – Лет двадцать… не больше, как мне. Слава Аллаху, что Он дозволил моей пуле первой сразить врага… Воллай лазун, биллай лазун… Аллах милостив. Да будет прямым и верным мое дело». Дзахо поправил свесившийся с плеча длинный рукав башлыка, огладил холодный ствол своей хищной узкой кремневки, которая прежде украшала в кунацкой ковер отца. Память, как горный поток, врывалась в ущелье недавних событий. Она свергалась в бездну времени и вырывала из него картины прошедших дней.
Однако в картинах этих отсутствовали сюжеты их крадливого похода в стан русских, где джигиты двое суток, не смыкая век, высматривали секреты и разъезды казаков. Не вспоминал гололобый Дзахо и своей переправы через Терек с Занди, когда, отчаявшись ждать счастливого часа, они – группой из пяти человек, во главе с наставником решили свершить дерзкую вылазку, вгрызться в спину неверным. Ночь на рассвете, меж тем, была дождливой и ветреной, низкие звезды, луна затянута дымною мглою – лучшая ночь для абрека, о такой он только просит Аллаха в молитве – дуа, в молитве – вирд или мунаджат.22
Салим и Абу-Мовсар из Рошничу заблаговременно искали, где на реке нет сильного течения; нужно было засветло раздеться и, уложив одежду, чувяки, пистолет, кинжал и патроны в бурдюки23, а также приладив к ним шашку и ружье, дожидаться в чем мать родила под пронзительным ветром и дождем наступления мрака. Любой подозрительный плеск воды, треск валежины под ногой – и начинается пальба. Казаки, как водится, подожгут заросли камыша, и тогда «неминучая» смерть. Спасение дóлжно искать лишь в обратном плаванье под вражеским свинцом. Счастье, если ни одна не заденет, иначе прощай мир, как камень, пойдешь ко дну.
Судьба была милостива к смельчакам. Джигитов Занди не учуяли сторожевые псы, не открыл их и бдительный глаз казака. Атака была внезапной, схватка – короткой, но яростной. Часовые дали послабку себе, увлекшись беседой за душистой ухой, за что и поплатились собственной кровью.
– Жаль, не сможем трупы этих шакалов забрать… – сокрушался Занди. – Родственники из станицы выкупать бы стали, в Грозной на своих могли обменять.
Но заслышался свист, кто-то дважды крикнул с дороги: «Максюта! Максю-ута-а!» А спустя миг пуля чокнулась в сухую ветку повыше папахи Дзахо и посекла лицо брызгами трухи. Они сбежали к воде. Бурливый, холодный Терек облизывал лица и шеи, руки отчаянно кромсали воду.
…Они были уже у прибрежных камней, когда противный берег вспыхнул огнями факелов, над водой полетела ругань, лошадиное ржание, а пули тягуче и часто захлюпали по воде.
…Ночь они отсидели в дремучей чаще Качкалыкского распадка, соединившись со своими, к обеду вновь поднялись по Тереку к Амир-Арджиюрту и бросились в шашки на ездовых, что охраняли табун тягловых лошадей русской артиллерии.
Смертельно раненный в грудь Эслан хриплой кровью легких выхаркал свою жизнь, когда они добрались до безопасного ночлега. Но это было лучше, чем сгнить в тюрьмах Тифлиса, Кизляра или на рудниках «синей» Сибири, где плясала неуемная царская плеть на омертвелых от стужи пространствах Империи.
– Бисмилла, аррахман, аррахим24. Так все и было… – Дзахо нагнулся и поцеловал пунцовыми губами выложенный серебром и костью кинжал, затем туже заткнул за пояс с чернью и золотой насечкой турецкий пистолет, встал, разминая затекшие ноги. В зеленой черкеске при газырях, в башлыке и бурке, обвешанный оружием, в надвинутой на черные брови белой папахе, он не спеша обошел дремавший табун. «Так все и было…» – отстраненно повторил он, но мысли юноши были далеко от сабельных схваток, а слух ловил не грохот подков по гранитной шашке… Там, куда был устремлен его взгляд, где-то за серпантином козьих троп и ущелий, лежал незабвенный край его детства, его аул, его Родина. Утопающий в зелени, в величавом ожерельи белогривых гор, он прижался у их скалистых подножий, с почтением припав к пенному потоку Аргуни. Каждому на земле кажется, что его Родина самая лучшая… Так казалось и Дзахо Бехоеву: там он родился, увидел белый свет, там остались могилы его предков, родителей, там он впервые услышал вольный клекот орла, увидел его величавое парение над снежными пиками гор, которое горцы повторяют из века в век в своих танцах. И правда, их крылатые руки, увенчанные, точно когтями, кинжалами, то широко распластываются над Землей, то складываются к плечам… А ноги, стройные, крепкие ноги горца носками отчеркивают в траве прямые, дуги, косые и молниевидные линии. Звучат старинные пандуры с длинными струнами из конских волос, отбивается в стуке бубнов воинственная лезгинка, перед танцорами мелькают леса, каменные хребты гор, снежные вершины, и кажется, вот-вот они, один за другим, как орлы, поднимутся и взовьются в небо, разгоняя своим полетом лохматые стада облаков, пытаясь обнять крыльями сияющий золотом диск солнца. «Отец у Кавказа – огонь. Мать – вода, – говорили родители Дзахо. – Огонь этот разлит повсюду: и в словах горской пословицы, и в слезе горянки, и на обрезе ружейного ствола, и на лезвии клинка, выхватываемого из ножен. И даже наши горы, и те похожи на окаменевший огонь. Но самый добрый и самый теплый огонь разлит в сердце матери и в очаге родной сакли».
Вспоминая родной аул, то застывшее в памяти прозрачное утро, когда мать возвращалась с полным кувшином воды с родника, он вспоминал и другое: то, что на Кавказе называется – горская любовь.
«Измеряй свою удачу мерой своих возможностей и талантов», – эту истину уважаемые старики говорят и воину, садящемуся в седло боевого коня, и юноше, сердце которого волнует любовь, а разум и взор туманит образ возлюбленной.
Дзахо был влюблен в свою ненаглядную Бици, влюблен без памяти, всем существом, как может быть влюблен только горец. Любовь на Кавказе – это не звонкие звенья цепи, состоящие из пропахших духами записок, бесчисленных встреч, обыденных поцелуев и громких клятв, которые в общем букете и составляют у европейцев «узы Гименея» двух сердец «отныне и присно и во веки веков». Любовь на Кавказе сурова и молчалива, как суровы и молчаливые горы. Она рождается на робкой заре, когда фруктовые сады пробуждают от сна чистые голоса птиц, либо в летние сумерки у розового родника, к которому из века в век вереницами тянутся за водой аульные девушки. Там, на почтительном расстоянии, где мужская рука не смеет коснуться женской, в сакраментальной тишине, под стук переполненных чувствами сердец и родится горская любовь. Бессловесно, скупо, но неистово, беспредельно. Издревле, уж не помнит никто на земле живущий, так повелось у горцев: там, где журчит фонтан иль родник, где щедрые струи наполняют живительной влагой медные кувшины горянок-красавиц, роятся кинжалы мужчин.
Все как будто идет своим чередом: девушки смиренно подходят к воде с тяжелыми кувшинами на плечах… Поодаль, в тени чинары сидят молодые парни… Кто-то вертит в руках кеманчу, кто-то держит у губ свирель… Длиннокосые гурии ставят на камни звонкую ношу… Юноши продолжают болтать меж собою, словно не видят ясноокой красоты, точно устали от знакомых картин… Но все это только мнимая видимость. Давно натянуты луки внимания, дрожат в нетерпении стрелы желания, и вот… срывается тетива ожидания… Юноша бросает беглый взгляд на желанную, но брошенный мужчиной-горцем взгляд выразительнее тысячи слов и клятв… И если он подхватывается ответным взглядом девушки, то значит, пущенная стрела страсти – попала в цель, значит, есть надежда… и первая тайная тяга друг к другу – дала всходы…
Две зимы назад люди из аула Дзахо Бехоева праздновали ежегодный священный праздник, данный Аллахом всем правоверным – Курбан-байрам25, в соседнем селении за перевалом. Много собралось людей: радость, как и горе, заставляют человека проделать далекий путь. В такие дни в аулах говорят и поют даже камни.
Веки Дзахо вздрогнули от воспоминаний о своей любимой, бурно клокочущая кровь ударила в голову, заиграла сердцем, но он не шелохнулся, продолжая пронзать светлеющую тьму своим соколиным взором, слушая голоса тишины, потягивая горьковатый дымок из отцовской трубки с длинным костяным чубуком на тонкой медной цепочке, неспешно, шаг за шагом, вспоминая их первую встречу.
Глава 3
Был канун праздника – все вокруг пело, плясало, смеялось, уважаемые люди аула Дзахо убеждены: «Песни – это потоки с гор. Песни – стремительные гонцы, вестники с поля битвы. Песни – кунаки, друзья, нежданно прибывшие в гости. Берите пандур, чонгур, чаган, зурну, бубен, барабан, берите просто таз или медную тарелку. Бейте ладонью о ладонь! Бейте каблуками о землю. Слушайте, как сабли ударяются о сабли! Слушайте, как звенит камушек, брошенный в окно любимой. Пойте и слушайте наши песни. Они послы печали и радости. Они грамоты чести и храбрости, свидетельства мысли и дел… Всадника они заставляют сойти с коня и заслушаться. Пешего они заставляют вскочить в седло и лететь, как птица!»26
На плоских крышах саклей вершился ритуал: резали баранов. Они не блеяли, сбившись в гурт, затравленно глядя на своих уже приконченных собратьев. Их скрытую черно-белыми рунами плоть корежила предсмертная судорога. Но беспощадны и быстры крепкие руки резника, еще недавно простиравшиеся к Аллаху. Из вспоротого бараньего горла ручьем хлещет кровь, а над саклями, что густо облепили склоны ущелья, уже ползет и клубится сизоватый дым, начиненный дразнящими запахами парного мяса, лепешек и паленой шерсти…
На утоптанной площади возле скромного медресе27, мало чем отличавшегося от обычной постройки, три свежепросмоленных дымом гнезда для пивных котлов. В каждом котле варилось праздничное ячменное пиво. И в каждом можно бы без стесненья танцевать лезгинку… Тут и там утопающие в чаду, усталые, но радостные хозяйки готовили яства. Мужчины, как и надлежит мужчинам, степенно и чинно сидели в кунацких, делясь новостями: гости – своими, хозяева – своими, такими же горскими; молодежь балагурила, смеялась, аксакалы и семейные мужи рассуждали о русских солдатах и казаках, о воинстве Шамиля, о грядущих судьбах родной Ичкерии.
Дзахо со своими друзьями протиснулся в тесный круг, где звучали старинные песни и новые… Песни праздничные и боевые. Длинные и короткие. Печальные, но больше веселые, потому что радость сошла на горы – светлое торжество Курбан-байрам! «Меж двух морей, Черного и Каспия, и много далее воспевают тебя правоверные!» Слова молитв и песен называют они, словно бусины, на серебряную струну. Слова возникают в устах певцов и дервишей28 и летят, попадают в цель, точно стрелы, выпущенные опытной рукой воина. Песни вьются и уводят вдаль, подобно горным тропам, по которым можно уйти и на край света, где место лишь ангелам-забанийа да сотканным из бездымного огня джиннам.
…Ай, дай, далла-лай. Далла-далла-дулла-лай!..
– «Аулы приближаются, когда звенят сабли», – говорят наши смельчаки. Но ничто не сокращает дороги до родных стен так, как звон кумýза или пандýра29. Зачем стоите в стороне, родные? Аргунские папахи нам не чужие, проходи веселись, брат!
…Ай, дай, далла-лай!!
Юноши с благодарностью склонили головы на приглашение белобородого статного старца. Ханпаша Ахильчиев был старший член рода. Морщины полегли на его лице, подобно тропам и ущельям в горах. Ханпаша вместе с другими старейшинами по праву являлся хозяином торжества и эту обязанность исполнял мастерски. Царственно брал он в левую руку обгорелое древко с румяным, сочащимся жиром шашлыком, в правую – закованный в черненое серебро рог, и обращался с молитвой к Творцу.
Ахильчиев вещал столь величаво, столь торжественно и так древне, что притихшую молодежь, супротив воли, пробрала знобливая дрожь почтения. «Ведь и двести, и триста, и четыреста лет назад на сем месте, на котором стоял сегодня старец, стоял его такой же седой, такой же верующий прадед, и так же, как нынче, неспешно и с чувством текла речь».30 После сказанного Небесам старец обратился к собравшимся:
– Семерых детей вынянчила люлька в моем доме, четырех сыновей и трех дочерей. Другому Аллах дал пятерых наследников, а другим – десять, а то и пятнадцать. Сто люлек качаются в нашем ауле… Сто тысяч люлек качаются в Большой и Малой Чечне, столько же в Дагестане у наших братьев, а то и более. А чем гуще народу, тем чаще свадьбы, а чем чаще свадьбы, тем больше защитников будет в наших горах. Помните, дети, в трех случаях нельзя медлить: когда следует похоронить умершего, накормить гостя и выдать взрослую дочь замуж… И еще есть три вещи, которые горец обязан неукоснительно выполнять: выпивать рог до конца, беречь имя и не терять мужества в час испытаний. Раньше, когда я был молод, как вы, наши отцы, уходя в набег, не брали с собой слишком уж молодых джигитов… Но теперь другие времена… – Старик скорбно пожевал губами, крепче сжал жилистые пальцы на кубке, румянец чахло зацвел на его обтянутых кожей скулах. – Русские, как черви в трупе быка, повсюду объявились на наших тропах, повсюду ныне ручьится горская кровь… со времен Гази-Мухаммеда и его наследника Гамзат-бека, которые были первыми имамами31 и проповедниками священного Газавата. А потому великий Шамиль сказал – надо брать на войну и безусых. «Невелик мизинец, но без него не сожмешь крепко рукоять сабли. И пусть Ичкерия будет мизинцем в большом и тяжелом кулаке всего Кавказа, но тогда враги при всем их старании вовеки не разожмут этой силы. Кулак наш лишь для врагов, на плече друга лежит просто открытая ладонь. Но и у ладони все равно есть мизинец!»
И снова музыканты ударили по струнам пандуров, вновь сухо и жгуче зарокотали барабаны, которым вторили неутомимые бубны и «скорострельная» свирель.
Сердца юношей вспыхнули жаром, когда в круг веселья, как прекрасные видения, бесшумно и легко вплыли стройные красавицы, сверкнув ночными очами. Поднесенные кубки были осушены до последней капли, и ретивые молодые ноги сами понесли аргунцев в танец, что бешеный горный поток. Танцевали лекури – древний грузинский танец. Вот где было веселье! Девушки, дразнясь и звеня монистами, ускользали от юношей.
Вот одна, задорно глянув на смуглого Дзахо, сменила товарку, затем мелькнула лоснящаяся вороным волосом коса другой, и вдруг… Словно пуля пробила сердце юноши, счастливая улыбка замерла на устах: он увидел ее – свою Бици – вздрогнул и оступился, будто хлебнул не в меру вина, но тут же продолжил танец, уже не видя вокруг никого, кроме Бици. Снова мелькнуло ее нежное лицо с алыми лепестками румянца на щеках; вот вспыхнул тугим серебром девичий пояс; нагрудные украшения, на сияющих чашках которых вычеканены символы тейпа, и вновь золотисто-кофейные глаза, окруженные надежной охраной длинных ресниц…
Девушка, раззадорив партнера, лукаво бросила на него взгляд: гляди, проспишь свое счастье, джигит! – но следом отшатнулась, как вспугнутая серна, на лице тень тревоги. Дзахо, раскинув руки, что орлиные крылья, устремился за ней: вправо, влево, по кругу… Гремят барабаны, слышится громкий ритмичный плеск ладоней толпы. Охотник все ближе, ближе, вот уж он распахнул объятья – нет спасенья трепещущей нежной горлинке!
Пустые сети! Гибкая Бици, увернувшись, уходит в последний момент из-под его распростертых рук. В глазах Дзахо огонь огорченья, но ликуют вокруг друзья, звенят струны веселья, и – о, Небо! – она вновь дарит ему улыбку, плавно скользя уже по другой стороне круга, среди своих чернооких стройных сестер. Ее губы – точно нежный бутон, готовый раскрыться для поцелуя, – едва заметно дрожат, а ласковый блеск глаз, которые вновь озорны и манят к себе, тайком говорят: «Поймай-догони, я буду рада тебе!»
А потом, когда во всех саклях ели баранину, пили бузу, закусывая сыром, и пели песни, парни и девушки двух аулов, по обыкновению, встретились на вечеринках. В тесных кунацких набилось изрядно и тех и других. Комнаты были строго разделены на две части: праздничную, пеструю – женскую, и аскетичную, без изысков – мужскую.
Снова звучали зурна, пандур – тянулась поджарая лезгинка. Печально пелась старинная горская песня:
Гнездится в дымной вышине
Аул, прижавшись к скалам,
Где предо мною на стене
Висит кумуз с кинжалом.
«Кумуз и кинжал. Битва и песня. Любовь и подвиг. История горских племен. Этим двум вещам отводят они самое почетное место.
В саклях, на настенных коврах, перекрещиваясь, как на гербе, висят эти два сокровища. В руки их берут осторожно, с уважением, с любовью. Без дела и вовсе не берут. Когда будешь снимать кинжал, кто-то старший за спиной скажет: “Осторожно, не оборви струну на кумузе”. Когда будешь снимать кумуз, кто-нибудь старший скажет: “Осторожней, обрежешь пальцы”. На кинжале чеканят рисунок кумуза или пандура, на пандуре рисуют кинжал. Когда горцы идут на войну, они берут с собой и то, и другое. Пустынной, голой становится почетная стена в сакле.
– Но зачем же в бою пандур?
– А-а! Лишь ударишь по струнам, лишь только заденешь струну, сразу приходят к тебе отцовский край, родной аул, материнская сакля. А ведь именно за все это и надо драться, только за это и стоит умереть»32.
Ай, дай, далла-лай. Далла-дулла-лай!
Смолкли голоса певцов, и в душном молчании только взгляды молодых… Но эти взгляды могут пронзить не хуже стрел смельчака, случайно оказавшегося в их скрещении.
Дзахо сидел плечом к плечу с кунаками, томясь желанием хоть еще раз поймать взгляд своей милой Бици, лишь бы улыбнулись ему уста, розовели юные щеки и воспламененное сердце бурно гнало по жилам горячую кровь. Тускло светили жирники, скакали по стенам дроглые тени, но он разглядел настороженный блеск ее глаз из-под тонко натянутых над ними бархатных бровей… и она – о, чудо! – подхватила его накаленный взор, ответила своим – полным радости, страха и благодарности.
Дзахо, откинув душивший башлык, вскочил на ноги, выбежал вон из сакли, сбил на затылок папаху и подставил вечернему ветру пылающее лицо. Барабаны счастья гремели в его сердце, хотелось танцевать, петь, кричать всему миру о своей красавице Бици: «Да снизойдет благодать на тех, кто породил тебя!» А уж после того, как горянка одарила его по доброй воле ответным взглядом надежды, а он назвал ее своей, никто по законам гор – адату33 не смел подступиться к ней: с Дзахо Бехоевым было опасно шутить, и солнце померкло бы для того, кто дерзнул бы теперь стать ему поперек дороги.
– Отныне мы будем вместе – кинжал и ножны, клянусь Аллахом! Воллай лазун! – Руки юноши сжали висевший на поясе отцовский клинок.
Миновали первые мгновения горячечной радости и растерянности – воздух освежил мысли. Только теперь он до дна осознал и почувствовал сладость первой любви и соль предстоящих забот, которые испытывает каждый влюбленный.
С этой минуты перед Дзахо, как перед настоящим мужчиной, открывались три пути: собрать деньги, чтобы уплатить родным невесты калым,34 украсть возлюбленную, будто бы против ее воли… или умыкнуть девушку против ее воли, с целью заставить полюбить.
Третий путь он отбросил сразу – взгляд Бици сам сказал за себя. Оставался первый и второй путь. Но где сироте взять столько добра, денег и лошадей? Все богатство Дзахо при нем – верный скакун, кремневка, сабля-гурда, что упруго сгибается в полукольцо вокруг пояса, аварской ковки кинжал да два пистолета. Есть еще бурка, папаха и материнская сакля, есть еще виноградник и отцовский фруктовый сад… Но что это все для богатых и уважаемых родственников Бици? Ее дядя Тахир – родственник Ханапаши Ахильчиева, а их род самый древний и знатный в этих горах. Для Ахильчиевых его одежда – лохмотья, утварь – хлам… прямо как песне про «Кинжал и Кумуз», которую только что пели в кунацкой. Сжав зубы, Дзахо удрученно, медленно, словно за гробом идя, шагал и шагал туда и обратно вдоль деревянного водоема мечети, к которому в часы намаза сходились правоверные, чтобы перед молитвой омыть руки и ноги. И с каждым шагом все громче и отчетливее в его голове звучали слова древней песни, истинный горький смысл которых лишь теперь познавало его влюбленное сердце.
Аульский парень в старину,
Что жил за перевалом,
Имел смоковницу одну,
Владел одним кинжалом.
Козла единственного пас,
Где зелена поляна…
И вот влюбился как-то раз
В одну из дочек хана.
Был парень смел и не дурак,
Но хан расхохотался,
Когда посвататься бедняк
Однажды попытался.
И отдал дочку он тому,
Кто золотых туманов
Имел до дьявола и тьму
Имел в горах баранов.
И парня бедного тоска
Под стать огню сжигала.
И оттого легла рука
На рукоять кинжала…35
– Уо! Что случилось, брат? Почему руки твои оружие ищут? Почему в глазах молнии злобы? – Выбежавшие из кунацкой друзья нашли, обступили Дзахо. – Кто? Кто обидел тебя, дорогой?! Накажем всякого, кто посмел тронуть тебя!
– Аллахом клянусь, Дзахо, жизни своей не пощажу! – выступил вперед Ахмат. – Одну фамилию мы с тобой с рождения носим, одна и честь у нас на двоих. Отцы наши кровными братьями были.
– Обидчик твой будет иметь дело со мной, – глухо сказал широкоплечий и молчаливый, как камень, Омар-Али – сын кузнеца Буцуса, и сурово добавил: – А со мною шутить никому не советую
– Эй, что я вам – баба? – В глазах Дзахо вспыхнул черный огонь. – Отец с матерью родили меня в папахе, а не в платке. Сам постою за себя, пошли прочь! Волла-ги!
– Ай, зачем обидные слова говоришь, брат! Дурной кровью налиты твои глаза. – Кунаки теснее сдвинули плечи, взяв Бехоева в плотный оцеп. – Друзья берегут тебя, как зеницу ока, встанут за тебя все, как один, потому что знают – и ты сам… не пощадишь себя ради нас. Ты отважный человек, Дзахо, знаем, но помни, чему учили нас отцы: «Надо всегда вместе стоять людям аула, чтоб не висеть поодиночке».
– Истину говоришь, Ахмат, – пристыженно опуская глаза к земле, ответил влюбленный и, потушив огонь гордыни в груди, тепло обнял своих товарищей. А когда поднял глаза, на бледных щеках его расползлась кинжальным порезом улыбка. – Деньги, богатство решают многое… – Бехоев свел в иронии жесткие брови и, цокнув языком, подмигнул кунакам, – а их отсутствие – еще больше.
Глава 4
Дзахо как решил, так и сделал – вместе с друзьями он похитил Бици и умчался в родной аул, не дожидаясь конца торжества. Но перед тем, как выкрасть девушку, он подстерег ее в пестрой тени листвы и родника.
…Сердце ее замерло, когда Бици остановилась у родника, опустила с плеча кувшин и подставила его под щедрую струю. Та загудела по журавлиному медному горлу, осыпая ближние камни бриллиантами брызг.
И вновь Дзахо ощутил, как волнуется кровь в его жилах, как сводит его с ума красота возлюбленной. Жадный взгляд юноши угадывал упругие, гибкие формы и линии горянки, одетой в праздничные одежды. Долгополая, по щиколотку, женская рубаха струилась легкими складками с ее плеч, подоткнутая за расцвеченный бирюзой и серебрёной чеканкой пояс, которым были закреплены широкие невесомые «хечи» – женские шальвары, схваченные бисерным шнурком у маленьких, изящных стоп.
Бици набрала воды, распрямила спину, поднимая отяжелевший кувшин; мелькнула нежная щечка, шея, вокруг которой лоснящимися змеями обвивались заплетенные в косы густые волосы.
Скулы Дзахо вспыхнули жаром – ему показалось, что Бици медленно повела в его сторону своими фиолетово-черными, отененными глазами. В тот миг он проклинал себя, что не умеет совладать с неудержимо нахлынувшим чувством… Время истекало: внизу, под крутым обрывом поджидали его с «товаром» верхами Омар-Али и Ахмат, а он терял драгоценное время, не в силах справиться с пересохшим ртом.
И все же бехоевская кровь взяла свое… Их разговор был краток, как выстрел. Пальцы Бици затрепетали в сильной руке Дзахо, обжигая надеждой его сердце. Как видно, она ждала этого поступка от аргунского юноши. Бици уронила кувшин, вспыхнула, что свеча, глаза засверкали от прихлынувших слез, но по губам пробежала улыбка с трудом сдерживаемого счастья. В смущении и покорности она низко склонила голову.
Их влюбленные сердца рвались вон из груди, за спиной расправлялись крылья, когда они спешно спускались на дно ущелья… Впереди уже показались закутанные башлыками лица друзей, державших под уздцы оседланных лошадей, когда сверху, над ними, раздался истошный крик Аминат – старшей сестры Бици, бывшей замужем за прославленным воином Джемалдином из Ахильчиевского тейпа.
Ахмат от неожиданности вскинул свое ружье к плечу: «Билла-ги!», – но Дзахо вырвал его за ствол из рук двоюродного брата и, перекрикивая грохот копыт, отрезал:
– Не смей! Кровь ляжет на наш род!
Черные бурки мелькнули за каменистой осыпью и исчезли в наступающей ночи, оставив напуганную Аминат наедине с первыми заездами.
Всю дорогу до Аргуни девушка пела ясын36, не скрывая слез.
– Ясын вель кран иль хаким ин нага ля минал мирсарим… Аля сир' а'ати мыштаким. Танзи ляль эзи зир рахим.
Напрасно ее пытался успокоить Дзахо. Крик проклятья сестры застыл в памяти беглянки. И точно уколом в сердце пронзило Бици какое-то неприязненное, черное чувство. «Разве ты не по доброй воле пошла за ним? Разве Дзахо не нравится тебе? Разве не в него ты влюбилась с первого взгляда? И разве не его мужественный образ не раз вставал за эти ночи перед тобой?! Кому ты лжешь – себе либо Небесам? Кого жалеешь – родственников или себя?»
Думала обо всем этом несчастная Бици… думала, соглашаясь и не соглашаясь сама с собой… И все же, когда нынче внезапно пробил час проститься с родным домом, с товарками, с невинным девичеством и стать женщиной, – трепетную грудь ее сдавили ледяные обручи жалости к себе, к своим домашним, что вырастили ее – сироту, как родную дочь. «О Всемогущий и Всемилостивый… Ли кад хаккал кау ле. А ла ек сер игим фегим. Ла е минуи…» – трудно беглянке было навеки расстаться со своим прошлым, которое помнилось светлым и добрым, как солнечный день. «Что ждет отныне меня? Кнут или теплая рука любви?..»
Так страдала и мучилась Бици. Скакала позади любимого и плакала.
Уж розовели смуглые хмурые гребни гор. Косынки дождя перестали затягивать небо. И только свинцовая листва деревьев содрогалась последними каплями слез.
С первыми лучами солнца они остановили загнанных лошадей у сакли Бехоевых. В бледном рассвете зари всадники смотрелись высеченными из камня, подобро черным ифритам.
На Кавказе гостей и вновь прибывших принято приветствовать ружейной пальбой в воздух, криками радости и прочими знаками внимания, но не было слышно ни первого, ни второго, ни третьего.
На лай собак выбежал лишь горох ребятни – мал мала меньше, те, кто остался заботиться о больных и стариках, те, кто не был взят на праздник, и те, кто был оставлен присматривать за полупустым аулом.
– Доброй дороги вам!
Беглецов мало-помалу окружили односельчане.
– Почему одни?
– Где остальные? Мы ждали вас завтра…
– Баркалла.37 Доброй дороги и вам. – Дзахо лишь зубы показал, засмеялся, легко спрыгнул с коня и, не отвечая на другие вопросы, бережно, как святыню, принял любимую на руки. Всадники спешились, бросили поводья разгоряченных коней ребятне, которая с радостной готовностью принялась вываживать их по двору, чтоб скакуны не сразу остыли.
– Милая, ты дрожишь?! – Дзахо стремительно откинул широкую полу бурки, укутал хрупкие плечи, обнял и силой притянул к себе тонкий девичий стан. – Идем скорее в мой дом! В наш дом… – поправился он и крепче прижал ее к своей широкой груди, на которой грозно топорщились многорожковые газыри. Утро было холодное, но только сейчас юноша заметил, сколь легко одета его Бици.
Старики-чабаны, опиравшиеся на посохи, недобрым взглядом проводили молодежь, поспешно скрывшуюся за дверями сакли. Острые, беспокойно-жгучие огоньки радости и тревоги в глазах юношей насторожили их. Уж они-то знали цену сему суетливо-дерзкому взгляду из-под бровей…
– О-хо-хо… Что будет теперь?
– Чего ожидать в Аргуни?..
Люди аула без объяснений поняли все. Кое-кто даже признал в беглянке племянницу уважаемого в горах Тахира, ближайшего родственника Ханапаши Ахильчиева – с этой фамилией шутки плохи… Мужчины их рода едва ли не все воевали с русскими под зелеными знаменами Шамиля. Вдвойне было плохо, что девушку похитили в святой праздник Хейт-байрам. Стоило ли так торопиться? В эти дни каждому правоверному хочется покоя, быть ближе к Аллаху и радоваться жизни… Что же до самой Бици – старики грустно усмехнулись в усы: «Сердцу не прикажешь… Ну так ведь и сердце должно дружить с головой… Все можно было устроить иначе, была бы Бици помудрее… Впрочем, у женщины ума в голове – сколько на яйце волос, – говорит горская пословица».
* * *
Когда ничего не остается делать, многие так и поступают. Снятая с плеч голова по волосам не плачет… Не думал о содеянном и Дзахо, как не думает, не сокрушается о крутом, опрометчивом шаге ретивая, полная жизненных соков молодость. Да и стоило ли ему, джигиту, сыну бесстрашного Бехоева, прислушиваться к внутренним голосам? Велика ли беда – «похищение невесты»? Так издревле повелось на Кавказе, так поступали его деды и прадеды, так поступил и он. Таких историй можно наслушаться в каждом ауле – на то она и горская любовь, о которой люди складывают легенды, – горячая, как раскаленная на костре кружка, которую в руках не удержишь. В конце концов «похищение» – обычное событие, не выходящие из ряда вон в горском быту, не запрещенное адатом. Так думал Дзахо, на том стоял, обнимая в спальне свою несравненную Бици, вкушая дикий мед ее губ, приникая к густой ночи ее волос и шепча те странные речи, которые может шептать только искренне любящий. Что ему за дело было до мнения людей, до всего мира?! Рядом с ним была его суженая, в кунацкой – преданные друзья-братья. «Нет, что ни говори… а каких чудес не случается под солнцем!»
Бици не закрывала глаз, не отворачивала лица, не чуралась ищущих рук – оттого ли, что пыл Дзахо окольцевал ее страхом, подчинил всецело себе, а быть может, потому что она поняла и разделяла его муки и страсть… Природное женское чутье подсказывало трепещущей, как бабочка в сачке, Бици: в эти мгновенья ее возлюбленный наполнен единственным, как и она, чувством безграничного счастья, сравнимого разве с блаженством джаннá, в саду вечности и благодати которого текут реки из молока, «вкус которого не меняется», реки из вина и меду – очищенного, «приятного для пьющих».
– Ты согрелась, жизнь моя? Прости, прости, кровью своей клянусь, я не хотел обидеть тебя!.. Все позабыл… когда скакали сюда… Забыл укрыть, забыл согреть… Нет мне прощенья! – целуя хрупкие ключицы невесты, горячо каялся Дзахо, содрогаясь плечами, теряя всякую власть над собой.
Она молчала, опустив длинные стрелы ресниц; притихла, точно притаилась в объятьях своего защитника и господина, а юная грудь ее вновь трепетала от страха и радости, как и тогда, в родной сакле, когда звучали чарующие струны пандура, а влюбленные глаза искали средь прочих его глаза… Как и тогда у ручья, когда при тихом шепоте его губ из рук ее выпал материнский кувшин…
Дзахо крепче прижал к себе Бици, горячее дыхание обожгло ее шею. Сердце казалось оборвалось… Она пыталась еще как-то скрывать свои чувства – тщетно, – все накипевшее, затаенное, сокровенное вырвалось на волю, и они, глядя друг другу в искрящиеся от счастья глаза, в одном порыве слились в сладостном поцелуе…
* * *
В кунацкой, отделенной от спальни переборкой с ковром, стоял особенный кислый, кожаный запах, какой живет в каждом доме горца. Запах этот перебивал душистый аромат турецкого табака, который с наслаждением истреблял сын кузнеца Буцуса Омар-Али, сидевший на полу на бурке и глядевший в окно.
– Э-э, зачем куришь? Плохое занятие. Законов наших не знаешь? В горах не пьют и не курят… паршивым гяуром решил стать? – Ахмат, сидя напротив, в другом углу комнаты, хмуро воззрился на гололобого приятеля.
– Брат Дзахо тоже курит… когда переживает… – скаля белые, как снег, зубы и блестя глазами, указал чубуком на спальню чернобородый Омар-Али. – Этой ночью мы из похода… – Он подмигнул чистившему свое ружье Ахмату и, выпуская кудрявую струйку дыма, весело хохотнул: – Даже в рамадан, во время уразы.38 Аллах закрывает глаза на тех правоверных, кто в пути или идет по тропе воина.
– Скажи еще, что ты брюхатая баба или кормящая мать. – Ахмат отложил зеркально сверкавшую чистотой «крымчанку» справа от себя и принялся за пистолет.
– Айя, джигит Ахмат! Сказал, как отрезал. – Чернобородый без обиды вытянул губы, затягиваясь трубкой. – Женим нашего брата Дзахо, отыграем свадьбу, уйду к Шамилю, стану мюридом. Что здесь без дела сидеть. Все, кто мог держать оружие, уже ушли в горы. Вот справит мать новую черкеску, чевяки, и уйду.
Ахмат, тихо напевавший унылую песню, мельком глянул в окно, посмотрел на плечистого Омара-Али, вспомнил его мать Фанузу – старуху с красными в трахоме глазами, его отца Буцуса – хромого кузнеца со шрамом на брови и щеке, младшую сестру Дзеди – девушку-босоножку, вернее, подростка двенадцати лет, и, не оставляя своего занятия, косясь одним глазом на Омара-Али, хрипло и отрывисто заметил:
– Уйти к Шамилю, стать мюридом хорошее дело – пешкеш. Но на кого оставить стариков, баранту, виноградник, Дзеди?
– Али, замолчи, шайтан! – оскалив зубы, свирепо крутнул волосатым лицом и шеей сын кузнеца. Выпуклая грудь его высоко и часто вздымалась. – Зачем на больную мозоль наступаешь? Зачем сыпешь на рану соль?
– И все же, – спокойно продолжая чистить оружие, твердо настоял Ахмат.
– Что пристал, как репей! У тебя не разного ли цвета глаза, а? Скажи да скажи ему! Сам не знаю… – Омар-Али сверкнул зрачками, в которых, кроме гнева, читалась и боль за своих родных. – А кто аул защищать от врага будет? Наши очаг и родник? Разве дым над моей крышей тоньше, чем из твоей? Разве я ходил к кому-нибудь занимать воду? Если так думаешь, пойдем за ту скалу, там поговорим с глазу на глаз!
– Я не о том… – Ахмат усмехнулся, вытер грязные пальцы о полы засаленного бешмета и сунул пистолет за зеленый пояс. – Сам знаешь, кунак, черные вороны каким-то чутьем, как огнедышаший иблис39, знают, в которой сакле потух очаг… они тотчас слетаются и начинают кружить над ней.
– Не каркай. – Омар-Али в мрачном раздумье прочистил трубку, спрятал в кисет. – У нас много родни, в беде не оставят, а баранов… баранов подарю Дзахо. Ему все равно собирать калым за невесту.
– Якши, хорошо, правильные слова сказал, брат. Женим нашего Дзахо, вместе с тобой в горы уйду. Только вот… неспокойно на душе… Не взялись бы Ахильчиевы мстить. Ее дядя пуще глаза берег честь племянницы.
– Ай-я, перестань! Какой месть? Какой секим башка?! И так известно: для того, чтобы поняла невестка, ругают кошку. Похоже, ты сам позабыл все наши обычаи? Что адат требует от ее родни? Правильно – по крайней мере возмущения и угроз… Что делает наша сторона? Почетные аксакалы приглашают в дом потерпевших. Дальше что? – горячо прорычал Омар-Али и в радостном возбуждении вновь хищно оскалил зубы. – Верно, родной, дальше шалтай-болтай за жирной бараниной и кукурузной лепешкой будет… Обсуждать-вспоминать будут похожие-расхожие похождения-приключения, а дальше – потерпевшие назначат выкуп… То ты не знаешь? Все закончится миром – уплатой маслаата. И нет тебе оскорбленных, нет потерпевших… Лишь доброе имя тех и других и пир до Небес во славу молодых!
– Слова твои – мед, дорогой, век бы слушал их! – запаленный напором дружки, воскликнул Ахмат. – Только ведь ты тоже не хуже меня знаешь, как бывает у нас… Тсс! – Он прикрыл ладонью искривленные губы, хитро мазнув взглядом по висевшему на стене ковру, что отделял их от спальни. – Ты знаешь наши тропы, Омар-Али, по которым может пройти лошадь и человек. Горская лошадь и горский человек. Но иногда лошади и человеку изменяет сноровка, и они… гибнут. Разве такого не было?
– Так погиб два года года назад отец Дзахо Бехоева. Но к чему ты клонишь? – насторожился сын кузнеца, понижая до сиплого шепота голос.
– А к тому… какой выкуп запросят Ахильчиевы? Может быть, нашего калыма хватит лишь на кольцо с пальца невесты! А может…
– Уо, замолчи, брат! Не будь овцой… В горах живут орлы… Разве в Аргуни не люди, разве не мужчины они – удержать за собой девушку? Да тогда бабьи шальвары нам, а вместо папах – платки на головы! Бици будет женой Дзахо… какую бы цену ни поставили Ахильчиевы. Наша и ваша родня продаст половину ульев с пасеки, свезем на рынок последние ковры, седельные чепраки и посуду, но выкупим! Помнишь, как пели нам матери:
…В ладонях сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместить.
Другие страны очень хороши,
Но наш аул дороже для души.
Так неужели не постоим за свой аул? Воллай лазун!
Великан Омар-Али вскочил на ноги, заходил по кунацкой, как зверь в клетке. Он был предан своему побратиму, тверд в решениях и краток в словах.
Глава 5
Несчастья, к которым готовишься, никогда не приходят; случается нечто худшее. Недолгой оказалась радость влюбленных. Уже к вечеру того же дня в Аргуни объявился отряд всадников из людей Ахильчиевых. С криками и ружейной пальбой помчались они по узким, горбатым улочкам к сакле Бехоевых.
Кто знает, был бы край ласкам влюбленных в тот день, если бы не неумолимая поступь судьбы, постучавшей каменным кулаком в двери их сакли.
При первых же выстрелах Дзахо вскочил с ложа, судорожно затянул учкур40 на поясе, рванул бешмет с сундука и черкеску… Бледная Бици со слепыми от страха глазами подала ему ружье и кинжал.
А у ворот уже харкал на непрошеных гостей захлебывающийся до хрипоты лай сторожевых псов, который перекрывал налитый свинцовой грозой голос Тахира:
– Эй, Бехоев! Выходи, вор! Если у тебя хватило смелости выкрасть нашу Бици, докажи, что ты мужчина! Выходи из своей норы, ламорой41… Мы всей Чечне докажем, что ты не таков, как думаешь!
От этих слов Дзахо вспыхнул, как порох, ворвался в кунацкую с обнаженной шашкой, оскалив зубы. Но повис на его руках верный Ахмат, а плечи сдавил Омар-Али.
– Погоди, брат! Успеем друг другу горла резать. Узнать надо, за кровью они пришли или…
– Пустите, псы! Трусы! Клянусь Аллахом, порублю вас вместе с Ахильчиевыми!
– Волла-ги, талла-ги! Не надо говорить таких слов, брат, от них делается больно… У тебя что, две головы? Подумай о своей Бици! – зарычал Ахмат. – Посмотри, в руках их ружья, в сердцах злоба! Смертью от них пахнет, брат!
Вздрогнул Дзахо, заскрежетал зубами. Тряхнул головой и, будто во сне, посмотрел на своих друзей. Пламя обиды угасло. Дзахо пришел в себя. Суровая, жестокая правда лишала его всякой надежды на счастье. Только что предававшийся безрассудной страсти, он был брошен чужой волей с небес на землю. Сознание своего положения потрясло его, и искры отчаянья вновь обожгли душу. «Выходит, зря пело мое сердце в ожидании счастья? И я напрасно обнадежил Бици, склонив ее к побегу со мной, опозорив девичью честь?!» Мысли одна черней другой бешено стучали в его голове, когда они все трое, ощетинившись ружьями, припали к бойницам-окнам, вглядываясь в силуэты всадников.
Их было семеро, увешанных оружием, гарцевавших на лихих скакунах вокруг своего вожака, потрясавших сверкавшими шашками и кремневыми ружьями. Тот, кто был одет богаче прочих, на поясе которого мерцало оружие с золотым и серебряным набором, и был Тахир – дядя Бици по линии матери, прославленный воин из рода Ахильчиевых.
Двое человек соскользнули с седел; высокие, с плоским верхом, как крыши саклей, папахи мелькнули у ворот. Длинными стволами ружей они пытались отгонять набрасывавшихся на них зубастых псов. Чуть погодя прозвучали два выстрела, в которые ввинтилось предсмертное скулье и жалобное подвывание издыхающих собак. И тотчас снова раздался хриплый, яростный голос Тахира:
– Дэлль мостугай! Не чеченцы вы, что ли, Бехоевы?! Позор хотите принять на ваш род? И ты хороша, племянница, точно оса! – знала, коварная, куда больнее ужалить свою родню! Что молчите? Вижу, что вы оба трясетесь за этой дверью.
– Несправедливые слова бросаешь, Тахир! Зачем вражду сеешь? – выкрикнул в окошко Дзахо, которому по-прежнему кунаки не давали выйти за дверь. – Разве обычаев гор не ведаешь со своими людьми? Зачем ворвался в мой дом, как враг, зачем собак застрелил, почему «селям» не услышали мои уши?! Знай, Тахир, мы с Бици любим друг друга! Перед Богом клянусь – жизни своей не пощажу ради нее! Призываю в свидетели Аллаха в Небесах и Мать-землю под ногами нашими, что буду любить Бици, буду служить ей как брат, даже больше, чем брат! Оставь оружие за воротами, Тахир, заходи в мой дом гостем и родственником… Будем друзьями… Назови свою цену, я выплачу за Бици калым, наши аксакалы готовы торговаться с вашими почетными людьми о маслаате. Зачем проливать кровь, разве соседи-аргунцы враги вам? Давай закончим все миром!
Все слышал Тахир, сидя в седле своего боевого коня… Но, видно, высоко в стременах от Матери-земли были его ноги, а в сердце его звенели иные струны. Зло рассмеялся Тахир над словами Дзахо. Где это видано, чтобы ему – прославленному джигиту, из знатного рода, указывал место бесславный аргунский пастух, чей кинжал не идет к благородному покрою одежды Ахильчиевых.
– Ты еще смеешь торговаться со мною, щенок? – Смех дяди Бици оборвался. Загорелое лицо его превратилось в смуглую бронзу, а глаза налились кровью. – Это правда, Бици, по своей ты воле с ним?
Забившаяся в угол девушка вздрогнула всем телом, заслышав грозный голос дяди. Накрыла голову одеялом, сжалась в комок. Тихий глубокий стон вырвался из ее груди, сердце сильнее забилось в тревоге.
– Так ты покажешься мне на глаза, трус? Будь проклят твой род и да растащат грязные псы ваши кости! – Конь взвился на дыбы под Тахиром, лицо его перекосила судорога бешенства.
Дзахо родился горцем, чеченцем, пусть байгушом42, но из храброго, гордого рода. Чеченская честь кровавой метелью ослепила глаза. Зарычав зверем, вырвался он из цепких рук Ахмата, бросился с шашкой к двери, но вперед него выскочил на двор дружка Омар-Али.
Сухим разбоистым залпом встретили его вынырнувшие из-за забора папахи… Семь выстрелов, один за одним. Весь двор заволокло едким дымом. Когда тот рассеялся, у Дзахо, выбежавшего следом, потемнело в глазах и зноем налился рот.
Омар-Али, его названый брат, огромный балагур и весельчак аула, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, но по-собачьи преданный дружбе, играющий своею и чужими жизнями… лежал перед Дзахо, распластав по сторонам свои волосатые богатырские руки. Распахнутые глаза его были устремлены к хмурому небу, грудь дырявленна пулями, словно по ней несколько раз кто-то сплеча ударил граблями. Пузырчатый ком блестевшей и лопавшейся крови торчал из его разверстого рта, похожий на красную гроздь винограда.
Закачалась земля под ногами Бехоева. Перед глазами выжегся, словно тавро, только лик торжествующего убийцы. Дзахо видел, как люди Тахира быстро перезаряжали ружья; подсыпали из рога пороху на полку, ловко доставали из газырей завернутые в промасленную тряпицу пули… Но быстрее оказалась его месть. Сбивая стоявшую у порога полупустую матару43, прыгнул Дзахо в сторону, цепко подхватил с земли винтовку Омара-Али и, не целясь, спустил курок…
Пуля Дзахо, точно свинцовый овод, вошла в левый глаз Тахира. Голова раскололась, как переспелый орех. Мозги вперемешку с кровью брызнули в разные стороны, роняя в клубы пыли горделивую папаху. Ошалевший жеребец, не чуя поводьев, понес зависшего в стременах хозяина, чертя на камнях его окровавленным челом алую вязь… Громкие крики отчаяния и горя огласили аул. Люди Тахира вскочили на лошадей и, рассыпая угрозы, помчались за конем своего господина.
* * *
Убийство одноверца на Кавказе отнюдь не простое дело, даже у горцев. Убийство близких соседей, соплеменника тяжелее вдвойне. Это равносильно тому, чтобы подписать себе смертвый приговор, «высечь из гранита кровавый ключ, коий будет клокотать для многих поколений. Но сейчас счеты как будто уравновесились»44. Пули Тахира убили Омара-Али, Дзахо убил Тахира. «По адату чаши крови и канлы должны были кончиться. Мудрые и спокойные старцы обоих селений будут ходить от Бехоевых к Ахильчиевым и обратно и в конце концов помирятся. На пиру, куда соберется вся мужская половина аула и где фамилии, пролившие кровь, прольют друг перед другом слезы сожаления и раскаяния, случится внегласный мир»45
Так думал Дзахо, но иначе – любящая своего избранника Бици.
– Нет, родимый! – едва слышно сказала она. – Здесь нельзя тебе оставаться. Я воспитывалась у дяди… хорошо знаю и его родню. Тахир был алдары46 – не верь языку богатых: кто из них миром отдаст меня за тебя? Ахильчиевы будут мстить… Вот если ты бы попросил у Ханапаши…
– Замолчи, женщина! Для меня просить – хуже нет. Все сказано и так – языком оружия.
– Тогда беги в горы… – задыхаясь от слез, прошептала Бици. – Я буду ждать тебя… уходи.
В самое сердце ужалили Дзахо эти слова. Его скулы окаменели, а изо рта, как показалось Бици, вырвался пожирающий огонь:
– Трусость рождает предательство. Если я уйду в горы, как же ты, моя бедная? Я не смогу взять тебя с собой.
– Это мертвые слова… в данном случае, брат. – В кунацкой объявился Ахмат. Бязевый бешмет его был весь перепачкан кровью Омара-Али, бездыханное тело которого он отвозил к кузнецу Буцусу.
При его появлении Бици без слов перешла на женскую половину, предоставив возможность мужчинам самим решить ее судьбу.
– Ты хочешь делиться мыслями с другими, Ахмат? – Дзахо блеснул подозрительным взглядом из-под воздетых бровей. Ахмат стоял у дверей сакли и вытирал с лица пот папахой. – Брось это занятье. На одного тебя хватило бы мозгов.
– Да пойми ты! Небом клянусь, права твоя Бици – уходить тебе надо! – Ахмат вдруг сорвал с бритой головы шапку, которая будто жгла его, с силой швырнул ее себе под ноги. Голос его дрожал, словно надорванный. – Бери коня и уходи, Дзахо, не будет тебе жизни в ауле, не будет покоя и остальным.
Ожесточенное сердце Бехоева смягчилось от этих речей – братская тревога слышалась в них.
– А как же Бици?! – Судороги страданий исказили лицо влюбленного. На бледном лбу его проступили бриллианты холодного пота. – Ее красота – жизнь моя!
– Согласен, красавица, глаз не оторвешь, ангельская красота, брат… Да только не жена она никому. – Глаза Ахмата от напряжения выкатились из орбит, в пачканной кровью бороде мелькнул влажный проблеск белых зубов. – Иная ягода – мимо не пройдешь, а съел – и могила. И знай, невеста еще не жена… Помнишь, что она сказала тебе? Ахильчиевы вернутся взять с тебя кровь.
Слова брата упали на Дзахо, как гром. Страшен он был в своем исступлении, схватившись за рукоять кинжала, и даже храбрый Ахмат отшатнулся от него.
Дзахо замолк. Скрестив руки на груди, он не отвечал больше ни на один вопрос. Тяжелым камнем легло на плечи Ахмата его молчание.
– Если женщина распустила язык, его сам шайтан не завяжет, – переломив себя, выдавил наконец Дзахо, посмотрел на перегородку, что отделяла женскую половину, а сам подумал: «Лучше умереть сейчас же, чем расстаться с Бици». Дзахо боролся с собою, следовало принимать решение. О, как не хотелось ему произносить всуе имени той, которую продолжал любить больше всех на свете, не хотелось делать ее мишенью пересудов и сплетен… Но правы были суровые доводы брата, истиной были и слова Бици. Что он и его любовь в сравнении с благополучием Аргуни? Сердце не хотело мириться со случившимся, но разве он, сын своей земли, вскормленный грудью горянки, мог изменить своему аулу и ради личного счастья навлечь на близких и родных людей горе? До кровной ли вражды сейчас в их горах, когда над всей прекрасной Ичкерией и над всем священным Кавказом сгущаются тучи беды и враг, стоящий за Тереком, в Кизляре, Моздоке, Внезапной и Грозной, вот-вот готов сотрясти Мать-землю и низвергнуть на нее небеса!..
– Пусть будет так, Ахмат. Богом клянусь, я уйду из аула. Ты знаешь, да и все люди наши знают: никогда в моем сердце не рождалось дурного, не было и не будет в нем ничего враждебного к вам! И больше не жаль вопросами, ответы не спасут меня, а лишь отравят последние наши минуты.
– Я с тобой уйду в горы, брат, – Аллах тому свидетель! Так хотел и Омар-Али. – Ахмат засветился огненной силой, взбадривая себя горячей клятвой, но Дзахо, глядя в раскаленный, преданный уголь его глаз, отрицательно покачал головой.
– Ты знаешь, Ахмат, с недавних пор у меня нет ни отца, ни матери… Бици – единственная отрада… И свет, и солнце она для меня, в ней одной заключена моя жизнь. Никого, кроме тебя, нет в нашем ауле, кто мог бы оберечь и позаботиться о ней… Так будут защитой ей ты и честь твоя! Будь ей отныне названым братом. Не так я думал строить нашу жизнь… но, видно, на то воля Всевышнего.
Все слышала Бици на своей половине, молчала, ломая в отчаяньи пальцы, кусала до крови нежные губы, царапала щеки, умываясь слезами от близкой разлуки с любимым… Но что могда сделать несчастная девушка, не смевшая ослушаться мужа, не смевшая пойти против обычаев своего народа, не смевшая покрыть себя несмываемым позором?..
На дымном, тревожном рассвете, после ночного намаза, увешанный оружием, закутанный в бурку и башлык, тайно уехал из аула Дзахо Бехоев.
Проводить его в путь вышли Ахмат и Бици. Было промозгло, угрюмо и ветрено. В ущелье Аргуна стоял густой и белый, как взбитая вата, туман. Чудилось, что все окрестные селения сами укрылись в нем. Лишь кое-где высокие пики хребтов прорывали седые космы, высились над туманом, будто зависли в воздухе. А еще выше, в брюхатой хмури туч – восходящее солнце румянило робким пурпуром свинцовое крыло неба.
– Прощай, Ахмат. Жди меня, Бици. Да хранит вас Аллах. Ля илляха иль алла…
Путники воздели руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лица руками, спуская их по подбородкам и соединяя одну с другою.
Плетка рассекла воздух, конь сорвался с места, всадник истаял в тумане. Ахмат и Бици еще долго стояли на месте, мелкий колючий дождь царапал им лица, а ветер слизывал со щек мокрую сыпь. Каждый думал о своем, глядя на поглотившую горца тьму и стену тумана, но в одном сходились их мысли: «До сего дня Дзахо был подобен клинку, зарытому в землю. Похищение невесты, месть за друга – убийство Тахира, уход в горы – все это вырвало его из небытия, отчистило от ржави, и он заблистал во всей красе джигита-воина. Весть об этом облетит Чечню птицей, и старики, сидя у огня, скажут: “Хоть этой храбрый юноша и был всегда горцем, но только сейчас он поднялся на вершину горы”».
Глава 6
С уходом в горы другая жизнь закружила Дзахо. И вновь перед ним встал непростой выбор: уйти ли под знамена имама Шамиля, стать мюридом и бить русских или вступить на суровую тропу абречества47, посвятив свою жизнь грабежу и мести. «Хороший абрек, настоящий абрек должен иметь много верных друзей. В каждом ауле, в каждом далеком пастушьем хуторе. Абрек, который хочет быть большим абреком, обязан иметь своих людей не только в Чечне. В Дагестане. В Ингушетии. В Осетии. В Кабарде и Черкессии. И еще – он должен знать дороги. Тропы людские, звериные тропы. Пещеры, лесные поляны и родники. Приметы погоды. И горы, вершины которых вместо звезд. В селениях горцев он должен знать не столько кривые улочки и переулки, как задние, скрытые дворы. С их сапетками, в которых кукуруза. С их садами, плетнями, канюшнями и амбарами.
Настоящий абрек, помимо того, что известно всем, вынужден знать и то, что обыкновенных людей не интересует вовсе. Он обречен первым взглядом отличать друга от врага. Многое должен знать истый абрек, выбравший путь волка»48. И еще, по рассказам отца помнил Дзахо: «Абреческая судьба не ведает оплакивания погибших. Убитого абреки могут оставить врагу. Абречество – это не война. Абречество – это единоборство. В абречестве ты один за себя, один за всех и один против всех. Но главное, абрек не должен иметь семьи – это его ахиллесова пята – слабое место, куда в первую очередь стараются пустить свои острые жала враги».
К последнему доводу не был готов недавний отшельник Дзахо. Выше сил его было сие испытание. Больше жизни своей любил он Бици. Много костров пережег Дзахо, скитаясь в дремучих лесах и угрюмых ущельях Чечни, многое передумал, прежде чем сделать выбор.
Как-то, охотясь на оленя, будучи в харачоевских лесах близ Ведено, столкнулся Дзахо с отрядом Занди.
Кто-то из его воинов-разведчиков, ехавших в авангарде, услышал тающий в скалах хлопок далекого выстрела, крикнул своим:
– Дже!49
На зов примчались мюриды Занди, спешились, выслушали Алаудди и разлетелись по чаще пчелами. Выследили, окружили, вышли с ружьтями наперевес к месту, где свежевал оленя Дзахо. Завидев чужаков, юноша прыгнул барсом за поваленное дерево, взвел курок, решив дорого продать свою жизнь. В висках застучала кровь, вызванивая напутственные слова Ахмата: «Будь осторожен в горах, брат. Тропы Ичкерии безопасны для горца, но опасны на этих дорогах кровники…»
– Воллай лазун! Мы не будем стрелять, человек. По виду ты горец, коль носишь папаху на своей голове. Биллай лазун. Выходи с миром. Я хочу только поговорить с тобой.
Высокий, гололобый горец, с закинутыми за спину концами белого башлыка, властным жестом приказал своим людям опустить ружья.
– Уо! Селям алейкум, уважаемый. Отчего же не поговорить нам с тобой.
Дзахо с оглядкой тоже опустил к земле ствол своего ружья, доверился словам краснобородого мюршида, папаху которого оплетала белая чалма. В обращении к нему его назвали человеком, а это для горца не пустое понятие.
«Уходя на войну, горец клянется на оружии: человеком родился – человеком умру! Правило горцев гласит: продай поле и дом, потеряй все имущество, но не продавай и не теряй в себе человека. Проклятие горцев: пусть не будет в вашем роду ни человека, ни коня».50
Вплотную подошли они друг к другу, остановились. Дзахо напряженно смотрел в жгучие глаза незнакомца. Несмотря на то, что тот был облачен в линялую, видавшую виды черкеску и папаху, он был величаво надменен и спокоен, как шейх51. Юношу поразила и отчасти сковала многозначительность и суровая строгость выражения на его лице.
– Аллах милостив к тебе. Хороший выстрел. – Незнакомец едва уловимым кивком головы указал на тушу убитого оленя, чьи ветвистые рога поднимались над жухлой травой.
– Аллах велик… – согласился Дзахо и предложил почтенному мюршиду с его послушниками разделить с ним трапезу.
На тонких губах Занди, растянутых в краях, отобразилось подобие усмешки. Смелый юноша все больше вызывал симпатию у слуги имама. И то правда, Дзахо был красив: по-чеченски красив, по-осетински, по-мужски. Не столь лицом, как станом и плечами в косую сажень. Недаром рыдала всю ночь Бици, а провожая любимого, глядя вослед, шепнула своему сердцу: «Такой красивый, такой красивый, и должен скрываться, как зверь, от людей…»
…У рубиновых углей, на которых жарились на деревянных вертелах почки, сердце и прочие сочные куски оленины, Дзахо скупо поведал свою историю. Все рассказал гонимый судьбою юноша, ничего не утаил от ушей внимательно слушавшего его Занди. Ничего не ответил мюршид, лишь огладил пальцами бороду.
Когда мясо было готово, люди свершили омовение и на разостланных бурках прочли полуденную молитву. Лишь после трапезы Занди подозвал к себе юношу и, пристально глядя тому в глаза, молвил:
– Тяжела твоя история, Дзахо… тянет камнем на дно… Но ты уже носишь усы, а это честь для мужчины…
Наставник, сидя под деревом на скатанной бурке, вытянул вперед затекшие ноги. Их ступни были в синих потрепанных чувяках, а икры туго обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым кожаным шнурком. Перебирая в руках костяные четки, не шевелясь, он долго глядел на далекие горы и вдруг, задержав в пальцах очередное зерно, глухо сказал:
– Каждый человек, коли родился на свет, еще не человек. Каждая птица, которая летает, еще не орел. Однажды наш проповедник Шамиль спросил у своего слуги Магомеда Тагира аль-Карахи:
– Сколько человек живет в Дагестане?
Магомед Тагир взял книгу с переписью населения и, заглянув в нее, ответил.
– Не об этой цифре спрашиваю я! – разгневался наш имам. – Я спрашиваю о настоящих людях.
– Таких данных у меня нет, почтеннейший, – склонился до земли писарь.
И знаешь, что ответил ему Шамиль? – Занди мельком взглянул на сидевшего у его ног Дзахо и, вновь отвернувшись в сторону гор, щелкнул костяшкой на связке.
– В ближайшем бою не забудь их пересчитать, Магомед, – приказал имам.
Ты сам родился в наших горах, Дзахо, а потому слышал, у нас говорят: «Чтобы узнать настоящую цену человеку, надо спросить у «семерых»:
У беды
У радости.
У женщины.
У сабли.
У серебра.
У вина.
У него самого.52
Да, человек и свобода, человек и честь, человек и отвага сливаются в одно понятие. Горцы не представляют, что орел может быть двуликим. Такой орел, – наставник презрительно улыбнулся и сплюнул себе под ноги, – может быть только у русских свиней. Мы же таких двуликих «орлов» называем ворóнами. «Человек – это не просто название, но звание, притом звание высокое, и добиться его не просто. Посмотри, Дзахо. – Занди указал рукой рукой на сапфировый купол небес. – В нашем небе парят орлы. Правда, их много? Но ведь немало и храбрецов, сложивших голову за родную землю. В каждом орлином крике весть о подвиге, об отваге. Каждый крик – это песня битвы. Да… орлы летают высоко, – наставник трякнул крашенными в красный цвет ногтями по колену, – в то время, как другие птицы вечно суетятся и шумят возле проса. Иные из них, как только повеет холодом, изменяют Кавказу и улетают в чужие края. Орлы же, какая бы ни случилась зима, сколько бы выстрелов ни пугало их, не покинут родных высот…»53 То, что наши погибшие воины превращаются в орлов,.. я знаю, вымысел… красивая легенда. Людям хочется, Дзахо, чтобы так было. Но знаю я и другое, что одному наибу54, который вознесся в своей гордыне и славе слишком высоко, Шамиль сказал: «Даже орлы, чтобы стать людьми, спускаются на землю…» Спускайся и ты, – мюршид похлопал по плечу юношу, – со своих высот. Все люди родились здесь, на земле. Горец потому и называется горцем, что он человек гор, человек земли. А в песнях и легендах пусть люди летают… Когда в сакле рождается сын, говорят: «Циар бугеб, циар батаги. – А имя ему пусть принесет слава». Так уж повелось: имя без дела – пустой звук. Нет награды больше чем имя, нет сокровища дороже жизни. Береги это!
А теперь ответь мне! – Занди с силой сжал плечо Дзахо и колко впился взглядом в лицо аргунца, точно желая заглянуть в его душу. – Кому на руку будет твоя месть? Твоей Бици, твои родственникам, твоему аулу?! Я слышал об Ахильчиевых – смелые люди, их род воинов. Скорее всего, они рано или поздно отыщут тебя и убьют. Но даже если Аллах осветит твой путь удачей и ты убьешь их всех… что изменит это? Твоя невеста к тому времени станет седой, а ты не сможешь зачать и воспитать детей – воинов, которые так нужны нашим родным горам. Кровная месть не рождает людей. Так ответь мне – для кого на руку будет эта резня?!
Поник взором Дзахо, склонил чело перед наставником, пред которым преклонялась не одна сотня горячих голов, чье слово для них было законом.
– Теперь ты понял, кому согреет сердце твоя смерть или смерть Ахильчиевых?.. – Занди испытующе опять заглянул ему в глаза.
– Да, учитель… – смущенно пробормотал Дзахо и еще ниже опустил голову, не выдержав взгляда мюршида.
– Ты, конечно, свободен в выборе… У каждого ковра свой узор. На каждой сабле своя надпись. – Занди неторопливо провел мозолистой от шашки и узды ладонью по своему наголо выбритому бугристому черепу, по-лисьи прищурил умные, чуть навыкате глаза и добавил: – Но помни и другое: здесь, в наших хребтах и долинах, в наших снегах и горах Творцом была явлена миру колыбель человечества. Отсюда по всему свету разошлись различные племена… Здесь, закованная камнем и льдом Кавказа, хранится тайна мира, и мы – горцы – поставлены Аллахом охранять эти тайны, беречь их для наших потомков. Священный Газават55 – вот дорога в рай. А потому… рай наш под тенью сабель! И последнее. – Краснобородый гази56 страстно и жадно воззрился на юношу, словно хотел выпить из него остатки сомнения. – Пока ты будешь со мной, твои кровники не посмеют тронуть родню вашего тейпа. Не посмеют Ахильчиевы поднять руку и на тебя… потому что общая борьба с внешним врагом объединяет враждующие между собой аулы, а кровников делает братьями. Но и ты, Бехоев, если примкнешь к нам, дашь клятву, что не будет точить свой клинок о скалы на род Ахильчиевых.
Дрогнули скулы беглеца-отшельника, кровь ударила в виски, но вспомнился мирный дымок Аргуни, лица родни: дядя Халид, тетя Резеда, осиротевшие кузнец Буцус со своей старухой, верный Ахмат и Бици, маленький, только севший на коня Арби и кудрявая Дзеди – озорная сестренка Омара-Али, без колебаний отдавшего за него свою жизнь… вспомнилось и многое другое, что согнуло месть Дзахо в бараний рог.
«Если в семье рождается сын – под подушку кладут кинжал. На кинжале надпись: “У отца была рука, в которой я не дрожал, будет ли у тебя такая?”»
Дзахо посмотрел на свой кинжал – на его лезвии покоилась такая же надпись. Потом оглянулся по сторонам – его окружали суровые, сосредоточенные лица послушников-воинов.
– Богом клянусь! – кратко прозвенел в напряженной тишине его ответ краснобородому Занди.
* * *
С того дня прошло более года. За этот срок Дзахо трижды побывал в Дагестане, дважды издалека видел имама, не раз участвовал в набегах за Терек, ходил в Кабарду – страну быстроногих лошадей, корабчил57 скот, не раз скрещивая оружие с идущим по пятам врагом.
Из их последнего похода к Амир-Аджиюрту, занятому русскими, отряд Занди вышел победителем: сабли правоверного гнева обагрились кровью гяуров, а плетки храбрых джигитов угнали в Чечню целый табун лошадей неприятеля. «Аминь, – сказало солнце, освещавшее поле брани. – Аминь, – сказали и горы, – пусть в огненную пасть джаханнама 58 попадут те, кто сам на земле творил ад!»
Но не угнанные лошади русских, не серебро, не отары овец, не ковры и невольницы, прежде добытые их саблями в Табасаране вместе с аварскими воинами Хаджи-Мурата, наполняли сейчас думами отряд мюршида Занди. Все это вряд ли обрадует их вождя – великого Шамиля из Гимры. Имам с нетерпением ожидал в своей ставке от похода Занди самых свежих и самых точных вестей о дислокации русских войск, о их состоянии и намерениях.
Увы, худшие опасения Шамиля подтверждались: русские солдаты, много русских солдат Белого Царя готовились перейти бурливый Терек, усилить и укрепить разбросанные по равнинной Чечне форты и, по всему, двинуться с огнем и мечом вглубь ичкерийских лесов и гор Дагестана.
Все эти черные мысли равно кружились и в голове Дзахо, стерегущего в Качкалыкской балке вместе с пятью часовыми угнанных лошадей, но сердце его замирало в ту ночь от других настроений. Нынче, с разрешения Занди, пока их отряд не ушел далеко от Аргуна, он собирался в очередной раз навестить свой аул, увидеть родительский дом, крепко обнять любимую Бици, а главное, рассчитаться с калымом – отдать последних пять лошадей к прежним двадцати, что затребовали за невесту ненасытные Ахильчиевы.
Дзахо не сомневался: преданный Ахмат, оберегавший все это время Бици, отгонит лошадей Ханупаше, как это было уже не раз, а он наконец-то сбросит с себя обязательства, тяжелым ярмом давившие его плечи.
1
«Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха!» (араб.) – такова краткая формула символа веры ислама, одной из трех мировых религий.
2
«Аллах превелик» – такбир – произнесение молитвенной формулы. Многократный такбир – одна из характерных особенностей мусульманского культа – входит, в частности, в призыв на молитву – азан и в саму молитву. Она служит и боевым кличем мусульманских воинов.
3
Гяур (турецк.), кафир (араб.) – неверующий, неверный. Кафирами (гяурами) считают всех немусульман, а также мусульман, впавших в неверие, нарушивших основы предписаний ислама и не раскаявшихся в этом.
4
Божьи враги; ругательство, в основном направляемое по адресу иноверцев (чеченск.).
5
От арабск. «амма» – стоять впереди, предводительствовать. Шамиль (1797–1871) являлся руководителем освободительной борьбы горцев Северного Кавказа против царских войск и местных феодалов, развернувшейся под лозунгом газавата – священной войны. После смерти своего учителя Кази-Мухаммеда и его наследника Гамзат-бека, которые были первыми имамами и проповедниками газавата, Шамиль стал третьим имамом Дагестана и Чечни (1834). Шамиль был образованным человеком, отменно знал богословие и светские науки, обладал незаурядным военным талантом, умением вдохновить людей на самопожертвование. Война под его руководством длилась 25 лет (с 1834 по 1859 г.). В 40-х гг. Шамиль одержал ряд крупных побед над царскими войсками и стал главой военно-теократического государства – имамата в Дагестане (1848), массовой базой которого являлись последователи мюридизма. Однако блестящие победы русского оружия, внутренние противоречия в имамате, измена наибов – глав чеченских и дагестанских обществ, стремление уставшего, обескровленного от войны народа к мирному труду привели к резкому спаду движения. После ряда сокрушительных поражений Шамиль укрылся в ауле Гуниб с небольшим отрядом, и когда крепость пала (26 августа 1859 г.), имам сдался. Вместе с семьей он был сослан в Калугу, где жил до 1870 г., отпущен на жительство в Мекку, но, не доехав до нее, умер в Медине в 1871 г.
6
Ольшевский М. Я. Записки. 1844 и другие годы.
7
Намаз (перс.), салят (араб.) – мусульманская каноническая молитва.
8
От араб. «маула» – владыка, господин – служитель культа в исламе, обычно выбираемый мусульманами из своей среды. Под это понятие подходят имамы мечетей, их заместители (наиб-имамы), а также мусульманские служители культа, действующие вне мечети. Мулла помимо службы в мечети часто сочетал свои функции с делами судьи, нотариуса, преподавателя.
9
Намазлык (мусаллá, джайнамáз) – названия молитвенного коврика. Размер его обычно ограничен площадью, позволяющей совершить поклон (суджýд), стоя на коленях и касаясь ковра носом и лбом. Использование намазлыка для молитвы не обязательно. В этом качестве можно использовать предметы одежды, листья и т. п.>
10
Ракат (араб.) – цикл произносимых на арабском языке формул, а также молитвенных поз и движений, составляющий основу мусульманской молитвы.
11
Мусульманская формула клятвы именем Аллаха (араб.).
12
Под Салатавией разумеется гористое пространство Дагестана между Сулуком, от Чирюрта до Ашильты, хребтами Мичикаль и Соук-Булак, отделяющим ее от Андии и Гумбета, и отрогом, отходящим у верховьев Акташа от Андийского хребта. Салатавия получила свое название от горы Салатау.
13
Мухáммед, Мухáммад, Магомéт (ок. 570–632) – великий арабский религиозный и политический деятель, основатель ислама и первой общины мусульман. По мусульманским представлениям, Мухаммед – пророк и посланник Аллаха, через него людям был передан текст священной книги – Корана.
14
Гази – мусульманин, принимающий участие в войне за веру – газавате; почетный титул отличившихся в войне за веру. То же самое, что муджахид (араб. – борец за веру, за святые идеалы, дословно – участник джихада).
15
Кровная месть (тюрк.).
16
Покрывало белого, синего, реже черного цвета, в которое женщины-мусульманки закутываются с головы до ног при выходе из дома.
17
Название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана. Первоначально слово «сура» означало отдельные, обычно короткие «божественные откровения». Впоследствии оно приобрело значение: «часть коранического текста», «глава» священной книги мусульман.
18
Сад (араб.) – место, где праведники обретут полное блаженство, одно из названий рая в исламе (другие названия – «сад благодати», «эдемские сады», «сад вечности», «обитель мира» и др.
19
Искаж. перс. «чешмбенд» – повязка для глаз – черная густая сетка из конского волоса, закрывающая лицо и грудь женщины. Дополнение к парандже.
20
Горская сумка.
21
Вета – чеченское кушанье, приготовляемое из размолотого льняного семени с добавлением кусков бараньего курдюка. Едят ее в горячем виде, приправленной медом или сахаром.
22
Кроме салята (намаза) – канонической мусульманской молитвы, существуют также молитвы-просьбы – дуа, ночные молитвы – вирд, мунаджат и др.
23
Под бурдюками разумеется обращенная шерстью наружу и сшитая козлиная, баранья, бычья, буйволиная кожа с отверстием, оставляемым у ноги или шеи, через которое он надувается или вливается в него жидкость. В бурдюках на Кавказе перевозится вино, вода, нефть и другие жидкости. Небольшие бурдюки употребляются чеченцами и другими горцами и при переправах через реки, из которых один пустой, но надутый привязывается к животу, а другой, с вещами и оружием, к спине // Ольшевский М. Я. Записки.
24
Во имя бога милостивого, милосердного (араб.).
25
Курбан-байрам (тюрк.) ид аль-адха (араб.) – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман (второй – ид аль-фитр). Начинается 10-го числа месяца зу-ль-хаиджа (12-го месяца мусульманского лунного календаря), в день завершения паломничества в Мекку, и длится три-четыре дня. В этот день в долине Минá близ Мекки паломники приносят в жертву животных в память о том, как Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. То же самое делают верующие по всему мусульманскому миру. В ритуал праздника входит особая молитва. Во время Курбан-байрама принято посещать могилы предков, наносить визиты друзьям, делать подарки близким и обездоленным. Организуется пышная праздничная трапеза.
26
Гамзатов Р. Мой Дагестан.
27
Медресé (араб. мадраса, от дараса – изучать) – среднее и высшее мусульманское учебное заведение для подготовки служителей культа, учителей начальных мусульманских школ – мектебов. Программой предусмотрено изучение Корана, правил его чтения и толкования, хадисов, истории ислама.
28
Дервиш (перс. – нищий, бедняк) – общий термин для обозначения полноправного члена суфийского братства. В Персии, Средней Азии, Турции и на Кавказе слово «дервиш» употребляется также в более узком значении – бродячий музыкант, поэт, мистик-аскет.
29
Кумуз, пандур – традиционные струнные инструменты горцев.
30
Гатуев В. Перевалы. 1971.
31
Имам (от араб. амма – стоять во главе предводительствовать) – почетное звание высших духовных авторитетов – основателей религиозно-правовых школ – мазхабов, руководителей крупных мусульманских общин и т. д.
32
Гамзатов Р. Мой Дагестан.
33
Адат, урф (араб.) – обычаи, правила поведения, принятые той или иной группой людей или действующие в определенной местности и соблюдаемые главным образом в силу сложившихся традиций.
34
Калым (тюрк.) – брачный выкуп, уплачиваемый женихом, его родителями или другими родственниками за невесту. У мусульманских народов калым предоставляется не самой невесте, а ее родителям или родственникам и становится собственностью последних.
35
Отрывок из дагестанской песни (перевод Я. Козловского).
36
Отрывок из дагестанской песни (перевод Я. Козловского).
37
Спасибо (чеченск).
38
Уразá (тюрк.), рузá, рузé (перс.) – пост – одно из пяти основных предписаний («столпов») ислама. Обязателен для взрослых, здоровых, ритуально чистых мусульман в течение священного месяца рамадан. Заключается в полном воздержании от пищи, питья, супружеской близости и курения в светлое время суток, с наступлением темноты запреты снимаются. От поста освобождаются больные, беременные и кормящие женщины, дети, старики, люди, находящиеся в пути или участники военных действий.
39
Иблис (дьявол, сатана) – имя ангела, низвергнутого с небес Аллахом и ставшего врагом Аллаха, его называют также Шайтан (как главу всех злых духов). Согласно Корану, Иблис был единственным из ангелов, который ослушался Аллаха, когда тот приказал им пасть ниц перед только что сотворенным Адамом. За это Иблис был изгнан с небес на землю и обречен на муки ада.
40
Иблис (дьявол, сатана) – имя ангела, низвергнутого с небес Аллахом и ставшего врагом Аллаха, его называют также Шайтан (как главу всех злых духов). Согласно Корану, Иблис был единственным из ангелов, который ослушался Аллаха, когда тот приказал им пасть ниц перед только что сотворенным Адамом. За это Иблис был изгнан с небес на землю и обречен на муки ада.
41
Ламорой – презрительное название горце.
42
Бедняк.
43
Кожаное ведро.
44
Гатуев К. Зелимхан.
45
Там же.
46
Сословное название феодалов.
47
Абрек (переселенец, беженец – кавказск.) – в терминологии времен Шамиля человек, бежавший от русских и поселившийся на территории, подвластной имаму. В русском языке приобрело значение – бандит, грабитель, налетчик.
48
Гатуев К. Зелимхан.
49
Тревога, опасность.
50
Гамзатов Р. Мой Дагестан.
51
Шейх (от араб. шаха – становиться старым, стареть) – почетное наименование видных суннитов и шиитов, богословов, знатоков и преподавателей религиозных дисциплин, людей известных своим благочестием. В суфизме шейх – наставник (мюршид), под руководством которого проходили подготовку начинающие суфии.
52
Гамзатов Р. Мой Дагестан.
53
Там же.
54
Имеется в виду аварец Хаджи-Мурат; знаменитый, бесстрашный наиб Шамиля, имевший тяжелый конфликт с имамом, вынудивший его в конце концов перейти на сторону русских.
55
Газавáт (от араб. газв – набег) – война за веру. Примерно то же значение несет в себе понятие Джихáд (араб. усиление) – борьба за веру. «Джихад меча» – вооруженная борьба с неверными, павшему в которой уготовано вечное блаженство в раю. Джихад в широком смысле трактуется как приложение максимальных усилий для достижения экономической, политической, религиозной и военной мощи мусульманского мира.
56
Гази: 1) мусульманин, принимающий участие в войне за веру – газавате; 2) почетный титул отличившихся в войне за веру, стал частью титулов ряда мусульманских правителей.
57
Корабчить – захватывать, воровать, отбивать.
58
Джахáннам (араб.) – геенна, место, куда попадают после смерти неверные и грешники, одно из основных названий ада в исламе. Синонимы – «Огонь», «Пламя», «Пропасть» и т. д.